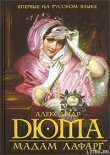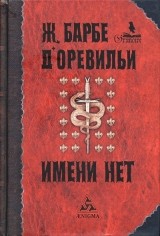
Текст книги "История, которой даже имени нет"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
И хотя мать и дочь были по-своему привязаны друг к другу, хотя они никогда не разлучались и делили все повседневные заботы, каждая замкнулась в себе, так и жили они в полном одиночестве одна подле другой. Сильная духом баронесса страдала от одиночества меньше, чем дочь: перед внутренним взором мадам де Фержоль постоянно вставал милый образ, вызванный из небытия воспоминаниями, пусть даже страстная любовь казалась ей теперь греховной. Тогда как Ластени, по своему складу чувствительная и хрупкая, страдала в полной мере; к ней не приходили воспоминания, ее скрытые душевные силы еще не расцвели, даже не проснулись. Правда, одиночество вызывало в ее душе не острую, а ноющую и смутную боль; впрочем, все ее чувства были такими же смутными и неотчетливыми… Эта ноющая боль донимала ее с детства, но беда в том, что люди ко всему привыкают. Ластени рано привыкла к своей безнадежной заброшенности, к унылому городку, где родилась и получала жалкую толику света, никогда не видя горизонта из-за сплошной стены гор, привыкла к безлюдью родного дома. Сословные перегородки, которые вскоре были сломаны, тогда еще существовали, и мадам де Фержоль, богатая и знатная, никого из соседей не принимала, поскольку среди них не было людей ее круга. Она приехала сюда с мужем, бездумно счастливая, и не нуждалась ни в каком обществе. Ей казалось, что чужие люди, приблизившись, способны повредить ее счастью и обесценить его. Когда смерть похитила ее любимого и счастье разрушилось, ей не понадобились утешители. Она продолжала жить в уединении, не выставляла горе напоказ, со всеми держалась учтиво и сдержанно, но неуклонно, хотя ненавязчиво, никого не оскорбляя, давала понять окружающим, что они ей неровня. Жители городка со своей стороны тоже научились держаться от нее на почтительном расстоянии. По происхождению и положению она была выше их, они понимали, что не вправе обижаться, к тому же объясняли ее необщительность скорбью о покойном. Все справедливо полагали, что в этой жизни вдову удерживает только дочь, знали, что баронесса богата и что в Нормандии у нее остались обширные владения, а потому заключали: «Она не из наших мест, вот придет пора выдавать дочку замуж, и уедут они в свои поместья». В округе не найти было подходящей партии для мадемуазель де Фержоль, а разве мадам расстанется с ней, коль скоро никогда от себя не отпускала, даже в монастырь в соседнем городе на воспитание не отдала.
Мадам де Фержоль была в полном смысле слова единственной наставницей Ластени. Она обучила дочь всему, что знала сама. В действительности весьма немногому. В те времена благородных девиц обучали только хорошим манерам и тонкости чувств, большего от них не требовалось. Начав выезжать в свет, они ничего не знали, но многое примечали. Нынешние девицы многое знают и ничего не примечают. Их ум притупился от изобилия сведений, и они утратили главное достоинство наших бабушек – проницательность. Мадам де Фержоль не сомневалась, что, постоянно находясь рядом с ней, дочь переймет и манеры, и тонкость, поэтому главной ее заботой было обратить юное сердце к Богу. Сердце Ластени, восприимчивое от природы, охотно обратилось к Всевышнему. Не имея возможности излить душу матери, Ластени стала изливать ее в молитвах перед алтарем, но доверительные отношения с Богом не заменили ей тех, которых она была лишена. Чувствительной слабой душе недоставало возвышенности, чтобы стать по-настоящему религиозной и обрести в Боге счастье. В девушке, при всей ее чистоте, ощущался недостаток духовности, вернее, переизбыток телесности, и он мешал ей быть счастливой в Боге, и только в Боге. С простодушной верой она исполняла свой христианский долг, ходила с матерью в церковь, посещала вместе с ней бедных – мадам де Фержоль любила помогать бедным, – причащалась в положенные дни, но тень не сходила с юного белоснежного лба. Баронессу заботило, откуда взялось уныние при таком благочестии, и она не раз говорила: «Тебе, видно, живости недостает». Безжалостная наблюдательность и безжалостная забота! Ах, если бы эта разумная, точнее, безумная мать просто обнимала свою грустную девочку, покоила бы на теплом материнском плече головку, отягощенную грузом роскошных пепельных волос и грузом невысказанной печали, то прояснилось бы личико, прояснился бы взгляд, прояснилось бы сердце! Но мать не обнимала ее. Она себя сдерживала. Ластени всегда не хватало материнского тепла и понимания, при котором не нужно и слов; мать не стала ей участливым другом, и подруг у нее тоже не было. К началу этих событий душа несчастной затворницы готова была уже задохнуться…
III
Великий пост подходил к концу. В Святую субботу, последнюю субботу Великой четыредесятницы, когда служат Навечерие Пасхи, в десять часов утра мадам и мадемуазель де Фержоль возвращались домой после заутрени. Их дом располагался на главной площади городка, прямо напротив церкви, выстроенной в XIII веке в тяжеловесном романском стиле, что вполне соответствовал тяжеловесным представлениям обращенных в христианство варваров, которые повергались ниц перед Распятием в самоуничижении и страхе. Квадратная площадь, вымощенная круглыми булыжниками, так называемыми «кошачьими головами», была настолько мала, что мадам и мадемуазель де Фержоль, не пропускавшие ни одной службы, успевали пересечь ее под дождем, не промокнув. К какому стилю можно отнести их громоздкий обширный дом – неизвестно, но он был моложе церкви. В нем жили многие поколения предков барона де Фержоля, правда, теперь дом не отвечал ни вкусам, ни требованиям комфорта уходящего XVIII века. Неуютное древнее строение – предмет постоянных насмешек изобретателей различных удобств и устроителей праздников, но если сердце хозяина не очерствело, то все насмешки ему нипочем и он никогда с ним не расстанется. Только окончательное разорение может вынудить его на подобный шаг, только оно способно выгнать его из родового гнезда, – горчайшая участь! Почерневшие стены обветшалого дома, свидетеля наших детских игр, обиталище душ наших предков, проклянут нас, если мы продадим его по доброй воле, поддавшись подлой презренной страсти к суетным новомодным ухищрениям и праздности. Мадам де Фержоль, чужая в Севеннах, вполне могла бы избавиться от громадного старого дома после смерти мужа, однако она осталась в нем жить, и не только из уважения к фамильному владению ушедшего супруга, но и потому, что нелепые серые стены представлялись ей нерушимыми сверкающими стенами Небесного Иерусалима – такими в день приезда увидела их ее любовь. Наши деды, подобно библейским патриархам, мечтали плодиться и размножаться, а потому строили просторные хоромы для многочисленного потомства и обширного штата прислуги. Смерть понемногу опустошила дом, и одинокие мать и дочь затерялись в нем, как в бескрайней пустыне. Нас впечатляет и простор полей, и простор чертогов – просторный, хотя неприветливый и холодный дом, «особняк де Фержолей», как называли его в городке, поражал всякого высокими сводами, запутанными коридорами и необычайной лестницей, такой широкой, что на ней могли бы поместиться в ряд четырнадцать всадников, вздумай они одолеть сотню крутых ступеней. По преданию, ее действительно штурмовали верхом в ту эпоху, когда Жан Кавалье возглавил в этих краях отряды протестантов после отмены Нантского эдикта [17]17
Нантский эдикт издан французским королем Генрихом IV в 1598 г., признавшим права протестантов, после чего были прекращены религиозные войны. В 1685 г. Людовик XIV отменил его, что повлекло за собой многочисленные восстания. Кавалье Жан (1679–1740) возглавил восстание в Севеннах, потерпев поражение, бежал в Англию.
[Закрыть]. Вероятно, лестница с крутыми ступенями – такие обычно ведут на колокольню – осталась единственным воспоминанием о разрушенном замке, который в трудные времена обедневшие потомки не смогли восстановить в прежнем грубоватом великолепии. Вот здесь, на лестнице, в детстве часами просиживала Ластени, одинокая девочка без подруг и без игр, отгороженная от внешнего мира скорбью и суровым благочестием матери. Наверное, пустая холодная лестница казалась маленькой мечтательнице олицетворением ее собственной пустой, не обогретой материнской лаской жизни. Души, которым уготован несчастливый удел, любят сами терзать себя в ожидании грядущих страданий. Может быть, изнуренная давящим одиночеством девочка погружалась в изнуряющую пустоту, чтобы усугубить душевную боль? Обыкновенно мадам де Фержоль рано утром спускалась вниз и до вечера ни разу не поднималась в свою комнату. Она полагала, что Ластени весь день резвится в саду, и не догадывалась, что заброшенный ребенок все время сидит на ступенях, то немых, то гулких. Девочка надолго застывала, сгорбившись, подперев ладонью щеку, – так сидят все страдальцы, и недаром великий Дюрер избрал эту позу для своей Меланхолии. На Ластени находило оцепенение, она словно бы наблюдала, как по страшной лестнице поднимается, приближаясь к ней, ее злобный рок. Будущее, точно так же, как прошлое, посылает к нам своих духов, и выходцы с того света вряд ли страшнее тех, что глядят на нас из грядущего. Нет сомнения, место, где мы живем, тоже влияет на нашу судьбу. Серый каменный дом походил на сову или громадную летучую мышь, что упала на дно ущелья и лежит с распростертыми крыльями у подножья горы: от крутого склона дом отделял только садик да небольшой водоем, – отразившись в его темной прозрачной воде, далекая, ослепительно голубая вершина казалась черной. Неудивительно, что в таком доме зловещие тени властвовали безраздельно и с невинного личика Ластени не сходили печаль и страх.
Но никакие тени не могли омрачить еще больше скорбное лицо мадам де Фержоль. Окружающее было не властно над бронзовой медалью, потемневшей от тоски. Барон, как и подобает богатому аристократу, любил пышные приемы и роскошь, после его смерти мадам де Фержоль все отринула, подчинившись суровым правилам Пор-Рояля [18]18
Пор-Рояль – женский монастырь, основан в 1204 г. С 1627 г. оплот янсенизма, учения, требовавшего высоты нравственной жизни.
[Закрыть], – в те времена в провинции он еще был влиятелен. Аскетизм, бичующий грехи и умерщвляющий плоть, вытравил из нее женственность, но она захотела остудить к тому же свое горячее сердце и нашла для него ледяную, как мрамор, опору. Баронесса изгнала из дома всю роскошь, распродала экипажи и лошадей, рассчитала многочисленных слуг, оставив при себе одну Агату, ту, что приехала вместе с ней из Нормандии двадцать лет назад и состарилась у нее на службе. Вдова стала жить скромно, как беднейшая горожанка. Известно, что маленький городок – это банка с пауками, вернее, с болтунами, так что, видя все эти перемены, злые языки сейчас же обвинили баронессу в скаредности. Сотканной паутиной любовались, как обновой, пока она не расползлась. Слухи о скупости мадам де Фержоль всем наскучили и постепенно затихли. Она помогала бедным втайне, но ее добрые дела все-таки обнаружились. Понемногу лучшие умы низших слоев населения, осевшего на дне закупоренной бутылки, утвердились во мнении, что мадам де Фержоль – дама достойная и добродетельная, хотя и не понимали, как она может так долго жить затворницей, ревностно оберегая свою затаенную боль. Видели ее только в церкви: все издали смотрели с почтительным любопытством на величественную фигуру в длинном черном одеянии, неподвижно сидящую на скамье от начала до конца службы. Под низкими сводами романской церкви с приземистыми опорами, сложенными из грубого камня, она казалась королевой династии Меровингов, восставшей из гроба. По сути, мадам де Фержоль и была королевой, вот только ничтожный маленький городишко не походил на королевство. Она властвовала над умами, сама того не подозревая и не желая. Баронесса не могла оставаться незримой, как персидские владыки древности, но ее могущество было сродни их могуществу, поскольку она жила в самом сердце тесного мирка, не снисходя до него, таинственная и далекая.
Пасха в тот год была ранняя. Она пришлась на апрель, и на Страстной неделе мадам де Фержоль занялась хозяйственными делами, к которым в провинции относятся как к священнодействию. В доме баронессы началась «весенняя стирка», а стирка тогда была целым событием. В богатых домах, как водится, четыре раза в год устраивали «большую стирку», перестирывая обширные запасы постельного и столового белья. В гостиной на званом вечере обсуждали как интереснейшую новость сообщение, что у мадам такой-то «большая стирка». Для «большой стирки» нужны были огромные чаны, тогда как для обычной хватало лохани. Для «большой стирки» в дом приходили прачки, что сулило беспорядок и неприятности, поскольку прачки в большинстве своем сплетницы и язычок им не привяжешь. Все они нахалки, бесстыдницы, ненасытные обжоры и пьяницы; вода, в которой они целый день полощутся, отнюдь не смягчает их нрава, а стук вальков не заглушает несносной болтовни. У любой хозяйки, даже у самой властной, холодело внутри при мысли, что надо «позвать прачек». По счастью, в Святую субботу мадам де Фержоль уже отдыхала от них. Ворвавшись, как смерч, в «особняк де Фержолей» и на несколько дней лишив одиноких женщин тишины и покоя, шумные повелительницы валька и корыта, перемыв хозяйкам не только белье, но и косточки, наконец удалились. Простыни и скатерти осталось только «прибрать», как говорят в провинции, и Агата с единственной нанятой на год прачкой вдвоем снимали высохшее белье с натянутых в саду веревок – помощи им не требовалось. С восхода солнца они были в саду, сплошь завешенном белыми полотнищами, которые шуршали и развевались, подобно знаменам, или надувались на ветру, как паруса. Служанки сновали без устали взад-вперед по садовым дорожкам и к приходу госпожи успели завалить бельем круглый стол и стулья в столовой. Мадам и мадемуазель предстояло теперь все сложить – этой обязанности они никому не доверяли. Мадам де Фержоль как истая нормандка знала толк в хорошем белье и приучала дочь к домовитости. Для Ластени у нее было заранее приготовлено превосходное приданое. По возвращении из церкви мать и дочь сейчас же с охотой принялись за дело, словно обыкновенные мещанки. Баронесса и Ластени стояли по обе стороны громоздкого круглого стола красного дерева и нежными руками складывали полотняные простыни, когда в столовую вошла Агата с целым ворохом белья на плече и обрушила его на стол снежной лавиной.
– Святая Агата! – Это было ее обычное присловье, впрочем, можно ли обвинить в святотатстве верующую, которая и в горе, и в радости истово призывает святую покровительницу? – Святая Агата, какое тяжелое! Как его много! А чистое-то какое! Прямо снег! И сухое, и пахнет как! Да, мадам и мадемуазель, вам с ним и к обеду не управиться. Ничего, с обедом подождем. Вы обе есть никогда не хотите, а капуцин ушел! Насовсем ушел, больше не вернется. Святая Агата! Говорят, эти капуцины всегда так, ни вам, благодетели, спасибо, ни до свидания!
Старая служанка привыкла говорить с госпожой откровенно. Когда барон увез мадемуазель д’Олонд и случился скандал, красавица Агата, бело-розовая, как яблоневый цвет, истинная дочь Котантена, отважно последовала за своей влюбленной госпожой в Севенны. С тех пор она стала в три раза старше, но так и осталась девицей. Право быть прямодушной она заслужила честно. Во-первых, потому что из преданности госпоже «не побоялась попасть на зубок всем кляузникам», участвуя в истории с увозом, во-вторых, потому что вырастила Ластени, и, в-третьих, потому что осталась с ними в «этой кротовой норе», которую ненавидела всей душой. Уроженка края сочной травы и тучного скота, Агата пережевывала мысль о превосходстве своей родины с упорством коровы, жующей жвачку. Ее откровенность объяснялась еще и тем, что они втроем жили очень замкнуто и, тесно общаясь, привыкли друг к другу. Будь у мадам де Фержоль по-прежнему два десятка слуг, Агата не осмелилась бы говорить ей правду в глаза; она и сейчас глубоко почитала госпожу и была дерзкой лишь на язык. Баронесса проявляла снисходительность к малым сим, как повелевали ей благородство и воспитание, но благородству и воспитанию не под силу вполне обуздать гордую натуру.
– Что вы такое говорите, Агата? – отвечала мадам де Фержоль с безграничным терпением. – Ушел! Отец Рикюльф ушел! Вы слышите, дочь моя? Сегодня Святая суббота, а завтра Пасха, ему предстоит после вечерни читать проповедь, пасхальная проповедь венчает труд великопостного проповедника.
– Так он все равно ушел! – стояла на своем старая дева: она упорно носила нормандский чепец и хранила верность родному диалекту, так что в ее упрямстве не приходилось сомневаться. – Вот так-таки и ушел, представьте себе! Я знаю, что говорю. Ушел, как бог свят. Церковный сторож прибегал за ним, еле дух перевел, сказал, что в церкви у исповедальни народу тьма, все хотят назавтра причаститься, а его нет как нет. Ну откуда ж мне его взять! Я видала, как он чуть свет сошел по большой лестнице вниз в капюшоне и с палкой, раньше-то он свою палку за дверью в комнате оставлял. Я как раз поднималась, а он идет мимо, прямой, будто аршин проглотил, слова доброго не сказал, не взглянул даже, хотя, по мне, опускай он глазищи, не опускай, все равно они хуже некуда. Я еще удивилась, зачем ему палка, церковь от нас в двух шагах, незачем палку брать. Обернулась, поглядела, как он уходит, да и пошла за ним следом, думаю, постою в дверях, погляжу, куда это он направился с палкой в такую рань. А он, вот честное слово, как припустит по дороге в сторону большого распятия! Теперь уж он далеко, если только не сбавил ходу. Ищи ветра в поле.
– Нет, не может быть, чтобы он ушел, – проговорила мадам де Фержоль.
– Был, и нет его. Растаял тихо и незаметно, как пар над кастрюлей, – настаивала Агата.
И она была права. Он действительно ушел. Мадам и мадемуазель де Фержоль не знали, а служанка и подавно, что капуцины всегда неожиданно покидают дом, где нашли приют. Капуцин уходит вдруг, так же, как приходит вдруг смерть или как является вдруг Господь. «Яко тать в нощи», – сказано в Евангелии. Капуцин уходит «яко тать». Входишь утром в комнату, где он гостил, а его и след простыл. Таков их поэтичный обычай. Шатобриан знал толк в поэзии, и вот что он писал о капуцинах: «Наутро их искали, но они уже исчезли, как внезапно исчезали святые ангелы, посещавшие дома праведников». Однако в тот момент, когда началась эта история, Шатобриан еще не написал свою апологию «Дух христианства», и мадам де Фержоль, у которой до сих пор гостили монахи менее поэтичных и менее аскетических орденов, привыкла, что вне церкви они люди обходительные и не покидают гостеприимных хозяев без должных благодарностей и поклонов. И все-таки, коль скоро мать и дочь и раньше не жаловали отца Рикюльфа, их в отличие от Агаты его скоропалительное исчезновение не возмутило. Ушел, и слава богу! Его присутствие все это время скорее стесняло, чем радовало их. Есть о чем печалиться! О нем и вспоминать не стоит.
Агата же была глубоко оскорблена. Отец Рикюльф вызывал у нее необъяснимое и непреодолимое отторжение, которое мы зовем антипатией.
– Наконец-то мы избавились от него! – снова заговорила служанка. – Может, зря я это говорю о божьем человеке. Но не могу молчать. Святая Агата! Не нравится мне этот капюшон, хоть он и не сделал мне ничего дурного. Он вовсе не похож на проповедников, что гостили у нас раньше, вежливых, ласковых, милосердных ко всем нам, грешным. Взять хотя бы премонстранта, помните, мадам, он был здесь года два назад? Какой приятный, милый человек! И одет во все белое с головы до ног, как невеста. Агнец! А отец Рикюльф перед ним сущий волк в своей темной рясе!
– Грешно осуждать ближних, Агата, – оборвала ее мадам де Фержоль и, следуя христианскому долгу, принялась вразумлять служанку, чтобы успокоить свою совесть и прежде всего убедить себя саму. – Отец Рикюльф – человек благочестивый и красноречивый проповедник. Пока он жил здесь, у нас не было ни малейшего повода упрекнуть его: он не согрешил ни словом, ни делом. Вы, Агата, напрасно так о нем думаете. Правда, Ластени?
– Вы правы, мама, – прозвучал ясный голосок Ластени. – Но не будьте слишком строги к Агате. Мы с вами тоже не раз говорили, что отец Рикюльф кажется нам каким-то непонятным и неприятным. Что же с того? Мы не осуждали, мы рассуждали… Вы, мама, такая храбрая и разумная, а к нему на исповедь не захотели пойти, так же как и я.
– Верно, мы обе согрешили, – стояла на своем суровая баронесса. Ее, как всех истинных янсенистов, беспрестанно мучили укоры совести. – Мы дали волю предубеждению, не преклонили колен перед святым отцом и тем самым уже осудили его в душе, а это грех. Нам следовало смириться.
– А я, мама, – возразила девушка с наивным изумлением, – все равно не смогла бы у него исповедоваться. Как мне себя пересилить, он мне внушал такой страх…
– Все о преисподней толковал. Ад не сходил у него с языка, – горячо вступилась Агата, стремясь оправдать боязливую Ластени. – Никто еще об адских муках столько не проповедовал. Его послушать, так никто не спасется. А вот у нас в Нормандии, давно еще, был священник, валонский августинец, которого называли отец Милость Божья, потому как он учил, что Бог – это любовь, и говорил только о рае. Святая Агата! Клянусь, отца Рикюльфа так никто не назовет.
– Хватит вам! Помолчите! – Мадам де Фержоль положила конец спору, оскорблявшему христианское смиренномудрие. – Если отец Рикюльф сейчас вернется – я все-таки не верю, что он мог уйти накануне Пасхи, – и услышит, что вы о нем злословите, вам будет стыдно. Хватит! Агата, раз вы настаиваете, что он ушел, поднимитесь к нему в комнату и посмотрите: возможно, он оставил на столе свой молитвенник, и это вас разубедит.
Агата поспешила наверх, с готовностью исполняя приказание госпожи. Мать и дочь остались одни в столовой. Они не сказали больше ни слова о таинственном капуцине. В сущности, добавить им было нечего, а долго рассуждать о нем не хотелось. Мадам и мадемуазель неторопливо вернулись к прерванной работе. Всякий залюбовался бы мирным домашним занятием мадам де Фержоль и Ластени. Они стояли в просторном зале с высоким потолком, над целым ворохом белья, белейшего – «прямо снег», по словам Агаты, – благоухавшего свежестью утренней росы и зелени так, что казалось, в нем затаилась душа сада, и в молчании, внимательно и аккуратно ровняли края простынь, разглаживали все складки, проводили по каждому сгибу своими прекрасными руками: мать – белыми, дочь – розовыми. Непохожие руки у двух непохожих друг на друга красавиц. Ластени-ландышу очень шло темно-зеленое платье – оно, словно листва, оттеняло прозрачную белизну лица-цветка. Грустным было лицо, и грустным казался пепельный оттенок легких волос, ведь раньше пеплом посыпали голову в дни скорби. Мадам де Фержоль с зачесанными наверх густыми черными волосами, на которые не лета, а невзгоды нанесли белилами резкие мазки, в строгом вдовьем чепце и траурном платье не уступала ей в красоте.
Агата возвратилась скоро.
– Он все-таки ушел. Уж я искала, искала молитвенник, как вы мне велели, а нашла вот что. Все проповедники что-нибудь оставляют, когда уходят, крестик с мощами или образок. Так они за гостеприимство благодарят. А это вот я нашла на распятии в изголовье его кровати. В подарок оставил или просто забыл?
Служанка положила на стол, на белую простыню длинную нитку четок, какие носят на поясе капуцины. Каждые двенадцать крупных, выточенных из черного дерева бусин отделял от следующих двенадцати череп из потемневшей кости, схожий своим желтовато-коричневым цветом с настоящим черепом, вынутым из могилы, и потому особенно правдоподобный. Мадам де Фержоль подержала четки в руках, рассмотрела их и бережно положила обратно на стопку простынь.
– Возьми их, Ластени, – сказала она дочери.
Но стоило девушке взять четки, как у нее задрожали пальцы, и она выронила их из рук. Должно быть, черепа напугали излишне впечатлительную Ластени.
– Пусть лучше они будут вашими, мама, – проговорила она.
Вещая, вещая дрожь! Иногда наше естество оказывается проницательней разума. В тот момент Ластени не догадывалась, отчего задрожали ее нежные пальцы. Верная Агата и вначале этой истории, которой даже имени нет, и после ее завершения не сомневалась, что четки, которые перебирал зловещий капуцин, хранили след его тлетворного влияния – словом, были подарком наподобие перчаток Екатерины Медичи [19]19
Екатерину Медичи (1519–1589), жену французского короля Генриха II, и ее парфюмера-флорентийца обвиняли в отравлении перчатками Жанны д’Альбре, королевы Наваррской, матери будущего Генриха IV Бурбона.
[Закрыть], хотя, конечно, неграмотная служанка не читала исторических хроник и даже не слышала о такой королеве. Но если говорить проще, она была уверена, что четки монаха отравлены, заражены.