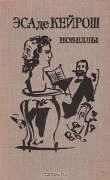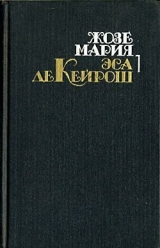
Текст книги "Мандарин"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Чуть дальше – храм Неба, очень похожий на три зонтика, расположенных один над другим; еще дальше – величественная Колонна Начал – холодная и священная, как дух самой расы, а еще дальше – ступени из яшмы, ведущие в храм Очищения, они сверкают, играя полутонами.
Тут я обращаюсь за разъяснениями к Ca То, и его палец указывает мне на храм Поминания предков, дворец Верховного согласия, павильон Цветов образованности и беседку Летописцев, крыши которых из голубой, зеленой, пурпурной и лимонно-желтой черепицы поблескивают среди зелени окружающих рощ. Жадными глазами пожирал я все эти памятники азиатской древности, сгорая от желания свести знакомство с обитавшим здесь, в этом краю, непостижимым для меня обществом, с основами его учреждений, значением культов, духом образованности, грамматикой, догматами и непонятной мне деятельностью мозга китайского ученого…
Но мир этот неприкосновенен, как святилище.
Я присел на выступ стены, и взгляд мой потерялся на расстилавшейся от ворот города до отрогов Монгольских гор песчаной равнине, где не переставая кружились вихри пыли и чернели вереницы медленно идущих караванов… Мною овладела грусть, а царившее над Пекином безмолвие превратило ее в безысходную тоску по себе самому, в чувство одиночества здесь, в этом похитившем меня жестоком и варварском мире. И тут глаза мои увлажнились: я вспомнил свою родную деревню в провинции Миньо, церковный двор, затененный густой листвой раскидистых дубов, лавку с привязанной к двери лавровой ветвью, навес над кузницей и ручьи, особенно свежие, когда зеленеет лен…
Здесь же, в Пекине, было то время года, когда, устремляясь к югу, голуби покидают город. Я видел, как, оставляя рощи, храмы и беседки императорского сада, они прямо над моей головой собирались в стаи, и у каждого в клюве была легкая бамбуковая трубочка, свистом своим отпугивающая в полете коршунов. То были гонимые бризом белые голубиные облака, оглашавшие воздух печальными вздохами, похожими на вздохи ветра, который стихал в туманной дали…
Домой я вернулся усталый и в тяжелом раздумье.
За обедом, разворачивая салфетку, Камилов поинтересовался моими впечатлениями от Пекина.
– Пекин, генерал, заставил меня вспомнить стихи нашего великого поэта:
На вавилонских реках…
– Пекин, – сказал задумчиво, качая лысой головой, Камилов, – чудовище! Вы только подумайте, ведь этой столице и господствующему здесь классу подчинено триста миллионов способных, трудолюбивых, легко переносящих страдания, быстро размножающихся и готовых заселить весь мир людей. Они изучают наши науки… Угодно вам рюмку «Медока», Теодоро?.. У них великолепный флот. Они знакомы с прусской тактикой и владеют колющим оружием. А ведь это то войско, которое когда-то надеялось победить неприятеля бумажными драконами, из пасти которых вырывался огонь… Вот так-то!
– И все-таки, генерал, патриоты моей страны, когда в связи с Макао заходит речь о Небесной империи, презрительно говорят, зло тряхнув гривой: «Пошлем туда пятьдесят человек, и от Китая останется мокрое место…»
Повторенная мною чужая глупость вызвала неловкое молчание. Громко откашлявшись, генерал снисходительно сказал:
– Португалия – прекрасная страна…
Я жестко и сухо ответил:
– Португалия – страна-недоразумение, генерал!
Аккуратно кладя на край тарелки крылышко цыпленка и вытирая пальчики, генеральша произнесла:
– Португалия – родина песни Миньоны, и там цветут апельсиновые деревья.
Толстый Мерисков – доктор Боннского университета и советник посольства, большой знаток поэзии и охотник до споров – любезно поправил ее:
– Родина Миньоны – Италия, госпожа генеральша. И слова божественного Гете: «Ты знаешь край, где апельсины зреют» – относились как раз к Италии. Italia mater[12]12
Мать Италия (лат.).
[Закрыть]. И Италия всегда будет наилюбимейшей страной тонко чувствующей половины человечества.
– Ну, а я больше люблю Францию! – вздохнув, сказала супруга первого секретаря, рыжеволосая куколка с веснушчатым лицом.
– О, Франция! – произнес атташе, томно закатив глаза.
Поправив очки, толстый Мерисков заметил:
– У Франции есть свой недуг – социальный вопрос…
– О да, социальный вопрос! – хмуро повторил Камилов.
– Да, да, социальный вопрос, – поддержал Мерискова все тот же атташе.
И, продолжая с полным знанием дела обсуждать поднятую нами тему, мы перешли к кофе.
Чуть позже, спускаясь в сад, чувствительно настроенная генеральша прошептала, опершись на мою руку:
– Ах, если бы я могла пожить в тех странах, где цветут апельсины!
– В странах, где умеют любить, – ответил я тем же заговорщическим шепотом, увлекая ее в тень, под клены.
V
Все долгое лето ушло на розыски той провинции, где проживал умерший Ти Шинфу!
И надо сказать, это был весьма красноречивый эпизод из жизни страны, и в чисто китайском вкусе! Готовому к услугам Камилову, проводившему все дни напролет в китайских государственных учреждениях, прежде всего пришлось доказывать, что желание найти местожительство старого умершего мандарина не сопряжено ни с каким заговором против государства, и даже дать заверения, что интерес к личности мандарина никоим образом не приведет к посягательству на священные в этой стране обряды. Только после этого принц Тон дал от имени императора соизволение на ведение этих розысков. Сотни писцов вынуждены были проводить дни и ночи с кисточкой в руке над рисовой бумагой, строча отчеты и сообщения; собирались бесконечные тайные собрания во всех учреждениях Императорского города, начиная с Астрономического суда и кончая храмом Источника доброты, сотни кули сновали с носилками, трещавшими под тяжестью ветхих документов, от русской дипломатической комиссии до беседок Запретного города, а оттуда на Архивный двор.
Когда же Камилов пытался интересоваться «результатами розысков», ему спокойно отвечали, что идут поиски указаний по этому поводу в священных книгах Лаоцзы или что возникла необходимость свериться со старинными текстами времен Нор Хачжоу. А чтобы успокоить воинственно настроенного русского генерала, принц Тон каждый ответ подкреплял доказательствами своего внимания, как-то: карамелью с начинкой или почками бамбука в сиропе…
И вот пока генерал усердно пытался помочь мне разыскать семейство Ти Шинфу, я (как выразился один японский поэт) ткал золото и шелк своих досугов у ножек генеральши.
В саду под кленами стояла беседка, носившая чисто китайское название – «Скромный приют отдохновения», рядом с ней под безыскусным мостиком розового цвета журчал ручей. Сделанные из бамбукового плетения стены беседки были обиты светло-коричневым шелком, а потому проходивший сквозь них солнечный свет становился необычным, бледно-опаловым. Посередине беседки стоял мягкий диван, обитый белым шелком, – поэтичнее сказать, шелком цвета утренних туманов, – влекший к себе, точно брачное ложе. По обе стороны от него красовались в прозрачных вазах эпохи Йен аристократические красные японские лилии. Тонкие нанкинские циновки устилали пол, а возле узорчатого окна на грациозной подставке из сандалового дерева лежал веер, сделанный из хрустальных пластинок, издававших при легком дуновении ветерка томно-нежные звуки.
Августовские утра в Пекине очень мягкие: в воздухе уже чувствуется осеннее очарование. Утренние часы советник Мерисков и все представители миссии проводят, как правило, в канцелярии: готовят дипломатическую почту для Санкт-Петербурга.
Я же с веером в руке и в шелковых туфлях, легко ступая по посыпанным песком дорожкам сада, иду к «Скромному приюту отдохновения» и, приоткрыв дверь, зову:
– Мими?
И слышу в ответ нежный, как поцелуй, голос генеральши:
– All right…[13]13
Все в порядке (англ.).
[Закрыть]
Как же ей шел наряд китайской дамы! В пышно взбитых волосах белели цветы персика, а нарисованные нанкинской краской брови были особенно яркими и четкими. Расшитая тонким золотым сутажом газовая кофточка облегала ее упругую маленькую грудь, широкие пышные штаны из фуляра телесного цвета доходили до тонких щиколоток, как у красавиц гарема, а туфельки ее были так малы, что в них едва помещались три пальца моей руки.
Звали ее Владимира; родом она была из Нижнего Новгорода, воспитывала ее старая тетка, большая поклонница Руссо и Фобласа, которая носила высокий напудренный парик и походила на грубую казацкую литографию изысканной версальской дамы.
Мечтой Владимиры было жить в Париже, а потому, с изяществом заваривая чай, она просила меня рассказывать пикантные истории о cocottes[14]14
Кокотки (фр.).
[Закрыть] и признавалась, что боготворит Дюма-сына…
Я приподнимал широкие рукава ее кофты цвета увядших листьев и позволял своим набожным устам путешествовать по свежей коже ее белых рук, а позже, уже лежа в объятиях друг друга, мы забывались в экстазе, слыша, как шелестит ветер пластинками веера, как вспархивают с веток платанов голубые сороки и ритмично журчит бегущий ручей…
Наши увлажненные глаза нет-нет да останавливались на висящем над диваном черном атласном полотне с китайскими иероглифами, цитировавшими изречения о «супружеском долге» из священной книги Ли Нунь. Но мы по-китайски не понимали. И в полной тишине наши поцелуи множились и звонко, подобно падающему в серебряную чашу жемчугу (я уподобляю свою речь цветистой речи восточных стран), звенели… О, полные нежности сиесты в садах Пекина, где вы? Где вы, увядшие лепестки красных японских лилий?..
Однажды утром, войдя в канцелярию миссии, где я с Мерисковым курил трубку дружбы, Камилов бросил свою огромную саблю на канапе и, радостно сияя, сообщил мне новости, полученные от проницательного принца Тона. Наконец-то обнаружили местожительство этого богатого мандарина по имени Ти Шинфу – он проживал в местечке Тяньхо на границе Китая с Монголией. Умер он внезапно, и все его многочисленное семейство, впав в нищету, ютилось в жалкой лачуге…
Обнаружено это было совсем не императорским бюрократическим аппаратом, а астрологом храма Факуа, который двадцать ночей подряд «листал» архив сверкающего звездного неба…
– Теодоро, это, конечно же, тот мандарин, которого вы ищете! – воскликнул Камилов.
Стряхнув пепел, Мерисков поддержал его:
– Тот самый, Теодоро!
– Тот… – хмуро насупившись, прошептал я.
Очень возможно, что это был именно тот мандарин, очень! Но сейчас меня совсем не прельщала мысль отправиться на розыски этого мандарина и его семейства по однообразным и безрадостно пустынным окраинам Китая!.. К тому же, с тех пор как я приехал в Пекин, меня ни разу не посещало видение Ти Шинфу с его бумажным змеем. Совесть моя спала подобно голубке. По всей видимости, мое волевое усилие, направленное на отказ от удовольствий, которым я предавался на бульварах Лиссабона и улице Лорето, было зачтено мне вечной справедливостью во искупление грехов, а то, что я избороздил все моря до берегов Небесной империи, было воспринято как паломничество к святым местам, и успокоенный Ти Шинфу нашел себе прибежище в вечной неподвижности. Так для чего же мне теперь ехать в Тяньхо? Почему не остаться здесь, в этом милом мне Пекине, лакомясь засахаренными водяными лилиями и предаваясь любовной неге в «Скромном приюте отдохновения», а в голубоватые вечерние часы гуляя под руку с приятным собеседником Мерисковым по яшмовым ступеням храма Очищения или под кедрами храма Неба?..
Однако педантичный Камилов уже отмечал карандашом на географической карте, изобилующей горными массивами, извилистыми линиями рек и заштрихованными болотистыми пространствами, путь моего следования в Тяньхо, теперь уже не суливший мне никакой радости.
– Так вот! Мой гость поднимется до Никухе, что стоит на берегу Белой реки… А дальше на плоскодонке дойдет до Миюнь. Прекрасный город. В нем живет живой Будда… Потом верхом на лошади доскачет до крепости Шехиа. Минует Великую стену – это впечатляюще! Отдохнет в крепости Купихо. Здесь можно поохотиться на газелей. Великолепных газелей… И потом, после двух дней пути, прибудет в Тяньхо… Прекрасный маршрут, не так ли?.. Когда вы намерены отправиться? Завтра?..
– Завтра… – с грустью повторил я.
Бедняжка Владимира! В тот вечер, когда Мерисков, сидя в глубине залы, играл, как обычно, в вист с тремя служащими посольства, а генерал Камилов дремал, приоткрыв рот, со скрещенными на груди руками, в углу дивана, важно, точно в кресле Венского конгресса, она села за рояль. Я стал подле нее в позе преследуемого роком Лары и мрачно крутил ус. Владимира же, это очаровательное создание, глядя на меня своими влажными и блестящими глазами, запела под стонущие звуки рояля:
– Птичка должна вернуться в свое гнездышко, – прошептал я, совершенно растроганный, и отошел, чтобы скрыть навернувшиеся слезы и в сердцах выругаться: – Чертов Ти Шинфу! Это все из-за тебя! Старый бездельник! Старый мерзавец!..
На следующий день я отбыл в Тяньхо в сопровождении услужливого толмача Ca То, длинной вереницы повозок, двух казаков и сонма кули.
Миновав стены Татарского города, мы долгое время ехали вдоль священных садов, окружающих храм Конфуция.
Был конец осени, листья пожелтели, воздух тревожил душу нежнейшими ароматами…
Из священных беседок доносилось монотонно-печальное пение. По ступеням храма медленно скользили уже готовящиеся к зимней спячке большие змеи, которых здесь тоже считают священными. По дороге нам то и дело попадались изможденные буддисты с узловатыми ногами и руками, они лежали под кленами, раскинув руки, неподвижно, точно идолы, и созерцали свой пуп в надежде на совершенства нирваны…
Я же, печальный, как азиатское октябрьское небо, ехал и вспоминал две круглые блестящие слезинки, навернувшиеся на зеленые глаза генеральши при нашем расставании.
VI
Когда, мы прибыли в Тяньхо, день был уже на исходе и красное, как раскаленный металлический щит, солнце садилось.
С южной стороны, прямо над скалами, между которых бурлит поток, высятся черные стены города, на восток уходит мертвая пыльная равнина, упирающаяся в темное скопление холмов, где белеет большое здание – католическая миссия. На севере видны вечные фиолетовые вершины Монгольских гор, висящих в воздухе подобно гряде облаков.
Мы остановились в большом и смрадном бараке, именуемом «Пристанищем земного отдохновения». Здесь мне отвели комнату, предназначенную для знатных путешественников, с выходом на галерею, стоящую на сваях; необычным убранством моей комнаты были бумажные драконы, которые свисали с потолочных балок, и при небольшом движении воздуха весь легион монстров тут же начинал качаться и шелестеть, как сухая листва, создавая впечатление какой-то призрачной жизни.
Прежде чем стало темнеть, мы с Ca То пошли осматривать город, но тут же сбежали от зловония улиц, на которых все мне казалось черного цвета: и лачуги, и глинистая почва, и нечистоты, и голодные псы, и мерзкая чернь… Пришлось вернуться в гостиницу, где я был встречен монголами-погонщиками и вшивыми ребятишками, глядевшими на меня с явным испугом.
– Здесь, Ca То, все мне кажутся подозрительными, – сказал я, хмурясь.
– Вы правы, ваша честь. Это сущий сброд! Но вам ничто не угрожает: перед отъездом я зарезал черного петуха, а потому богиня Гуаньинь должна быть удовлетворена. Можете почивать спокойно, злые духи вас не потревожат… А чаю не желаете?..
– Принеси чаю, Ca То.
Напившись чаю, мы стали обсуждать мой великий план: завтра утром я принесу радость в печальную лачугу вдовы Ти Шинфу, сообщив о миллионах, которые собираюсь ей передать, – они уже в Пекине; потом, получив согласие правящего мандарина, мы раздадим рис всему населению, ну а к ночи устроим иллюминацию, танцы, народное гуляние…
– Ну, как тебе все это, Ca То, а?
– Устами вашими глаголет мудрость Конфуция… Это будет грандиозно. Это будет грандиозно.
Но так как я очень устал, то тут же принялся зевать и, завернувшись в меховую шубу и осенив себя крестом, растянулся на подогреваемом кирпичном возвышении, заменявшем в китайских гостиницах кровати. Засыпая, я грезил о белых плечах генеральши и ее зеленых глазах русалки…
Очень возможно, что была уже полночь, когда я проснулся от глухого и монотонного шума, который доносился в мою комнату; он походил на сильные порывы ветра в лесу или разбивающийся о мол мощный прибой. Через открытую галерею проникал лунный свет, печальный лунный свет азиатской ночи, видоизменявший свисавших с потолка драконов, придавая им сходство с химерами…
И сразу, как только увидел освещенную лунным светом высокую и худую человеческую фигуру, поспешно встал.
– Это я, ваша честь! – прошептал взволнованный Ca То.
Склонившись ко мне, он сбивчиво стал излагать причину своей тревоги. Оказалось, что, пока я спал, город облетела весть, что прибывший чужеземец – чужеземный дьявол, привез тюки, полные сокровищ… И как только стемнело, Ca То увидел толпы бродящих вокруг нашего пристанища людей с горящими, как у нетерпеливых шакалов, глазами и жадными настороженными лицами… Он приказал кули забаррикадировать вход в гостиницу, расставив полукругом, как это делали татары, повозки для поклажи… Но людские толпы все прибывали и прибывали… Он только что ходил глядеть в смотровое окошко, и похоже, что вокруг их гостиницы собирается все население Тяньхо, город угрожающе гудит… Видно, богиня Гуаньинь не удовлетворилась кровью черного петуха!.. Да и у дверей пагоды он видел черную козу, которая пятилась… Нас ждет ночь ужасов!.. А его бедная жена – далеко, в Пекине…
– Ну и что же, Ca То, нам делать? – спросил я его.
– Что же делать… Ваша честь! Что же делать…
Он умолк и, трясясь от страха, весь сжался, как собака под ударами плети.
Я отстранил труса и вышел на галерею. Внизу от противоположной стены с навесом падала густая тень. И там – это точно! – стояла сгрудившаяся темная масса. Иногда от нее отделялась какая-нибудь фигура и появлялась на освещенном пространстве, оглядывая и обнюхивая повозки, но, почувствовав на своем лице лунный свет, тут же возвращалась обратно. Поскольку крыша навеса была низкой, то увидеть, как поблескивают в лунном свете взятые наперевес копья, не представляло труда.
– Что вам нужно, негодяи? – отважился я крикнуть им по-португальски.
Дикий вой был ответом на речь чужеземца, потом в меня полетел камень – он прорвал вощеную бумажную занавеску; следом просвистела стрела – она впилась в балку прямо над моей головой…
Я бросился в кухню. Там на корточках сидели сопровождавшие меня кули и стучали от страха зубами, а двое казаков, держа сабли на коленях, покойно покуривали у огня.
Ни старика в очках – хозяина нашей «гостиницы», ни оборванной старухи, которую я видел во дворе, – она запускала бумажного змея, – ни монголов-погонщиков, ни вшивых ребятишек на кухне не было, все исчезли. В углу, не двигаясь, валялся какой-то накурившийся опиума старик. А шум во дворе нарастал.
Тогда я воззвал к пребывавшему в полуобморочном состоянии Ca То, сказав ему, что мы без оружия и для защиты от нападения нам мало двух казаков, а потому необходимо обратиться за помощью к правящему здесь мандарину, поставив его в известность, что я – друг генерала Камилова, гостя принца Тона, и убедить разогнать толпу во имя священного закона гостеприимства!..
Но Ca То шепотом поведал мне о своих подозрениях: он считал, что это нападение, похоже, самим мандарином и подстроено! Ведь молва о моем золоте, привезенном на повозках, взволновала всех: и богатых, и бедных!.. И благоразумие, как священная заповедь, подсказывает, что лучше отдать им часть денег, съестных припасов и несколько мулов…
– И остаться здесь, в этой дыре, ни с чем: без гроша в кармане, без одежды и провизии?
– Но с драгоценнейшей жизнью, ваша честь!
Я сдался и приказал Ca То, чтобы тот пообещал стоящим внизу щедрую раздачу сапеков, если они разойдутся по домам и будут уважать посланных им Буддой гостей…
Дрожащий Ca То вышел на галерею и, точно неистово лающая собака, стал выкрикивать какие-то слова, размахивая при этом руками. Я же, открыв один из своих чемоданов, передавал ему кульки и мешки с сапеками, которые Ca То тут же бросал в толпу жестом сеятеля… Снизу, куда хлынул металлический дождь, то слышалась ужасающая возня, то вздохи облегчения, то наконец наступала гробовая тишина, но накал страстей тех, кто ждал большего, продолжал чувствоваться…
– Еще! – шептал мне Ca То, глядя на меня в волнении.
Злясь, я давал ему новые кульки и связки монет стоимостью в полреала… Чемодан уже был пуст, а ненасытная толпа все еще ревела.
– Еще, ваша честь! – умолял Ca То.
– Нет у меня больше, нет! Все, что осталось, – осталось в Пекине.
– О святой Будда! Мы пропали! Пропали! – завопил Ca То, упав на колени.
Замершая в ожидании толпа молчала. Вдруг дикий вой потряс воздух, и я услышал, как толпа бросилась на штурм забаррикадированного нами входа. От мощного удара затрещали и закачались стены «Пристанища земного отдохновения»…
Я выбежал на галерею. Внизу вокруг перевернутых повозок неистовствовала толпа: на крышки ящиков, поблескивая, опускались топоры, кожу чемоданов с легкостью вспарывали тысячи рук, вооруженных ножами. Казаки, стоя под навесом, отбивались от не оставлявшей их ревущей толпы. Несмотря на лунную ночь, вокруг нашей гостиницы кружили, разбрасывая искры, зажженные факелы, не смолкали громкие крики, которым вторил вой собак, и со всех сторон бежали, бежали, как легкие тени, люди, размахивающие копьями и кривыми серпами…
Тут я услышал шум толпы, ворвавшейся в нижний этаж через взломанные двери. Без сомнения, там искали меня, предполагая, что самые дорогие из сокровищ находятся при мне… Меня охватил ужас. Я подбежал к бамбуковой перегородке, выходившей во внутренний двор. Повалив ее, спрыгнул на вязанку хвороста, прикрывавшего зловонные нечистоты. Привязанный здесь мой пони ржал и натягивал повод. Я вскочил на него и вцепился в гриву…
В этот самый момент из кухонной двери выбежала вопящая орда с факелами и копьями. Испуганный пони перемахивает через канаву; мимо меня, свистя, летит стрела, потом – кирпич мне в плечо, потом в поясницу, потом в круп пони, и еще один, огромный, рассекает мне ухо. Впившись в гриву животного и задыхаясь, я, с высунутым языком и текущей из уха кровью, несусь во весь опор через город по темной улице… И вдруг передо мною вырастает стена: бастион и городские ворота на запоре!
Тогда, почти теряя рассудок и слыша за собой топот улюлюкающей толпы, я осознаю, что ждать людской помощи неоткуда и остается уповать только на господа бога! Уверовав в него, я воззвал к его помощи и из последних сил стал возносить ему обрывки молитв «Славься, владычица» и прочие, давно уже похороненные в глубинах моей памяти. Сидя в седле, я обернулся назад. Из-за угла показались факелы: толпа шла по следу!.. Я пустил пони в галоп вдоль высокой стены, у которой оказался и которая уходила вдаль бесконечной черной лентой, и вдруг – брешь в стене, дырка, заросшая густым терновником, а за брешью – залитая лунным светом равнина, точно гладь спящего водного простора! В отчаянии я бросился туда, подпрыгивая в седле несущегося галопом пони… И еще долго скакал по пустынной равнине.
Но вот пони и я куда-то упали, упали, глухо шлепнувшись. Это оказалось болото. Рот мой наполнился гнилой водой, а ноги запутались в корнях лилий… Когда же мне удалось выбраться и стать на твердую землю, пони около меня не было: с развевающимися по ветру стременами он убегал, подобно тени.
Тогда я пошел пешком по лежащей передо мной пустынной равнине, то увязая в трясине, то продираясь сквозь тернии. Кровь из моего уха еще сочилась, мне было зябко: промокшая одежда липла к телу и холодила, а из окружавшей темноты смотрели на меня, как мне казалось, блестящие глаза хищников.
Наконец я набрел на огороженное камнями пространство; у чернеющего кустарника громоздились желтые гробы, в которых разлагались останки умерших. В изнеможении я опустился на один из них, однако исходившее от него зловоние тут же подняло меня. Вставая, я бессознательно оперся о его доски и почувствовал сочившуюся из него жижу… Хотел бежать, но ноги не слушались, дрожали; потом все, что было вокруг; скалы, деревья, высокие травы и даже горизонт, – закружилось с невероятной быстротой. В глазах моих замелькали искры кровавого цвета, и я почувствовал, что падаю, падаю, подобно перышку, с огромных высот…
Когда же я пришел в себя, то увидел, что лежу на каменной скамье во дворе большого похожего на монастырь здания, а вокруг такая тишина, что звенит в ушах. Два брата миссионера с осторожностью промывали мое ухо. Пахло свежестью, слышалось поскрипывание колодезной цепи, колокол звал к мессе. Я поднял глаза вверх и увидел высившийся белый фасад с зарешеченными окнами и устремленным в небо крестом – то был католический монастырь, кусочек вновь обретенной мною родины, давшей мне приют и облегчение. Две крупные слезы скатились из-под моих век.