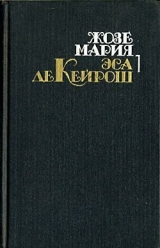
Текст книги "Мандарин"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
О-о, эта изощренная пытка! Поистине китайская пытка! Ведь я не мог поднести ко рту даже куска хлеба, не вспомнив тут же о выводке голодных неоперившихся птенцов – потомков Ти Шинфу, с жалобным писком напрасно раскрывающих свои желтые клювы в опустевшем гнезде, не мог надеть пальто, не увидев перед собой посиневшие от холода лица женщин, еще совсем недавно изнеженных теплом и комфортом китайского дома, а теперь дрогнущих в жалких лохмотьях под утренним снегом. Потолок моего особняка, сделанный из черного дерева, все время напоминал мне, что семья Ти Шинфу не имеет над головой крыши и спит на набережной каналов, обнюхиваемая голодными, бездомными собаками, а мой теплый экипаж заставлял меня думать о том, что члены этой семьи бродят по грязным дорогам в холодные азиатские зимы…
Как же я страдал! А ведь в то же самое время, приходя в восторг от моего особняка, завистливая чернь разглагольствовала о непреходящем счастье, обитающем под его крышей!
И вот, поняв, что совесть моя уподобилась разъяренной змее, я решил молить о поддержке Того, кто, как говорят, сильнее совести, потому что в его руках благодать.
Хотя в Него я, к несчастью, не верил, но все же бросился на колени перед старой своей заступницей, моим любимым идолом – покровительницей нашей семьи. Щедро одаривая священников и каноников во всех городских соборах и во всех деревенских приходах, я молил их упросить скорбящую обратить милосердный взор на мои душевные страдания. Однако никакого облегчения от безжалостного неба, к которому столько тысячелетий взывает страждущее человечество, я так и не получил.
Тогда, совершая положенные обряды, я принялся молиться сам, и весь Лиссабон стал зрителем необычайного спектакля: набоб, самый богатый на свете человек, смиренно, с молитвенно сложенными руками, падает ниц у алтарей, бормоча «спаси и помилуй, царица небесная», точно молитве и всему небесному воинству приписывает магическую силу и видит в них нечто большее, чем утешение, измышленное теми, кто имеет все, для тех, кто ничего не имеет. Я ведь принадлежу к буржуазии и знаю, что если обездоленному народу она указывает на далекий рай и будущее блаженство, то только ради того, чтобы отвлечь его внимание от своих набитых добром сундуков и полных зерном амбаров.
Потом, поскольку беспокойство мое не унималось, я заказал тысячи заупокойных месс с певчими и без оных, чтобы ублажить неприкаянную душу Ти Шинфу. Ребяческая глупость вполне в иберийском духе! Старый мандарин, будучи ученым и членом Академии Ханьлинь, и, по всей вероятности, принимая участие в большом труде Ку Чжуаншу, который теперь насчитывает семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать томов, естественно, был сторонником позитивной морали Конфуция… И уж, во всяком случае, не курил фимиам во славу Будды, да и обряды мистических жертвоприношений должны были напоминать его скептически просвещенной душе пантомимы паяцев в театре Хон Туна!
Между тем церковники, изощренные в делах католических, дали мне хитрый совет, как втереться в доверие к богоматери всех скорбей, расположения которой следовало добиваться, задабривая ее, точно Аспазию, подарками: цветами, расшитыми покровами, драгоценностями. Подобно тучному банкиру, завоевывающему благосклонность танцовщицы подношением особняка с садом, я решил купить кроткую матерь всех человеческих чад постройкой собора из белого мрамора. Изобилие цветов между пилястрами должно было внушать мысль о будущем рае, множество огней – напоминать о звездном великолепии неба… Пустые траты! Освятить собор приехал из Рима утонченный, эрудированный кардинал Нани. И что же? Когда я вошел внутрь, чтобы преклонить перед ней колени, то в чаду мистического тумана от курящегося ладана за тонзурами совершавших богослужение священников белокурой царицы милосердия в голубой тунике видно не было, нет. Место ее занимал толстый косоглазый прохиндей с бумажным змеем в руках. Да, это был он. И перед этим типом с татарскими седыми усиками и толстым желтым брюхом совершал богослужение, вознося вечные хвалы под громкозвучный орган, весь синклит, облаченный в золотые одежды…
Тогда, поняв, что Лиссабон и сонное царство, в котором я вращался, способствуют развитию моих болезненных фантазий, я оставил столицу, решив отправиться в путешествие тихо, без помпы, с одним баулом и одним лакеем.
Согласно общепринятому маршруту, я посетил Париж, заезженную Швейцарию, Лондон и задумчивые озера Шотландии; я разбивал свою палатку под описанными в Евангелии стенами Иерусалима и проехал от Александрии до Фив через весь Египет, величественный и печальный, как галерея мавзолея. Я познал морскую болезнь на борту парохода, скуку – при осмотре руин, меланхолию от вида незнакомых мне толп народа, разочарование от парижских бульваров, и мои душевные страдания не унимались, а росли.
Теперь я не только испытывал горечь оттого, что пустил по миру уважаемое семейство, но и терзался угрызениями совести, что лишил китайское общество такой значительной личности, такого известного ученого, бывшего опорой порядка и поддержкой его институтов. Ведь невозможно же, лишив государство личности, ценность которой выражается в сто шесть тысяч конто, не нарушить его равновесия. Эта мысль все время сверлила мой мозг, и я всеми силами старался узнать, так ли плачевна для Древнего Китая утрата этого самого Ти Шинфу. Я просмотрел все газеты Гонконга и Шанхая, все ночи напролет читал истории путешествий, даже советовался со знатоками-миссионерами. И что же? Все статьи, книги и люди говорили мне о закате Срединной империи: провинции ее были разорены, города вымирали, население голодало, повсюду свирепствовали чума и мятежи, храмы не почитались, законы утрачивали силу. Словом, передо мной предстала картина крушения целого мира, похожего на выброшенный на берег корабль, который волны разносили в щепы!..
И все эти бедствия Китая я приписывал себе одному! Моя больная душа преувеличивала значение Ти Шинфу, сравнивала его с Цезарем или Моисеем – вершителями человеческих судеб, воплощавшими силу своих племен. А я убил его, и с его убийством исчезла жизнеспособность его родины! Его разносторонний ум мог бы легко спасти эту древнюю азиатскую монархию, а я прервал его творческую деятельность! Его богатство, без сомнения, пошло бы на восстановление мощи государственной казны, а я тратил его, угощая мессалин из пассажа Элльдер персиками в январе! Да, друзья мои, я познал всю тяжесть угрызений совести человека, разрушившего империю!
И вот, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжких мыслей, я вновь предался оргиям. Снял особняк в Париже на Елисейских полях и там творил нечто ужасное. Закатывал пиры наподобие Тримальхионовых и в часы безудержного разгула, когда гремел духовой оркестр и медь фанфар исторгала звуки канкана, а полуголые проститутки пели гнуснейшие куплеты и приглашенные сотрапезники – атеисты кабаков – богохульствовали, подняв фужеры с шампанским, я, как Гелиогабал, осатанев от ненависти ко всему мыслящему и совестливому, ползал на четвереньках и неистово по-ослиному ревел…
Потом я скатывался все ниже и ниже: стал бражничать и дебоширить вместе с низким людом, предался пьяному разгулу, описанному в «Западне», и не раз в блузе и сдвинутом на затылок картузе под руку с какой-нибудь «Mes-bottes»[6]6
«Ай-да-Сапожок» (фр.).
[Закрыть] или «Bibi-la-Jaillarde»[7]7
«Биби-чертовка» (фр.).
[Закрыть] шатался по бульварам и громким пьяным голосом, прерывающимся разве что отрыжкой, завывал:
Однажды утром после одного из таких кутежей, когда пьяный угар проходит и брезжит слабый свет разума, мне пришла идея отправиться в Китай! И, подобно солдатам, разбуженным сигналом боевой тревоги, которые тут же вскакивают и строятся, образуя колонну, мысли мои зашевелились и, выстроившись, создали великолепный план действий: я отправлюсь в Пекин, разыщу там семейство Ти Шинфу, вступлю в законный брак с одной из его дам и закреплю тем самым свое право на владение его миллионами. Это даст возможность поправить пошатнувшееся благосостояние достойного семейства, совершить пышный погребальный обряд, успокоив тем самым неприкаянную душу мандарина, щедро осыпать рисом нуждающихся, проехав по разоренным китайским провинциям, и, уж конечно, получить от императора стеклянный шарик – знак мандаринского достоинства: это, как я думал, для бакалавра труда не составит. Одним словом, я собирался собою возместить утрату Ти Шинфу и таким образом законно вернуть его отечеству если не престиж его и знания, то, во всяком случае, мощь его золота.
Иногда план мой казался мне смутным, туманным, детским и почти неосуществимым. Однако сама идея, ее оригинальность и значительность увлекала меня, как порыв ветра сухой лист.
Я начал мечтать, воображая, как ступлю на землю Китая. И вот наконец после всех сборов, которые я ускорил, соря золотом направо и налево, я отбыл в Марсель. Мною было зафрахтовано судно под названием «Цейлон». Оно-то однажды утром, когда первые лучи солнца заиграли на куполах собора Богоматери покровительницы мореплавателей, высящегося на темной крутой скале, и направилось на восток по упругим голубым морским волнам, над которыми вились чайки.
IV
Мерно покачиваясь, «Цейлон» доплыл до Шанхая. От Шанхая по Голубой реке мы поднялись вверх до Чженьцзяня на маленьком steamer[9]9
Пароход (англ.).
[Закрыть] компании «Russel». В Китай я ехал совсем не в качестве праздного туриста, а потому пейзаж провинции, в которой я оказался, очень похожий на росписи фарфоровых ваз: голубовато-дымчатый, с голыми холмами и кое-где виднеющимися низкорослыми деревцами с раскидистой кроной, – оставил меня угрюмо-равнодушным.
И когда капитан парохода, развязный янки с козлиной физиономией, предложил мне осмотреть монументальные развалины древнего фарфорового города, – мы проходили мимо Нанкина, – я наотрез отказался, так и не оторвав унылого взора от глинистых вод реки.
И какими же тяжкими и тоскливыми показались мне дни плаванья от Чженьцзяня до Туньчжоу, когда мы проплывали на плоскодонках, провонявших потом китайских гребцов, мимо низин, затопленных водами Белой реки, или шли вдоль берегов с бесконечными плантациями риса, среди которых нет-нет да возникали утопавшие в грязи мрачные деревушки или поля желтых гробов. По пути нам то и дело попадались вздутые позеленевшие трупы нищих – они плыли вниз по течению под сумрачно нависшим над ними небом!
В Туньчжоу я был до крайности удивлен тем, что меня поджидал там отряд казаков, который, как выяснилось позже, был выслан мне навстречу старым генералом Камиловым – героем Азиатских походов, бывшим в те годы послом России в Пекине. Ему меня отрекомендовали как существо необыкновенное и редкостное. О том меня поставил в известность приставленный ко мне генералом Камиловым словоохотливый толмач Ca То: он рассказал, что несколько недель назад в письме из России за императорской печатью говорилось о моем прибытии. Письмо было доставлено курьерами канцелярии его величества, которые едут по Сибири на санях, потом до Великой стены на верблюдах, а там вручают почту одетым в красные кожаные куртки монгольским гонцам, которые днем и ночью скачут в Пекин.
Камилов прислал мне маньчжурского пони в шелковой сбруе и свою визитную карточку со словами, написанными прямо под его фамилией: «Доброго здравия! Животное – мягкоуздое!»
Я сел на пони, и под «ура!» казаков, размахивающих своими саблями, мы тут же, так как уже спускались сумерки, – а с последним лучом солнца, оставляющим башни храма Неба, ворота Пекина закрываются, – двинулись в путь по пыльной равнине. Сначала мы ехали по большой дороге, сплошь изрытой копытами проходящих здесь караванов, с кое-где сохранившимися мраморными плитами, свидетельствовавшими о том, что в древности здесь пролегала дорога императора. Потом миновали мост Палицяо, весь из белого мрамора, со сторожащими его надменными драконами. Затем поскакали вдоль каналов с темными водами, по берегам которых замелькали фруктовые сады и деревни с голубыми домиками, ютящимися у подножья пагод. И тут вдруг на крутом повороте я в изумлении замер…
Передо мной лежал Пекин! Широкая, величественная, грубая стена из темно-серого камня, уходя в необозримую даль, выделялась на фоне закатного кроваво-пурпурного неба многоярусными кровлями и воротами величественной архитектуры…
А дальше к северу, в туманной фиолетовой дымке, как бы зависнув в воздухе, виднелись горы Монголии…
У ворот Туньцзеньмень меня ждал роскошный паланкин, в котором мне предстояло проследовать через весь Пекин до военной резиденции генерала Камилова. Теперь Китайская стена, возле которой я находился, выросла до небес, подобно наводящему ужас библейскому сооружению; к ее основанию жались лавчонки торговцев – экзотический базар, гудевший, точно пчелиный улей. Дрожащий свет фонарей разрывал надвигающуюся темноту кроваво-красными вспышками, а белые навесы, лепившиеся к темной стене, казались сидевшими на ней белыми бабочками.
Тут мне взгрустнулось, я сел в паланкин, опустил расшитые золотом алые занавески и в сопровождении казаков проследовал в древний Пекин через огромные ворота, осаждаемые шумящей толпой, повозками, лаковыми носилками, монгольскими всадниками с луками и стрелами, бонзами в белых одеяниях и длинными вереницами медлительных одногорбых верблюдов, мерно покачивающих свою ношу…
Очень скоро паланкин остановился. Почтительный Ca То поднял занавеску, и я увидел, что нахожусь в тихом, сумеречном саду, где среди вековых кленов стояли похожие на огромные фонари беседки, излучавшие мягкий свет, а со всех сторон доносилось журчание разнообразных фонтанов. На крытой деревянной галерее, крашенной в красный цвет и освещенной гирляндой китайских фонариков, поджидал меня, опираясь на огромный палаш, человек крепкого сложения, с седыми усами. Это и был генерал Камилов. Идя ему навстречу, я услышал легкий шаг вспугнутых газелей, скрывшихся в чаще деревьев…
Старый герой прижал меня к груди и тут же, согласно китайскому обычаю, повелевавшему совершить обряд омовения, подвел меня к огромному наполненному водой и источавшему аромат сирени фарфоровому тазу, в котором среди ломтиков лимона плавали белые губки.
Чуть позже, когда сады купались в дивном лунном свете, я, уже освежившийся и в белом галстуке, вошел под руку с генералом Камиловым в будуар его жены. Она была стройна, белокура и зеленоглаза, как гомеровская сирена. К вырезу белого шелкового платья была приколота алая роза, а пальцы, которые я поднес к своим губам, источали аромат сандала и чая.
Мы долго беседовали о Европе, нигилизме, Золя, Льве XIII и худобе Сарры Бернар…
В открытую галерею проникал жаркий вечерний воздух, напоенный ароматом гелиотропа. Тут генеральша села за рояль и ее контральто до позднего часа оглашало унылую тишину Татарского города пикантными ариями из «Мадам Фавар» и нежными напевами из «Короля Лагора».
На следующий день с утра пораньше мы с генералом уединились в одной из садовых беседок, и я рассказал ему свою плачевную историю, изложив и фантастические причины, приведшие меня в Пекин. Герой слушал меня, хмуро поглаживая густые казацкие усы.
– А знает ли мой уважаемый гость китайский язык? – спросил он вдруг, устремив на меня пытливый взгляд.
– Знаю, генерал, два основных слова: «чай» и «мандарин».
Он провел жилистой рукой по бороздившему его лысую голову шраму.
– «Мандарин», друг мой, не китайское слово, и здесь, в Китае, его никто не понимает. Это ведь имя, которое мореплаватели шестнадцатого века из вашей прекрасной страны дали…
– Да, было время, когда у нас были мореплаватели… – пробормотал я, вздыхая.
Он тоже вздохнул – по всей видимости, из вежливости – и продолжил:
– Да, ваши мореплаватели и дали китайским чиновникам это имя. Оно происходит от вашего прекрасного глагола…
– Да, были у нас и глаголы… – снова пробормотал я, следуя привычке ругать отечество.
На какой-то миг он прикрыл круглые совиные глаза, потом продолжил так же серьезно и спокойно:
– …от вашего прекрасного глагола «mandar»[10]10
Приказывать, повелевать (португ.).
[Закрыть]. Так что в вашем распоряжении остается только слово «чай». Оно, конечно, в жизни китайца играет немаловажную роль, это так, но, думаю, будет недостаточным для общения. Мой уважаемый гость собирается вступить в законный брак с одной из женщин рода Ти Шинфу, продолжить бурную деятельность мандарина и заменить собой всем его чадам и домочадцам, не говоря уже об общественности, всеми оплакиваемого покойника. Для всего этого вы располагаете только словом «чай». Этого маловато.
Я не мог с ним не согласиться – этого действительно было маловато. Уважаемый русский, морща свой крючковатый, как у коршуна, нос, высказал мне и некоторые другие свои соображения, явно воздвигавшие Китайскую стену перед моими намерениями: ведь ни одна женщина рода Ти Шинфу никогда не согласится стать женой чужеземца, да и невозможно, совершенно невозможно, чтобы этому чужеземцу император, Сын Солнца, дал свое согласие на предоставление привилегий мандарина.
– Это почему же? – воскликнул я с удивлением. – Я ведь принадлежу к почтенному в Миньо роду, я бакалавр, и бакалавр как в Коимбре, так и в Пекине! Я даже был на государственной службе… У меня миллионы… Да и в стилистике административных посланий я тоже наторел немало.
Внимая всем моим доводам, генерал согласно кивал головой. Потом сказал:
– Нет, не то что император не даст согласия, а просто… того, кто осмелится доложить ему о подобном, – обезглавит! Китайские законы, касающиеся подобных дел, суровы и определенны.
Подавленный услышанным, я опустил голову.
– Но, генерал, – пробормотал я, – я хочу избавиться от ненавистной тени старого Ти Шинфу и его бумажного змея!.. Ну а что вы скажете, если я пожертвую китайской казне половину моих миллионов, коли уж сам лично не могу продолжить дело мандарина, трудясь на благо китайского государства? Может, дух Ти Шинфу успокоится?..
Генерал отечески положил мне на плечо свою широкую ладонь.
– Заблуждаетесь, молодой человек, и очень! Эти ваши миллионы никогда не попадут в государственную казну. Они застрянут в бездонном кармане правящего класса: их потратят на разведение садов, приобретение фарфора, ковров, которыми здесь устилают полы, шелковых тканей для наложниц, так что ваши миллионы не избавят от голода ни одного китайца и не замостят пришедшую в негодность мостовую… Они всего лишь придадут еще большую пышность азиатским оргиям. Душа Ти Шинфу хорошо знает обычай своей страны, и ваша жертва не принесет ей успокоения.
– А если я какую-то часть имущества этого бездельника, ну, скажем, как частное лицо, филантроп раздам голодающему народу в виде риса? Это, пожалуй, идея…
– Пустое! – сказал генерал, сведя на переносице брови. – Императорский двор тотчас увидит в этом происки своих политических врагов, хитрый план привлечь на свою сторону народные массы, короче – угрозу династии… А вам, мой друг, отрубят голову. И это серьезно…
– Проклятье! – взревел я. – Зачем же я тогда сюда приехал?
Дипломат пожал плечами, но тут же, обнажив в хитрой улыбке желтые зубы, сказал:
– Сделайте вот что: разыщите семейство Ти Шинфу… Я же, со своей стороны, попытаюсь узнать у первого министра его превосходительства принца Тона, где живет интересующее вас потомство мандарина. Соберите всех его внуков и правнуков и дайте им дюжину-другую ваших миллионов. Потом организуйте пышные похороны мандарина по здешнему обычаю, с процессией, которая растянется на всю улицу, с бонзами, всевозможными паланкинами, копьями, опахалами, носилками, легионом надрывно рыдающих плакальщиц и так далее и тому подобное. И если после этого ваша совесть не успокоится и привидение будет вас преследовать…
– Что тогда?
– Перережьте себе горло!
– Премного вам обязан, генерал!
Однако при всем том кое-что, на чем сходились и сам Камилов, и почтительный Ca То, и генеральша, было очевидно, а именно: раз уж я решил свести знакомство с семейством Ти Шинфу, намереваюсь устроить похороны и пожить жизнью пекинца, то мне следует привыкать к одежде, манерам и церемонности мандарина, прежде всего надев платье богатого образованного китайца…
Желтоватый цвет моего лица и длинные свисающие усы были как нельзя кстати, и, когда на следующее утро, одетый с иголочки портными улицы Шакуа, я вошел в обитую алым шелком залу, где на лакированном столе уже стоял утренний завтрак, генеральша почтительно, точно явился сам Тон Че, Сын Неба, отступила.
На мне была темно-синяя парчовая туника с расшитой золотыми драконами и цветами грудью, она застегивалась сбоку; поверх нее надет шелковый казакин, тоже синий, но более светлый, короткий и свободный; из-под шелковых штанов орехового цвета виднелись желтые унизанные жемчугом домашние туфли и чулки в черную звездочку; у пояса на красивой перевязи с серебряной бахромой висел бамбуковый веер с портретом философа Лаоцзы. Подобные делают в Сватоу.
И сколь же теперь все во мне было созвучно одежде: все мои мысли и чувства тут же стали китайскими. Так, например, во мне появилось стремление к вычурным церемониям, бюрократическое почтение с определенной долей просвещенного скептицизма к формулам и вместе с тем унизительный страх перед императором, ненависть к чужеземцам, культ предков, приверженность к традициям и любовь к сладостям…
Душой и потрохами я уже был настоящий мандарин. И генеральше я не сказал: «Бонжур, мадам», а, согнувшись в полупоклоне и вращая кулаками у склоненного лба, приветствовал ее обычным китайским приветствием.
– Восхитительно, великолепно! – говорила она, премило улыбаясь и хлопая в ладоши.
В это утро в честь моего перевоплощения был подан китайский завтрак. Как же изящны были салфетки из шелковистой красной бумаги с нарисованными на них черными чудовищами! Завтрак начался с устриц из Нинпо. Устрицы были превосходны! Я с превеликим китайским удовольствием проглотил целых две дюжины. Затем подали нежнейшее мясо плавников акулы, потом бараньи глаза в чесночном соусе, водяные лилии в сахарном сиропе, апельсины из Кантона и, наконец, рис, священный рис предков…
Все эти яства запивались великолепным шаншиньским вином. А на десерт я получил чашку крутого кипятка, в который бросил – и с каким удовольствием! – щепоть императорского чая первого сбора, особого сбора, который, словно в священном обряде, совершается чистыми руками девственниц!..
Когда же мы закурили, появились две певицы, довольно долго издававшие гортанные звуки, – они пели песни времен династии Мин, пели под аккомпанемент гитар, обтянутых змеиной кожей, струны которых перебирали два татарина, сидевшие на корточках. В Китае можно найти развлечение на любой вкус.
Потом белокурая генеральша не без огня спела «Femme a Barbe»[11]11
«Бородатая женщина» (фр.).
[Закрыть] Когда же генерал в сопровождении отряда казаков отправился во дворец к принцу Тону, чтобы узнать местонахождение семейства Ти Шинфу, я, сытый и довольный, вышел вместе с Ca То посмотреть на Пекин.
Дом генерала Камилова находился в одном из аристократических военных кварталов Татарского города. Здесь всегда царит спокойствие. Изборожденные колесами повозок улицы напоминают широкие деревенские дороги и почти всегда идут вдоль стены, из-за которой свисают кленовые ветви.
Иногда по этим дорогам трусит рысцой монгольский пони, впряженный в коляску на высоких колесах, обитых золотыми гвоздями; коляску трясет: колышутся спущенные шелковые занавески и воткнутые по углам коляски пучки перьев; а внутри сидит хорошенькая китаянка, одетая в светлую парчу, с убранной цветами головой и скучающим видом, и вертит надетые на ее руки серебряные браслеты. А то вдруг появляются аристократические носилки мандарина, которые, поспешая, несут в какое-нибудь учреждение кули с косицами, они одеты во все голубое, впереди бегут слуги, держа высоко над головами шелковые свитки, расшитые знаками власти, в носилках сидит толстобрюхий человек в огромных круглых очках, он либо перелистывает какие-то бумаги, либо, открыв рот, дремлет.
Мы с Ca То останавливаемся у богатых лавок с вертикально висящими красными вывесками, на которых сверкают золотые иероглифы; покупатели молча, точно в церкви, скользят, подобно теням, от одной роскошной вещи к другой: здесь и фарфор династии Мин, и изделия из бронзы, эмали, слоновой кости, здесь шелка, изукрашенное инкрустацией оружие, чудесные веера из Сватоу; иногда можно видеть, как молоденькая, с раскосыми глазами красавица в голубом костюме и с бумажным маком в косах разворачивает перед толстым китайцем вышивку редкой красоты, которую тот рассматривает с благоговением, скрестив на животе руки; в глубине магазина стоит торжественный и недвижный хозяин, он что-то пишет кистью на длинных дощечках из сандалового дерева; все вещи источают сладковатый аромат, который волнует и навевает печаль…
Вот и стена, которая отгораживает Запретный город – священную резиденцию императора. Юноши благородного происхождения сходят по ступеням храма, они только что упражнялись в стрельбе из лука. Ca То называет мне имя каждого. Это избранная стража особого назначения: во время пышных церемоний юноши сопровождают желтый шелковый зонт с изображением дракона – священный символ императорской власти. Все они низко склонились перед проходившим мимо них седым длиннобородым старцем в коротком желтом одеянии; желтый цвет – привилегия старца: это один из принцев империи, он шел, разговаривая с самим собой, в руке у, него была палка, на которой сидели ручные жаворонки…
Сколь же своеобразны кварталы Пекина! Но, пожалуй, самое любопытное – увидеть довольно частую здесь встречу двух толстых мандаринов у входа в сад: они обмениваются бесконечными поклонами вежливости, рассыпаются в извинениях и одаривают друг друга улыбками – все согласно этикету, согласно установленному церемониалу, в то время как за их спинами весьма забавно покачиваются длинные павлиньи перья. Кроме того, подняв глаза вверх, к небу, обнаруживаешь парящих там огромных бумажных змеев в форме драконов, китов или сказочных птиц. Ими, этими легионами невероятных прозрачных и качающихся чудовищ, полнится все воздушное пространство.
– На сегодня, Ca То, хватит с нас Татарского города! Пойдем посмотрим китайские кварталы.
И вот через Чжиньменьские ворота мы входим в китайскую часть города. Здесь живет буржуазия, торговцы и простой люд. Улицы, подобно линейкам тетрадки, идут строго параллельно друг другу, и среди нечистот, многими поколениями втаптываемых в землю, нет-нет да увидишь плиты розового мрамора, которыми были вымощены они во времена династии Мин.
По обеим сторонам улиц тянутся то пустыри, откуда доносится вой голодных собак, то унылые домишки и жалкие лавчонки с длинными грязными вывесками, раскачивающимися на железном шесте. Чуть впереди видишь высящиеся триумфальные арки, сколоченные из деревянных брусьев пурпурного цвета и соединенные наверху покрытой лаком и блестящей, как эмаль, голубой черепичной крышей. Шумная густая людская толпа, одетая преимущественно в коричневые и синие тона, движется здесь нескончаемым потоком, туманом желтой пыли подернуто все вокруг, едкое зловоние источают черные стоячие лужи, и в людскую толпу то и дело врезаются караваны верблюдов, сопровождаемые мрачными погонщиками-монголами, одетыми в бараньи шкуры.
Мы идем до перекинутых через каналы мостов, на которых полуголые акробаты в масках злых демонов выделывают свои примитивно-хитрые и комически ловкие трюки; какое-то время я стою и наблюдаю за астрологами в длинных балахонах с наклеенными на спинах бумажными драконами, они шумно торгуют гороскопами и предсказаниями. Сколь необычен и сказочен город!
Вдруг слышатся громкие крики. Мы бросаемся в их направлении и видим группу связанных за косицы арестантов, которых сопровождает, подгоняя зонтиком, солдат в больших очках. Вот здесь-то, на этой улице, я и стал свидетелем пышных похорон одного мандарина; процессия несла всевозможные флажки и расшитые золотом красные штандарты, некоторые участники процессии жгли на переносных жаровнях благовония, оборванные женщины голосили и в отчаянии бросались на землю – слуги мгновенно устилали ее коврами – и катались по ней, потом вставали и были вполне веселы, когда кули в белой траурной одежде предлагал им чай из большого чайника, формой своей напоминающего птицу.
Проходя мимо храма Неба, на одной из площадей я вижу несметное число нищих, на телах которых нет ничего, кроме веревки вокруг пояса да привязанного к ней кирпича, и женщин, в волосах у которых красуются старые бумажные цветы, – они спокойно обгладывают кости; тут же лежат детские трупы, над которыми летают слепни. Идя дальше, мы натыкаемся на клетку, в которой сидит осужденный и, просунув сквозь решетку изможденные руки, просит милостыню… Позже Ca То привел меня еще на одну небольшую площадь, на Каменных плитах которой стояли маленькие клетки с головами казненных, с них на землю капала густая черная кровь…
– Фу, хватит, Ca То, – произнес я, пораженный увиденным и страшно уставший, – я хочу отдохнуть от всего этого, побыть в тишине и выкурить дорогую сигару.
Он склонился в поклоне и тут же повел меня по гранитной лестнице на городскую стену, что, протянувшись на многие километры, представляла собой широкую эспланаду, где в один ряд сразу могли ехать четыре боевых колесницы.
И в то самое время, когда Ca То, сидя между идущих поверх стены зубцов, позевывал, как всякий гид, которому все показываемое давно наскучило, я, покуривая, созерцал лежащий у моих ног огромный Пекин…
Он был подобен тому великолепному библейскому городу – Вавилону или Ниневии, – который за три дня из конца в конец прошел пророк Иона. Огромная стена с воротами и монументальными башнями, кажущимися издали почти прозрачными, ограждает его со всех четырех сторон света. В замкнутом этой стеной огромном пространстве зеленеют рощи, голубеют искусственные озера, отливают сталью каналы, через которые перекинуты мраморные мостики, виднеются пустыри с полуразвалившимися строениями и здания с поблескивающей на солнце черепицей, фамильные пагоды, белые лестницы храмов, триумфальные арки, тысячи беседок, выглядывающих из зелени садов, какие-то участки города сплошь уставлены фарфоровыми фигурками, а какие-то похожи на свалки, и всюду, куда бы ни упал взгляд, – бастионы сказочно неприступного вида…
Рядом со всеми этими грандиозными сооружениями человек – всего лишь жалкая темная песчинка, гонимая легким ветром…
Вот среди пышной зелени высится просторный императорский дворец, его желтые черепичные крыши сверкают, подобно чистому золоту. Как хотелось бы мне проникнуть в его тайны, увидеть, побывав на его многоярусных галереях, варварскую роскошь династий, царивших здесь веками!








