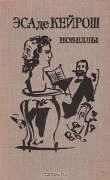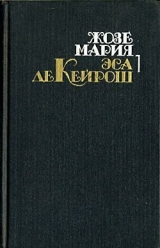
Текст книги "Мандарин"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
ТРАГИЧЕСКИЕ КОМЕДИИ ЭСЫ ДЕ КЕЙРОША
Имя классика португальской литературы Жозе Марии Эсы де Кейроша (1845–1900) давно и хорошо известно русскому читателю: еще в 1910—1920-е годы на русский язык были переведены многие из его романов, повестей, рассказов. Не исключено, что тогда же творческий опыт Кейроша был учтен и освоен русскими прозаиками. «На особом участке пола, где плитки были выложены в виде мозаичного узора, прямо против помоста с курульным креслом… стоял Иисус. Руки его были связаны веревкой, конец которой волочился по земле. Широкий грубошерстный хитон в серую полоску с голубой каймой понизу доходил до щиколоток… Он носил белую головную повязку из длинного домотканого полотнища, накрученного вокруг головы… Понтий тихо, устало и недоуменно спросил: «Так ты царь иудеев?»
Даже эта небольшая выдержка из романа Кейроша «Реликвия» (1887) вызывает в памяти страницы «Мастера и Маргариты». Важно, однако, не совпадение отдельных эпизодов или деталей – одеяние Иисуса, усталость и «отключенность» от происходящего Пилата (у Булгакова усиленная и мотивированная неотступно мучающей прокуратора головной болью), описание места судилища и т. д., существеннее то, что сходно само построение обоих романов, в которых соединено, казалось бы, несоединимое: сюжет «пикарески» и евангельское предание, карикатурно изображенная современность и трагическая история, сон и реальность. Герой Кейроша бакалавр Теодорико Рапозо, путешествующий к святым местам, фантастическим образом – во сне, не отличимом от яви, – переносится в Иерусалим времен правления Ирода Великого и присутствует при суде над Иисусом и его казни. Возникает как бы роман в романе.
Есть ли какая-нибудь закономерность в том, что еще в 80-х годах прошлого столетия португальский романист – в числе весьма немногих западноевропейских писателей-современников – начал осваивать те принципы творчества, на которых в значительной мере будет базироваться реализм XX века, выдвигающий на первый план субъективное сознание, совмещающий в едином времени-пространстве художественного произведения разные пространства и времена, подчиняющий образ героя не требованию психологического правдоподобия, а доказательству той или иной авторской идеи? Нет ли в этом «прорыве» Кейроша в XX век некоего парадокса? Ведь когда он и писатели его поколения – так называемого «поколения 70-х годов» – вступали на литературную стезю, в Португалии вообще не было сколь-нибудь значимой и оригинальной романической традиции. И по сей день сами португальские критики подчеркивают, что их родина – страна не прозаиков, а поэтов. Конечно, эта точка зрения устарела, но возникла она не случайно. Начиная с XVII века – века становления и формирования новоевропейского романа, – португальская литература существенно отставала от других европейских стран в плане развития «эпоса Нового времени». В Португалии эпохи барокко, несмотря на ее теснейшую связь с испанской культурой, так и не получил особого распространения жанр плутовского романа. В Португалии эпохи Просвещения так и не появилось ни одного значительного прозаика. Португальские романтики 40—50-х годов не без успеха сочиняли исторические романы – в духе романов В. Гюго 20—30-х годов, – но это было в то время, когда творили Бальзак и Флобер, Диккенс и Теккерей. Не случайно одного из популярнейших португальских романистов 60-х годов – Жулио Диниса – португальские ученые уподобляют О. Голдсмиту, английскому прозаику, жившему веком раньше.
И вот на протяжении каких-нибудь двух десятилетий – 70—80-х годов – португальский роман в лице Эсы де Кейроша ускоренно проходит все этапы трехвекового развития западноевропейского романа и вырывается в век XX. При этом Кейрош осваивает европейский опыт в несколько обратной последовательности, идя как бы от конца к началу.
Первым на этом пути был Флобер: обретающий себя в начале 70-х годов Кейрош – критический реалист превыше всего ставит достижения автора «Госпожи Бовари» и «Воспитания чувств». Не проходит он также мимо исканий французских натуралистов во главе с Э. Золя. Затем чрезвычайно актуальными становятся для него открытия английских прозаиков середины века: Дж. Эллиот, Дж. Мередита, Э. Троллопа, постигших тайну изображения внутренней жизни личности, не сводимой к сумме типических черт, производных от типических обстоятельств. В 80-е годы внимание автора «Реликвии» и «Мандарина» (1880) привлекает испанский плутовской роман. Наконец, и в строении, и в общем замысле романов Кейроша «Семейство Майа» (1888) и «Знатный род Рамирес» (1900) отчетливо видны следы пристального чтения «Дон Кихота». Таким образом, традиция близлежащая была равнозначна для португальского романиста традиции более отдаленной, а иногда перед нею и отступала. Социально-аналитический и социально-психологический роман XIX века в восприятии и в творчестве Кейроша соединялся с формами реалистического искусства добуржуазных эпох, с «аллегориями в духе Возрождения» (так он сам определяет жанр повести «Мандарин»), с «пикареской» и барочным «видением»… Не в этом ли разгадка новаторства португальского романиста?
Стремясь заглянуть в глубину разверзающейся перед буржуазным миром пропасти, Кейрош обращается к эксперименту. Но не в понимании натуралистов, считавших, что их «экспериментальные романы» должны быть сродни медико-анатомическим вскрытиям, а к эксперименту художественному. Он помещает своих героев, заурядных португальских обывателей, детей «позитивного» века, в фантастические, немыслимые ситуации или же, напротив, создает необычайное, высшее существо, вполне соответствующее ренессансному идеалу «универсального человека», и погружает его в пошлую атмосферу буржуазно-аристократического Лиссабона 80-х годов.
В этом разрыве с традициями бытового реалистического романа середины века можно было бы увидеть возвращение к романтизму, как известно, также тяготевшему к героям-избранникам и фантастическим, сказочным мирам. Но сходство между Кейрошем и романтиками в значительной мере внешнее. Обращаясь к области идеального, расширяя тем самым сферу изображаемой действительности, Кейрош радикально расходится с романтиками в самой трактовке идеала и в понимании его места в бытии.
Поэтому все творчество Кейроша – постоянная, непрекращающаяся полемика с романтизмом не только как с влиятельнейшим литературным направлением первой половины XIX века, но как с принципом мироотношения, ставящим идеальное над реальным, основанным на абсолютном доверии к слову, к словам. Романтизм для Кейроша – не только и не столько эстетика, но и философия, политика, социальная практика, наконец, просто быт буржуа, чья дочь по утрам бренчит на рояле вальсы Шумана, супруга вечером едет в оперу слушать «Травиату», а сам он на досуге почитывает Дюма-отца.
Искусство, родившееся на гребне Великой французской революции, поставившее в центр мироздания образ бунтаря-изгоя, отверженного людьми и богом, во второй половине века оказалось присвоенным буржуа, превратилось в мираж, освящающий стабильность существующего миропорядка. А бывшие романтики-бунтари, сражавшиеся в революциях 20—40-х годов, теперь заседают в буржуазных парламентах и занимаются либеральной болтовней…
При этом нельзя забывать, что романтизм не был для Кейроша чем-то враждебным. В Португалии вплоть до 70—80-х годов это была влиятельнейшая культурная традиция. Кейрош вырос в атмосфере воспоминаний отцов и дедов о гражданских войнах и переворотах 20—50-х годов, его любимыми с детства авторами были В. Гюго и Ж. де Нерваль, Гейне и Эдгар По… Независимо от своих выстраданных воззрений, Кейрош носил романтизм в самом себе. И когда он яростно спорил с романтизмом, это был спор с самим собой – со всем, что приводило в восторг в юности, что вдохновляло на великие прожекты в молодости.
В свете неизменно негативного, но всякий раз иного, по-новому прочувствованного и пережитого отношения Кейроша к романтизму можно было бы прочертить линию его творчества. Однако провести ее плавно, безотрывно не так-то легко.
Писательству Кейрош посвящал досуг, который предоставляла ему дипломатическая служба (большую часть жизни, с 1872 года и до смерти, Кейрош прожил за границей, служа консулом сначала в Гаване, потом в Ньюкастле и в Бристоле, наконец, уже обзаведясь семьей и домом, в Париже). Высокий, артистический дилетантизм, присущий его идеальным героям, был не чужд и их создателю. Кейрош так и не осуществил самый грандиозный из своих замыслов – замысел создания многотомного цикла романов в духе «Человеческой комедии» или «Ругон-Маккаров», обозначенного в планах как «Сцены португальской жизни». Многие произведения писателя, незаконченные, годами покоились в ящиках письменного стола и были изданы только после смерти автора (так произошло с романами «Столица», «Город и горы», повестью «Граф Абраньос», фрагментами из «Переписки Фрадике Мендеса…»).
Однако в своем творчестве Кейрош отнюдь не порхал среди идей и фактов. Он очень остро сознавал свою ответственность перед Словом и над своими законченными произведениями работал очень подолгу. Даже когда то или иное произведение уже становилось достоянием читателей, писатель продолжал над ним работать. Такова была судьба романа «Преступление падре Амаро», впервые опубликованного в «Западном журнале» в 1875 году и коренным образом переделанного автором для отдельного издания, вышедшего годом позже. Это издание Кейрош назвал «окончательной редакцией». Однако «окончательная редакция» была также существенно переделана для третьего издания романа (1880 г.). Над эпопеей «Семейство Майа» Кейрош работал около десяти лет: роман вышел в 1888 году, хотя его публикация была обещана читателям журнала «Португальский дневник» еще в 1880-м!
И все же три периода – три условных десятилетия – в творчестве Кейроша выделить можно.
Это 70-е годы (с 1866 по 1878), к которым относятся первые прозаические опыты писателя – небольшие поэмы в прозе собранные позднее под названием «Варварские рассказы» (1866–1868), незаконченная повесть «Смерть Иисуса» (1870), пародийно-детективный роман «Тайна Синтрской дороги» (1870; написан совместно с Р. Ортиганом), некоторые новеллы и повести, первые версии романа «Преступление падре Амаро», а также роман «Кузен Базилио» (1878);
80-е годы (с 1878 по 1888) – десятилетие, вместившее в себя и работу над последним вариантом «Преступления падре Амаро», и написание «Мандарина» и «Реликвии», и создание романа «Семейство Майа», о котором португальский литературовед Жоан Гаспар Симоэнс не без оснований говорит как о «самом совершенном творении словесности, созданном в Португалии со времен Камоэнса»[1]1
Joao Gaspar Simoes. Vida e obra de Eca de Queiroz. Lisboa, 1973, p. 574.
[Закрыть];
90-е годы – «закатное» десятилетие жизни и творчества писателя, в которое написаны «Знатный род Рамирес», «Город и горы», ряд новелл, некоторые из которых («Совершенство», «Цивилизация») представлены в настоящем «Избранном».
Остальные же вошедшие в «Избранное» произведения относятся ко второму – самому сложному, противоречивому и плодотворному – десятилетию творчества писателя.
* * *
В 1878 году в Бристоле Кейрош начинает подготавливать третье издание «Преступления падре Амаро» – по сути дела, пишет новый роман. В нем конкретизируются многие абстрактно-романтические идеи первоначальной редакции, в которой Кейрош изобразил трагедию молодых людей, охваченных порывом страсти и расплачивающихся за пренебрежение общественными условностями и нарушение церковного устава. Теперь Кейрош прилагает немало усилий к тому, чтобы показать, под влиянием какого окружения и в каких обстоятельствах сформировались характеры Амаро и Амелии, обусловившие, в свою очередь, характер связавшего их чувства – можно назвать его и любовью, но вовсе не в романтическом, метафизическом значении слова. «Любовь» для Кейроша – физиологически, психологически и социально мотивированная эмоция. Все в ней проявляется и сказывается: и природная страстность Амелии (ее «темперамент»), и мужская закомплексованность Амаро, и социальный статус каждого. Кейрош исследует любовь Амаро и Амелии как извращение естественного стремления друг к другу молодого человека и привлекательной молодой девушки. Истоки этого извращения – в семинарском воспитании Амаро: «Уроки, посты, покаяния – все это обуздывало животные порывы, прививало механическую покорность, по внутри, в глубине, продолжали шевелиться молчаливые желания, точно змеи, потревоженные в гнезде». Извращением природы является сан, обрекающий его на безбрачие. Извращение – сам католицизм, в котором утонченный мистицизм соседствует с эротикой, «молитва творится… языком плотской любви. К Иисусу взывают, его заклинают невнятным лепетом нетерпеливой безрассудной страсти». Именно это гнездящееся вподсознании противоестественное соединение благочестия с неприличием, святошества с бесстыдством сближает Амаро и Амелию: выросшая в кругу священнослужителей, содержателей ее матушки, дочка Сан-Жоанейры уже первые проявления пробуждающейся плоти бессознательно училась переводить на язык религиозного экстаза. В новом свете предстает в третьей версии романа и идея реабилитации природного начала, лежавшая в основе первоначального замысла. Теперь Кейрошу нужны не только рассуждения о зловредности безбрачия духовенства, но и то, как Амаро выстраивает из них нравственное оправдание своего вполне эгоистического и безответственного желания – овладеть Амелией любой ценой. Несовпадение слов и поступков, рассуждений и истинных намерений – вот что фиксирует аналитик Кейрош в своих героях. По сути, с высокой страстью первоначального варианта романа он делает то же, что аббат Ферран – единственно симпатичный персонаж книги – с письмами Амаро, адресованными Амелии: «Аббат анализировал фразу за фразой, показывая Амелии, сколько в этих письмах лицемерия, эгоизма, риторики и самого грубого плотского вожделения».
Аббат «разочаровывал Амелию в ее возлюбленном». Цель Кейроша в «Преступлении падре Амаро» – также разочаровать читателя, нет, не в жизни, которой писатель поклонялся во всех ее проявлениях до последнего часа. Кейрош стремится разочаровать читателя в романтизме. Кейрош подвергает романтизм не менее беспощадной критике, нежели религиозное ханжество. Романтизм, подобно религиозному экстазу, извращает, искажает естественное движение чувства, подменяет реальные радости и горести реальной жизни фальшивыми страданиями и восторгами. Сближение, отождествление романтизма и святошества – особая, совершенно оригинальная черта романа Кейроша, то неповторимо национальное, что он внес в разработку темы «воспитания чувств», начатой Флобером.
Следов полемики с романтизмом в романе – множество. Начать с того, что Кейрош представляет Амелию не только усердной прихожанкой, но и читательницей «романов с продолжениями» – тех самых, что пародировались Эсой в «Тайне Синтрской дороги». В романах этих мирно соседствовали мещанское умиление радостями «законного брака» и восхищение роковой силой страсти, толкающей скучающую мещанку к адюльтеру (так и в душе Амелии преспокойно уживаются влечение к Амаро и мечта о браке с Жоаном Эдуардо). А только ли одни священные книжицы читал Амаро в семинарии? Ведь едва лишь прикоснувшись к быту аристократического дома в Лиссабоне, он увидел в нем образ «жизни, похожей на роман». Эта «романтическая» жизнь, в которой он в одеянии прелата исповедует изысканную графиню, ощущая над ее душой полную свою власть, неизменно присутствует в его сознании. Пока же графиня недоступна, приходится довольствоваться провинциалкой Амелией… Приходится посвящать ей романтические вирши:
Ты помнишь ли ту прелесть ночи дивной,
когда луна с небес сияла нам?.. – и т. д.
Полемикой с романтизмом является и сам сюжет «Преступления падре Амаро». Ведь Кейрош не первый писал о греховной страсти священнослужителя; до него были «Собор Парижской богоматери», роман «Анафема» Камило Кастело Бранко, многие другие произведения. В них священник обычно изображался как изгой, проклятый богом и людьми, как тот, чья любовь обречена быть безответной. У Кейроша все наоборот: страсть Амаро – разделенная страсть, а сам он прекрасно вписывается в среду провинциальных мещан и святош. Нет в нем ничего рокового.
Да, Кейрош беспощаден к своим героям. И все же они не куклы. В этих «типичных» героях, поставленных в «типические» обстоятельства (а Кейрош всячески подчеркивает, что греховное сожительство священника и девицы не такая уж редкость!), теплится жизнь. Чувство, связавшее Амаро и Амелию, не «уютное» и расчетливое сожительство Сан-Жоанейры и каноника Диаса. Это пускай искаженное, извращенное, эгоистичное, но живое человеческое чувство, мучительное, неотступное, завладевшее всем существом любовников. Иначе мы не испытывали бы потрясения при чтении страниц, на которых рассказывается о том, как Амаро мчится к «поставщице ангелочков» Карлоте, все еще надеясь спасти своего сына. Иначе автор время от времени не отказывался бы от своего монопольного права всеведущего повествователя-аналитика и не предоставлял бы героям свободу самовыражения, не строил бы повествование в ракурсе восприятия то Амелии, то Амаро, побуждая тем самым читателя к соучастию и сопереживанию. Наконец, если бы Кейрош хотел превратить свой роман в сплошной разоблачительный фарс, он не соизмерял бы все в нем происходящее с самой жизнью. Именно Жизнь, а не резонер-позитивист доктор Гоувейя, является для Кейроша Высшим Судией. Отступление Амаро от Жизни – первый шаг к его преступлению – начинается именно тогда, когда он попадает в дом Сан-Жоанейры и принимает этот уютный замкнутый мирок за лик Жизни, наконец-то повернувшейся к нему своей доброй стороной. В этом мирке его любовь к Амелии – при всей ее чувственности – сохраняет обличье милой идиллии. Она – свет, тепло, запахи кухни. А вокруг – дождь, холод, беспросветный мрак, позади – воспоминания о суровой жизни в горном приходе… Вокруг и позади – Жизнь, идущая и текущая помимо Амаро. Жизнь, с которой воссоединится задушенная своей страстью Амелия. «– Аминь! – откликнулись провожающие, и рокот их голосов, прошумев, затерялся в листве кипарисов, среди трав и надгробий, в холодном тумане пасмурного ноябрьского дня».
* * *
В первых редакциях роман «Преступление падре Амаро» заканчивался этими проникновенными строками, переводящими все повествование в просветленно-трагический регистр. В последней – другой финал, переносящий читателя через годы – в май 1871 года, через пространства – из провинциальной Лейрии в центр Лиссабона, где возбужденные толпы читают вывешенные на доске телеграммы агентства «Гавас», сообщающие о подробностях восстания и боев на улицах Парижа.
Вполне исцеленный от страстей и утрат, Амаро встречается здесь с каноником Диасом, и оба выражают «свое возмущение сворой масонов, республиканцев, социалистов, этим отребьем, которое хочет уничтожить все святыни: духовенство, религию, семью, армию, собственность…». Новый финал романа непосредственно включает его в ряд произведений, создававшихся Кейрошем во второй половине 70-х годов («Столица», «Граф Абраньос» и др.). К этому моменту Кейрош вполне сложился как писатель-реалист. Однако его реализм имеет несколько «натуралистическую» окраску: в Португалии, как и во всех других странах, где формирование реализма шло замедленными темпами и совпало со временем расцвета французского натурализма, и в сознании писателей, и в их творчестве границы между реализмом и натурализмом оказались достаточно размытыми. Кейрош также нередко отождествляет реализм и натурализм. Это заметно и в его речи, известной под названием «Реализм в искусстве», прочитанной в лиссабонском казино еще в июне 1871 года, и в споре о натурализме (реализме?) и романтизме, который разворачивается на страницах романа «Семейство Майа» между поэтом-романтиком Аленкаром и писателем – представителем «поколения 70-х годов» Жоаном да Эга. Слова «натурализм» и «реализм» звучат в нем как синонимы, уравнены общим определением: новое искусство, призванное уничтожить твердыню романтизма. Что же оно такое?
Это – искусство, основанное на документально точном воссоздании «среды» и «времени». Под «средой» имеется в виду общество, под «временем» – современность (нельзя забывать, что основным жанром романтической прозы был исторический роман!), «Новое искусство» – искусство «объективное», исследующее действительность с «научным» беспристрастием и «научными» методами, и вместе с тем социально-критическое. Это – «беспощадное исследование, коему подвергается Церковь, Общество, Королевская Власть, Бюрократия, Финансы, все священные институты общества: их вскрывают, обнажая их язвы, как это делают с трупами в анатомическом театре…» «Новое искусство» изображает героя как «продукт» взаимодействия «среды» и «времени» (биологическое начало, столь важное для французских натуралистов, занимает и в рассуждениях, и в творчестве Кейроша не столь уж большое место). И в тех произведениях Кейроша, где он более всего сближается с натурализмом, например, в романе «Кузен Базилио», «герой» как эстетическая категория практически исчезает из повествования. «Кузен Базилио» привлек внимание публики беспощадной «объективностью» и шокирующей детализованностью описания «среды» – буржуазного Лиссабона и буржуазной семьи, в которой разыгрывается традиционная адюльтерная драма, заканчивающаяся гибелью ее героини Луизы – воспитанной на «романах» мещаночки, целиком находящейся во власти «среды», дурного воспитания, инстинкта и… скрупулезного авторского анализа.
Окрыленный успехом «Кузена Базилио», Кейрош и задумывает романический цикл «Сцены португальской жизни», который, как уже говорилось, не состоялся. Исследователи творчества Кейроша предлагают этому разные объяснения; в частности, отмечают, что для осуществления своего замысла писатель должен был постоянно иметь перед глазами «натуру» – Португалию, где, начиная с 1872 года, он бывал только наездами. Но главное, видимо, не в этом. Автор «Кузена Базилио» чувствует тупиковость пути, на который он встал, ощущает свою скованность требованиями натуралистического канона. Ведь Кейрош, по сути, никогда не изменял пониманию жизни, природы как одухотворенного целого, человека – как частицы этой жизни. Натурализм же предлагал превратить жизнь в анатомируемый труп, человека – в «продукт», в «куклу».
В 1880 году – в год выхода последней редакции «Преступления падре Амаро» – Кейрош решительно сходит с проторенного пути. В «Мандарине» – небольшой повести, написанной им «в один присест», – он пробует хоть ненадолго отдохнуть от «пытки анализом, от несносной тирании реального мира».
Повесть строится как сюжетная реализация этического парадокса Шатобриана, сформулированного в книге «Гений христианства» и построенного как вопрос: «Если бы ты мог одним твоим желанием убить человека, живущего в Китае, и, не покидая Европы, завладеть его богатством, да еще был бы свыше убежден, что об этом никто никогда не узнает, уступил бы ты этому желанию?» В парадоксе Шатобриана воплотился главный искус буржуазного общества – деньги, богатство, власть над миром… И обозначен единственный путь к обладанию ими – преступление. Преступление без наказания. Преступление, лишенное традиционных отталкивающих атрибутов: кровопролития, мук жертвы. Преступление «на расстоянии» (наивный XIX век думал, что убить на расстоянии – вещь технически не осуществимая).
Говоря о литературных источниках «Мандарина», исследователи не могут пройти мимо романа Бальзака «Отец Горио», в котором Растиньяк, готовясь к преступлению, вспоминает парадокс о старом мандарине. Но кроме Бальзака к парадоксу Шатобриана обращались многие другие писатели: А. Дюма-отец в «Графе Монте-Кристо», журналист и театральный критик О. Витю, впервые развернувший парадокс о мандарине в новеллистический сюжет (новелла Витю «Мандарин» была опубликована в 1848 г.), драматурги А. Монье и Э. Мартен, сочинившие одноактный водевиль «А ты убил мандарина?» (1855), Л. Прота, автор песенки «Убьем мандарина» (во французский язык перешло выражение «убить мандарина», ставшее идиоматическим), а также другие – в основном, весьма второстепенные – сочинители. Словосочетание «убить мандарина» стало комментироваться в словарях и энциклопедиях, о его происхождении шли дискуссии на страницах газет. Разного рода детали свидетельствуют, что Кейрош отталкивался не столько от Шатобриана или Бальзака, сколько от этих в большинстве малопочтенных авторов. То есть в основу своего «Мандарина» он положил не просто парадокс Шатобриана, а Шатобриана, опошленного буржуазной прессой и бульварной литературой. И это обстоятельство чрезвычайно важно. Дело в том, что в «Мандарине» Кейрош не только развлекает и поучает своего читателя, но и втайне смеется над ним. Повесть построена как ироническое обыгрывание стереотипов обывательского сознания, многие ее страницы – забавно скомбинированный коллаж из публикуемых какими-нибудь «Фигаро» или «Иллюстрасьон» картинок из жизни богача-миллионера.
Читатели иллюстрированных журналов любили не только описания жизни набобов, но и приключения, путешествия, рассказы о заморских экзотических землях. Кейрош удовлетворяет и эту их страсть. Он посылает своего героя в Китай, подвергая его всяческим опасностям и попутно сообщая разного рода сведения о жизни и обычаях китайцев. Конечно, Китай, описанный Кейрошем (что прекрасно сознавал сам автор), имеет к реальному Китаю столь же отдаленное отношение, сколь картинка из «Иллюстрасьон» к повседневной жизни богачей. Он «переписан» у популярнейшего беллетриста того времени – Жюля Верна, среди многочисленных сочинений которого есть и роман «Похождения китайца в Китае».
Обыватель любит романтизм. И вот Теодоро является перед ним в романтической позе изгоя. «Мир для меня теперь – груда развалин, среди которых бродит моя одинокая душа, бродит, точно изгой среди поверженных колонн, и стонет» (нетрудно представить, как хохотал Эса, выводя подобные фразы!).
Но к тому времени, когда сочинялся «Мандарин», обыватель успел присвоить себе и поначалу шокировавший его натурализм: генеральша Камилова просит Теодоро прислать ей из Парижа вместе с флаконами опопонакса и последние романы Золя. Кейрош, расставаясь с натурализмом, исподтишка посмеивается и над ним.
Главное же, над чем иронизирует португальский писатель, – столь дорогой католицизму миф о милосердном вмешательстве богородицы в жизнь грешника, спасающей его своим заступничеством из пасти дьявола, миф, воплотившийся в стольких творениях западноевропейской словесности. Кейрош соединяет парадокс Шатобриана с сюжетом о сговоре человека с дьяволом, дарующим ему власть над миром. В «Мандарине» весь «фаустовский» сюжет развивается наоборот. Матерь скорбящая, чей образ на всякий случай берет с собой Теодоро в странствование по Китаю, не спасает героя Кейроша. Впрочем, и дьяволу, как выясняется, до его души нет никакого дела. Весь пафос повести как раз и состоит в отрицании Провидения, в утверждении мысли, что за свои поступки отвечает и расплачивается сам человек, что если уж «жизнь проиграна», то – необратимо.
Жанр повести Кейроша, которую можно было бы назвать не только «аллегорией в духе Возрождения», но и «философской повестью» в стиле Вольтера, предполагает, что в ней не должно быть никакого психологического правдоподобия. Поэтому в самом строении «Мандарина» заключен некий парадокс: книга, написанная в форме повествования от первого лица, ничего не говорит нам о внутреннем мире, о духовной жизни этого «лица». Читателю предлагается поверить герою на слово: поверить и в его раскаяние, и в его «мировую скорбь», и в его страдание, и в завещанную им мораль. Изображение в повести почти сплошь плоскостно, как рисунок, нанесенный на китайской вазе. Но именно почти. В «Мандарине» есть особая глубина, возникающая оттого, что в рассказ Теодоро автор «Мандарина» вкладывает немало и своего, кейрошевского.
Например, свой артистизм, свое умение вживаться в роль. «На мне была темно-синяя парчовая туника с расшитой золотыми драконами и цветами грудью, она застегивалась сбоку… И сколь же теперь все во мне было созвучно одежде, все мои мысли и чувства тут же стали китайскими…» – рассказывает Теодоро. Или – Кейрош? Сохранилась фотография: Кейрош в саду, в кимоно, расшитом драконами. Писатель очень любил этот наряд, любил представлять себя «в роли».
На страницах повести наряду с Китаем «романическим» сушествует и Китай «парнасский», увиденный глазами самого Кейроша, в молодости очень увлекавшегося поэзией а прозой французского «Парнаса». Парнасцы видели в этой стране прибежище искусств, успокоения, мир изысканной фантазии и утонченных удовольствий. И кажется, в тех эпизодах «Мандарина», где повествуется о приятнейших часах, проведенных Теодоро в Пекине, отзываются строки Теофиля Готье:
На этот раз моя любовь в Китае;
Там, у реки, где желтая волна,
В хоромах из фарфора обитает
С родителями важными она…
(«Китайское»)
Но был ведь и Китай реальный. Кейрош успел косвенно с ним соприкоснуться. Во время консульской службы на Кубе новоиспеченный дипломат, полный намерений как можно лучше служить избранному делу, обязан был защищать интересы, китайских наемных рабочих, вывозимых на Кубу испанскими плантаторами из Макао. Кейрош видел, в каких ужасающих условиях, в каком состоянии полного бесправия, на положении настоящих рабов, оказываются китайцы на Кубе. Он засыпал Лиссабон петициями, требовал государственных санкций против Мадрида… Тщетность и бесплодность этих усилий вскоре стала для Кейроша ясна. И когда автор «Мандарина» описывал отчаянные попытки Теодоро улучшить положение народа в Срединной империи, то, конечно же, вспоминал «похождения» португальского консула в Гаване.
И не только над романтической позой смеется Кейрош в «Мандарине», то и дело упоминая о печали, в коей пребывает «недоносок» Теодоро: он смеется над самим собой, над своими попытками отыскать среди «несовершенных творений господа бога» примеры подлинного человеческого совершенства. В этом парадоксальном совпадении авторского мировидения с мировидением далеко не идеального персонажа «Мандарин» очень сходен с «Реликвией», романом, написанным в 1884 году и вышедшим отдельным изданием в 1887-м.
«Реликвия», как и «Мандарин», построена по принципу классического плутовского романа – как повествование от первого лица героя-«плута» (на плутовскую природу Рапозо намекает сама его фамилия: Raposo – порт. лис). То есть, согласно замыслу, и современность, и евангельские сцены должны быть представлены в романе в одном-единственном ракурсе – с «низовой», циничной точки зрения героя.