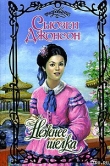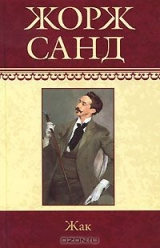
Текст книги "Жак"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
LXI
От Октава – Фернанде
Вот уже месяц мы все вместе. И как странно мы провели время. С того дня, как вы мне приказали подавить свою любовь, я так усердно прикрыл ее пеплом, что иной раз мне казалось, будто она совсем угасла. Конечно, так Я чувствую себя куда спокойнее, чем зимой, но, право, вам следовало бы время от времени хоть немного оживлять пламя восторга тайной страсти, которая заставляла меня все обещать и всем жертвовать. Ваше сердце, по-видимому, отвергло меня, и я с каждым днем все больше впадаю в уныние. Быть может, вы боитесь, что я не буду слушаться ваших наставлений? Почему вы уже отступились от меня? Может быть, вам надоела моя грусть? Может быть, вам докучают мои сетования? А ведь как легко было бы вам утешить меня немногими словами доверия и сострадания! Неужели вы не знаете своей власти надо мной? Когда же она ослабевала? Иной раз вы бываете безотчетно жестоки и делаете мне ужасно больно, не замечая этого: разве не могли вы, например, немножко скрывать от меня свою любовь к мужу? Во всем остальном вы так великодушны и деликатны, но в этом, словно нарочно, с каким-то упорством причиняете мне страдания. Оставьте эту ненужную выставку супружеских чувств для женщин, сомневающихся в себе. А как тактично вы держали себя в первые дни, в дни милосердия своего! Как хорошо вы умели сказать мне такие слова, которые утешали или по крайней мере смягчали мое горе! Разумеется, вам на ум не приходила кощунственная мысль умалить достоинства вашего мужа, которые я и сам ценил, но все-таки раньше, когда вы говорили о нем, то, не отрицая своей привязанности к нему, которую я и не хотел бы отнять у него, вы обладали чудесным уменьем убеждать меня, что и моя доля так же хороша, как его, хотя и отличается от нее; а теперь вы проявляете бесполезный и жестокий талант мучить меня, показывая, как великолепна его доля и как ничтожна моя. Разве не могли вы скрыть от меня эти фокусы с детьми и с колыбельками? Не знаю, как объясниться яснее, боюсь быть грубым – сегодня я в язвительном расположении духа. Ну, вы приказали вынести колыбели детей из вашей спальни, верно? В добрый час! Вы молоды, чувства ваши в расцвете, муж преследовал вас требованиями поскорее отнять детей от груди. Ну что ж, тем лучше. Нынче утром вы менее прекрасны и кажетесь мне менее чистой. Я чтил вас в мыслях своих, благоговел перед вами; видя вас, такую молодую, с двумя младенцами на коленях, я сравнивал вас с Богоматерью, с белокурой и целомудренной мадонной Рафаэля, ласкающей своего сына и сына Елизаветы. В самых пламенных восторгах страсти увидев, как из вашей белоснежной точеной груди падают капли молока на невинные уста вашей дочери, я замирал в каком-то неведомом чувстве и почтительно отводил взгляд из страха осквернить эгоистическим желанием святейшую из тайн благодетельной природы. А теперь… Теперь прикрывайте хорошенько свою грудь, вы снова стали женщиной, вы более не мать и не имеете права на то наивное уважение, которое я питал к вам вчера и которое переполняло мое сердце любовью и грустью. Я чувствую себя более равнодушным и более смелым. Как дурно вы поступаете с человеком столь простодушным, по-деревенски простодушным, как я: ведь вы могли иначе вернуть своему супругу право входить по ночам к вам в спальню – можно было и не оповещать об этом весь дом, а главное, не оповещать меня.
LXII
От Жака – Сильвии
Блосская ферма
Я должен уехать. Не знаю, на сколько времени, но уехать мне необходимо: я становлюсь противен Фернанде, а это уж хуже всего на свете. Она любит Октава, теперь для меня это несомненно. Вчера, когда она по моему настоянию велела перевести детей из спальни, так как они своими криками не давали ей спать и довели ее до изнеможения, заметила ли ты, какой странный спор возник между Октавом и ею:
– А вы уверены, что дети будут обходиться без вас всю ночь? – сказал он.
– Надо им привыкать, – ответила она, – их уже пора отнимать от груди.
– Мне кажется, они слишком малы для этого.
– Им скоро исполнится год.
– Flo за ними плохо будут ухаживать. Кому же мать может передать заботу следить ночью за детьми?
– Я без всякого страха могу поручить это Сильвии.
Тогда он нетерпеливо махнул рукой и вышел, ни с кем не простившись.
Сначала я не понял, что означает его поведение, но, когда поразмыслил, мне все стало ясно. Я внимательно поглядел на Фернанду: за последнее время она очень побледнела, но скорее от какой-то печали, чем от болезни. Я решил узнать, что с ней, как мне держаться, и в полночь вошел в ее спальню.
Бог мне свидетель, что, приказав унести детей, я не имел тех намерений, которые Октав приписывал мне. Уже больше года жена не засыпала у меня на груди, а это было бы столь же сильной и столь же чистой радостью, как и в первый день нашего союза, будь эта радость взаимной; но целый месяц меня томят сомнения, и этот месяц, в который я, не принуждая ее нарушить святые обязанности материнства, мог бы сжимать ее в своих объятиях, был исполнен для меня неизбывной тоски. Как она теперь мрачна и молчалива! Ты заметила, Сильвия? Октав печален, а иногда ходит как в воду опущенный. Они борются, сопротивляются, несчастные! Но любят друг друга и страдают. Напрасно я то принимал, то отбрасывал мысль об их взаимном влечении – она все сильнее укреплялась во мне. Наконец я решил вчера согласиться с этой мыслью, как она ни была для меня ужасна, и на мгновение отважился показаться своей жене низким человеком, чтобы никогда не подвергаться опасности стать негодяем. Я подошел к ее постели и увидел, что Фернанда притворилась спящей, – бедняжка надеялась таким образом избавиться от моей назойливости. Я поцеловал ее в лоб, она открыла глаза и протянула мне руку; но я заметил, что она вздрогнула от ужаса и отвращения. Я, как и прежде, заговорил о своей любви, она назвала меня дорогим своим Жаком, своим другом, ангелом-хранителем, но о слове «любовь» и не вспомнила, а когда я попытался привлечь ее губки к своим губам, лицо ее приняло странное выражение унылого смирения. Ангельскую кротость излучало ее чело, во взгляде сквозила безмятежность чистой совести, но уста были бледны и холодны, руки двигались вяло. Я почел испытание достаточно сильным; для меня было бы немыслимо искать удовольствия в ее мучениях. Во мне вызывали ужас мои супружеские права, а она, видимо, полагала, что я способен воспользоваться ими против ее воли. Я поцеловал ей руки и попросил, чтобы она рассказала мне, о чем она горюет и чего не хватает для ее счастья.
– Да как же я могла бы считать себя несчастной, – ответила она, – когда единственная твоя забота – сделать мою жизнь приятной, избавить меня от малейших огорчений? Какой надо быть женщиной, чтобы жаловаться на тебя!
– А если б тебе захотелось переменить образ жизни, – сказал я, – поехать в другие края, окружить себя более многочисленным обществом, знай, что достаточно тебе сказать слово, и я с величайшей радостью готов буду исполнить твои желания. Если ты печальна и больна, оттого что тоскуешь, почему не признаешься мне в этом?
– Нет, я не тоскую, – ответила она со вздохом, и я увидел, что ее искушает мысль открыть мне свое сердце. Вероятно, она так и сделала бы, если б тайна принадлежала лишь ей одной, но она не могла исповедаться мне за другого. Я помог ей замкнуть в груди свое признание и ушел, сказав следующие слова:
– Помни, я твой отец и готов нести тебя на руках, чтобы ты не ступала по терниям. Только скажи мне, когда ты устанешь идти одна. В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, Фернанда, никогда не бойся меня.
– Ты ангел, ангел! – повторила она несколько раз, и лицо ее осветилось благодарностью за то, что я ухожу. Я возвратился в свою спальню и в отчаянии бросился на постель. Последний раз в жизни я переступил порог ее спальни.
Значит, это непоправимо – она меня больше не любит. Увы! Разве я давно уже этого не знал? Зачем мне понадобилось еще одно испытание, чтобы удостовериться в этом? Ведь уже несколько месяцев, сама того не зная, она любит Октава. А та мирная привязанность, которую она выражает мне, – не что иное, как дружба. Со мной ей теперь хорошо, спокойно, из-за него же она начинает страдать, любовь всегда будет приводить ее к страданиям; вот сейчас ее будут мучить всякие страхи и все трудности светской жизни. Бог знает, какие преувеличенные укоры совести терзают ее, но что ж мне делать? Отвести ее от опасности и постараться, чтобы она позабыла Октава? Если я брошу ее в вихрь света, она при своей впечатлительности и простодушии опять будет тянуться к любви и сделает плохой выбор: ведь она гораздо выше тех салонных кукол, которых называют светскими женщинами, и вряд ли ей понравится их пустое существование и глупые их удовольствия. Возможно, что такая суета на некоторое время удивит, ошеломит ее и отвлечет от пережитой страсти, но вскоре она еще сильнее почувствует живущую в ней потребность в любви, в сердце ее пробудится любовь – к Октаву или к кому-нибудь другому, который не будет ее стоить и погубит ее. А тогда она справедливо возненавидит меня за то, что я оторвал ее от привязанности, которая была еще невинной и, быть может, навсегда осталась бы такой, и бросил ее в бездну разочарования и горестей. Но если я оставлю ее здесь, однажды утром она окажется преступницей в собственных своих глазах и, проливая потоки слез, обвинит меня в том, что в час опасности я покинул ее с полным равнодушием или глупой доверчивостью. Быть может, она возненавидит любовника за все свои страдания, волнения и упреки совести, а меня будет презирать за то, что я не сумел уберечь ее.
Итак, я стою в растерянности на перепутье и не знаю, как поступить, словно никогда и не предвидел того, что сейчас совершается. Вот уже два года я всячески пытался представить себе то самое будущее, которое ныне наступило, но ведь есть тысячи причин для того, чтобы потерять любовь женщины, и всегда действует как раз та причина, которой ты не предвидел. Глупо предписывать себе правила поведения, когда лишь случай может указать тебе, какое решение явится наилучшим. Вот почему человеческое общество всегда строилось на самовластных законах, хороших для всей массы людей, ужасных и нелепых для отдельной личности. Можно ли создать кодекс добродетели, обязательный для всех, если человек не может создать такой свод для себя одного и обстоятельства вынуждают его менять эти правила десять раз в жизни? В прошлом году, когда я думал, что Фернанда дерзко обманывает меня, я собирался уехать, намереваясь бросить ее без всякой жалости и угрызений совести. Почему же так странно изменились теперь мое поведение и мои намерения? Она любит Октава, как я и полагал; перед ними те же самые места, те же люди, то же положение они занимают в обществе; но чувства мои уже не те: я полагал, что Фернанду грубо влечет к мужчине, а теперь вижу, что она любит трепетной любовью и против своей воли, любит душу, понявшую ее. Она бледнеет, она трепещет, она плачет. Вот как будто и вся разница, но эта разница все решает: вместо бессердечной женщины я вижу женщину благородную и искреннюю. Теперь я уже не могу утешаться презрением. Из-за чего она могла лишиться моего уважения? Что она сделала? Поистине ничего. И если б даже уступила пылкой страсти любовника, она лишь подчинилась бы велению неизбежной судьбы. Меня она больше не любит, а ей девятнадцать лет, и она прекрасна, как ангел. Если теперь она питает ко мне лишь чувство дружбы, это не моя и не ее вина. Могу ли я требовать больше жертв, преданности и привязанности, чем она приносит, ведя такую борьбу с искушениями?
Могу ли я требовать, чтобы сердце ее иссохло и чтобы жизнь ее кончилась, раз пришел конец нашей любви?
Я был бы глупцом и чудовищем, если б в гневе что-то замыслил против нее, но я ужасно несчастен, так как моя любовь еще жива. Фернанда ничего не сделала, чтобы угасить ее: она только причиняет мне страдания, но ничем не оскорбила и не унизила меня. Я стар и не могу, как она, открыть свое сердце для новой любви. Настало время мучений, и нет надежды отсрочить или избегнуть его. Но против страданий у меня есть щит, который не могут пронзить никакие стрелы: это молчание. Молчи и ты, сестра. Я ищу облегчения в письме к тебе, но пусть ни одно слово не сорвется с твоих уст.
LXIII
От Фернанды – Жаку
Друг мой, поскольку ты вернешься только завтра, я хочу сегодня написать тебе и обратиться с просьбой, которую мне выразить очень нелегко; но вчера ты говорил со мной так ласково, был таким добрым, что это придает мне смелости. Ты сказал, что, если эти места наскучили мне, ты с удовольствием предоставишь мне любые развлечения, каких я пожелаю. Я не ответила сразу согласием, не зная, как объяснить, что со мной творится, и не зная также, как тебе это сказать. Ты думаешь, мне скучно? Я не могу скучать возле тебя, да еще в твоем живописном краю, да еще с милыми своими детьми и двумя такими друзьями, как наши. У меня есть решительно все, что нужно для счастливой жизни, дорогой мой Жак, лучший друг мой, милый мой муж. Но что мне сказать тебе? Мне грустно, у меня тяжело на душе, а отчего тяжело – не знаю. Все какие-то мрачные мысли, совсем не сплю, все меня волнует, раздражает, от всего устаю. Может быть, это какой-то душевный недуг. Вдруг воображу, что я сейчас умру, что воздух, который я вдыхаю, душит меня, что он отравлен. И вот является не то чтобы желание, а потребность в перемене места. Может быть, это прихоть, но прихоть больной женщины, и ты пожалеешь меня. Увези меня отсюда на некоторое время; мне думается, я тогда поправлюсь и вскоре смогу возвратиться сюда. Ты мне на днях говорил, что господин Борель убеждал тебя купить имение господина Рауля, и ты прочел мне письмо, где Эжени и присоединяется к мужу и умоляет тебя приехать посмотреть имение, а заодно привезти меня, чтобы я провела у нее лето. И вот мне почему-то кажется, что это путешествие развлечет меня. Мне захотелось поехать с тобой и увидеться с добрыми нашими друзьями. Уговори Сильвию сопровождать нас: я не в силах сейчас перенести такое огорчение, как разлука с ней. Письмо я посылаю со слугой, пусть он же привезет и ответ от тебя. Избавь меня от дальнейших объяснений: мне так неловко, я чувствую, что прихоть моя смешна, но ничего не могу с собой поделать. Будь снисходителен, прояви ту божественную кротость, к которой ты приучил меня. До свидания, мой любимый! Дети чувствуют себя хорошо.
LXIV
От Жака – Фернанде
Твои желания для меня приказ, моя бедняжка: поедем, куда тебе угодно; готовься, распоряжайся, чтобы нам выехать на следующей неделе, даже завтра, если хочешь; в жизни у меня нет более важных забот, чем твое здоровье и твое благополучие. Сию же минуту напишу Борелю, что охотно принимаю его любезное предложение. Как раз у меня сейчас есть свободные средства, и мне будет приятно вложить их в покупку земли в Турени, где надзор друга обеспечит ее доходность. Мне было бы грустно совершить эту поездку без тебя. Не знаю, сможет ли Сильвия сопровождать нас, с этим связано много затруднений и неудобств – больше, чем ты думаешь. Я поговорю с ней, и если только этот замысел не окажется совершенно неосуществимым, она не расстанется с тобой. Итак, мы поедем – на какой тебе угодно срок, моя милая детка; но помни, что если в Серизи тебе будет скучно или неприятно, то я готов, хотя бы на следующий же день после нашего прибытия, отправиться с тобой в другое место или привезти тебя обратно домой. Не бойся, что я сочту тебя причудницей: я знаю, что ты больна, и отдал бы свою жизнь, лишь бы тебе стало легче. Прощай. Шлю поцелуй Сильвии и тысячу поцелуев детям.
LXV
От Октава – Фернанде
Итак, вы уезжаете. Я вас оскорбил, и вы покидаете меня, не желая видеть мое отчаяние, не желая слышать мои бесполезные и назойливые сетования. Вы совершенно правы, а все же вы сильно упали в моих глазах. Как вы были великодушны, когда говорили, что не любите меня, но что вам меня: жаль и вы согласны терпеть мое присутствие, пока я буду нуждаться в ваших утешениях и поддержке вашей! Теперь вы ничего больше не говорите. Как в лихорадочном бреду, я твержу вам о своей любви, а вы из сострадания молчите – вероятно, боясь довести меня до отчаяния; у вас уже не хватает терпения слушать меня, и вот вы уезжаете. Как быстро вас, Фернанда, утомила возвышенная обязанность, которую вы по своему почину взяли на себя, но не имели сил выполнить! Я еще не исцелился от своей любви, вы только растравили рану, она открылась и стала жгучей, палящей язвой.
Ведете вы себя очень осторожно. Я не ожидал от вас такой изобретательности; вы все мгновенно уладили, преодолели все препятствия с величайшим искусством и хладнокровием опытного стратега. Великолепно для вашего возраста! Сильвия была резка и откровенна: уезжая, она оставляла мне записки и без обиняков сообщала в них, что уже не любит меня. Вы более политичны, умеете пользоваться удобным случаем, поймать его на лету. Вы все устроили так ловко, так правдоподобно, что можно было бы поклясться, будто вас насильно увозит муж, меж тем как его великодушное и доброе сердце полно удивления и он лишь подчиняется вам, не понимая, что за прихоть пришла вам в голову. Сильвии не очень-то хочется ехать к чужим людям, которые ее совсем не знают, и быть может, весьма бесцеремонно будут обращаться с ней. Вы при своих близких удостаиваете меня лицемерными знаками сожаления и привязанности, но так искусно избегаете случаев побыть со мною наедине, что, не будь я взбешен, я впал бы в отчаяние. Не беспокойтесь: у меня, как у любого возмущенного человека, пробуждается гордость, раз меня обдают холодом презрения. Вам бы следовало выразить негодование в тот день, когда я имел дерзость признаться вам в любви: тогда я тотчас же уехал бы, и вы уж давно избавились бы. от меня. Почему вы задали себе теперь столько хлопот? Зачем покидаете свой дом и перевозите в другое место все семейство, когда вам стоит сказать мне только слово, и я отправлюсь в Швейцарию? Неужели вы думаете, что я потащусь за вами по пятам и буду надоедать вам своими преследованиями? Вы выбрали себе в качестве убежища дом Борелей, полагая, что это единственное место в мире, куда я не посмею проникнуть. Ах, Боже мой! Зачем столько беспокойства! Оставайтесь, живите спокойно, я уеду через четверть часа. Распаковывайте свои чемоданы, скажите мужу, что вы передумали. Сегодня я вас видел последний раз в жизни. Прощайте, сударыня.
LXVI
От Фернанды – Октаву
Вы совсем неверно истолковываете причины моего отъезда и моего обращения с вами. Я требую, чтобы вы остались до завтра, если только вы не желаете, чтобы мой муж угадал тайну, которая может лишить его счастья, а меня – покоя. Сегодня в десять часов вечера мы уедем, пожав вам руку. Ступайте к большому вязу – под камнем вы найдете письмо, мое последнее, прощальное письмо.
От Фернанды – Октаву
(Письмо, положенное под камень)
Я уезжаю, потому что люблю вас: сказать вам это и по-прежнему противиться вашей страсти я бы не могла. Равным образом свыше моих сил уехать, не сказав вам это. Я слаба, я больше не властна над своим сердцем; я чту свои обязанности, искренне хочу выполнить их. Под своими обязанностями я понимаю не только законы общества: общество сурово наказывает тех, кто нарушает его законы, но Бог милостив, он дает прощение. Ради вас я смело перенесла бы и насмешки и осуждение, которыми встречают проступок женщины; но я не могу принести вам в жертву (да вы бы и сами от этого отказались) счастье Жака. Ах, почему он такой безупречный! Почему он ни в чем не провинится передо мной, чтобы я могла располагать по своему усмотрению и его честью и своим покоем! Но ведь он ведет себя со мною и с вами так благородно! Что же нам делать? Покориться, бежать друг от друга и скорее уж умереть от горя, чем обмануть его доверие.
Не знаю, когда я полюбила вас. Быть может, в первый же день, как вас увидела; быть может, Клеманс сделала печальный, но правильный вывод, написав мне, что я лишь пытаюсь обмануть свою совесть, а на деле уже погибла, когда вздумала способствовать вашему примирению с Сильвией. Теперь я не могу определить хорошенько, что происходило за последний год в бедной моей голове; я разбита усталостью от всей этой борьбы и волнений. Пора мне уехать – я уж и сама не знаю, что делаю; сейчас со мной творится то же самое, что испытывали вы месяц тому назад. Но тогда у меня еще были силы – впрочем, мне их придавала боязнь потерять вас. Чего я только не выдумала бы, в чем только не убеждала бы себя, в чем только не клялась бы перед Богом и людьми, лишь бы по-прежнему видеть вас! Мысль о разлуке была для меня ужасна, и я не могла с ней примириться; но одержанная победа, которой мы так гордились, оказалась выше сил человеческих: едва я увидела вас на вершине восторженной любви и мужества, на какую просила вас подняться, как душа моя разорвалась, словно слишком сильно натянутая веревка; я впала в необъяснимое уныние, а когда выходила из этой летаргии, то, любуясь вашей самоотверженностью и добродетелью, чувствовала, что мне нужно бежать от вас или погибнуть вместе с вами. Да хранит нас Бог! Теперь жертва принесена; если я умру, вспоминайте обо мне с жалостью. Простите, что я причинила вам столько мучений.
Если хотите оказать мне последнюю милость, останьтесь еще на несколько дней в Сен-Леоне; а поскольку Сильвия не решилась поехать со мной, обратитесь к священной дружбе, которую небо оставляет вам в утешение. Сильвия тоже грустит; не знаю, что с ней; быть может, она угадывает, что я несчастна. Она преданно заботится о моих детях и заменит им мать. Взгляните на этих бедных крошек, которых я тоже покидаю, бросая разом все, что мне дорого на земле; взгляните на них, вспомните нашу с вами обязанность, и вы будете меньше страдать в эти первые дни. Избегайте угрюмого одиночества, раскройте душу для мыслей о нашей честной дружбе, и тогда картины этих мест будут напоминать вам о простых, бесхитростных сценах, исполненных дружеской близости, о вечерах, проведенных в семейном кругу, о том, как вы были счастливы, и тогда вы порадуетесь, что ничем не запятнали этих чистых воспоминаний.