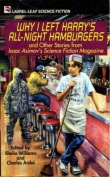Текст книги "Правда о деле Гарри Квеберта"
Автор книги: Жоэль Диккер
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
23. Те, кто близко ее знал
– А персонажи? С кого вы пишете своих персонажей?
– С кого угодно. С друга, с домработницы, с клерка в окошке банка. Но вот что важно: не сами эти люди служат для вас источником вдохновения, а их поступки. Их действия наводят вас на мысли о том, как мог бы себя вести кто-нибудь из персонажей вашего романа. Когда писатели говорят, что никогда не описывают реальных людей, они лгут, но они правы: это позволяет им избежать больших неприятностей.
– Как так?
– Писатели, Маркус, имеют то преимущество, что могут сводить счеты с себе подобными посредством книжки. Единственное правило – не называть их по имени. Никаких имен собственных: это прямой путь к судебным искам и прочим мукам. Какой там у нас следующий номер в списке?
– Двадцать третий.
– Значит, вот вам двадцать третье правило: пишите только вымышленные истории. Все прочее принесет одни неприятности.
В воскресенье 22 июня 2008 года я впервые увидел преподобного отца Келлергана. Стоял один из тех сереньких летних дней, какие бывают только в Новой Англии: от океана поднимался такой плотный туман, что его клочья висели на вершинах деревьев и на крышах. Дом семейства Келлерган находился на Террас-авеню, 245, в самом центре красивого жилого квартала. Судя по всему, со времени их приезда в Аврору он совсем не изменился. Та же краска на стенах, те же кусты кругом. Недавно посаженные розы разрослись и превратились в цветники, а вишню перед домом, засохшую десять лет назад, заменили точно таким же деревом.
Со стороны дома доносилась оглушительная музыка. Я несколько раз позвонил в дверь, но никто не ответил. В конце концов какой-то прохожий крикнул мне: «Если вы к отцу Келлергану, звонить бесполезно. Он в гараже». Я постучал в дверь гаража: в самом деле, музыка звучала оттуда. Я стучал долго; наконец дверь открылась, и передо мной оказался маленький, худенький старичок, седой и весь белесый, в рабочей блузе и защитных очках. Дэвид Келлерган, восемьдесят пять лет.
– Вы по какому делу? – любезно прокричал он, громкость музыки была почти нестерпимой.
Мне пришлось сложить руки рупором, чтобы он меня услышал:
– Меня зовут Маркус Гольдман. Вы меня не знаете, но я расследую гибель Нолы.
– Вы из полиции?
– Нет, я писатель. Вы не могли бы выключить музыку или немного уменьшить звук?
– Это невозможно. Я никогда не приглушаю музыку. Но, если хотите, мы можем пройти в гостиную.
Он впустил меня в гараж; все помещение было переоборудовано под мастерскую, в центре которой гордо высилась коллекционная модель «харлея-дэвидсона». Из старенького проигрывателя в углу, подключенного к стереоколонкам, гремел классический джаз.
Я готовился к дурному приему. Я думал, что после осады журналистов отцу Келлергану хочется хоть немного покоя; но он, напротив, держался очень приветливо. Хотя я часто бывал в Авроре, но никогда прежде его не видел. Он явно не знал о моих связях с Гарри, и я предусмотрительно о них не упоминал. Он приготовил нам два стакана чаю со льдом, и мы расположились в гостиной. Он не стал отвинчивать защитные очки, словно готовясь в любой момент вернуться к своему мотоциклу; из гаража по-прежнему неслась оглушительная музыка. Я попытался себе представить, как выглядел этот человек тридцать три года тому назад, когда он был энергичным пастором прихода Сент-Джеймс.
– Что привело вас сюда, мистер Гольдман? – спросил он, с любопытством разглядывая меня. – Книга?
– Сам не знаю, преподобный отец. Главное, я хочу узнать, что случилось с Нолой.
– Не называйте меня преподобным, я больше не пастор.
– Соболезную, мистер Келлерган, у вас такое горе.
Он улыбнулся – на удивление тепло:
– Спасибо. Вы первый человек, который принес мне соболезнования, мистер Гольдман. Последние две недели весь город говорит о моей дочери; все набрасываются на газеты, чтобы узнать последние подробности, но никто не пришел и не спросил, каково мне. Ко мне в дверь звонят либо журналисты, либо соседи, которые жалуются на шум. Имеет право скорбящий отец слушать музыку или нет?
– Безусловно.
– Так значит, вы пишете книгу?
– Я уже не уверен, что способен писать. Хорошо писать, это так трудно. Издатель предложил мне написать книгу об этом деле. Он говорит, это даст новый толчок моей карьере. Вы не будете против книги о Ноле?
Он пожал плечами:
– Нет. Если это поможет родителям быть осмотрительнее. Знаете, в тот день, когда моя дочь исчезла, она была в своей комнате. А я работал в гараже, под музыку. Я ничего не слышал. Когда я решил зайти к ней, ее в доме уже не было. Окно в ее комнате было открыто. Она будто испарилась. Я не сумел присмотреть за дочерью. Напишите книгу для родителей, мистер Гольдман. Родители должны очень следить за своими детьми.
– Что вы делали в тот день в гараже?
– Чинил мотоцикл. Тот самый «харлей», который вы видели.
– Отличная машина.
– Спасибо. Я как раз тогда притащил его от одного кузовщика из Монберри. Он говорил, что больше из него выжать нечего, и отдал его мне за символические пять долларов. Вот чем я занимался, когда пропала моя дочь: возился с этим проклятым мотоциклом.
– Вы живете один?
– Да. Жена давно умерла…
Он встал и принес альбом с фотографиями. Показал мне Нолу в детстве и свою жену Луизу. Вид у них был счастливый. Меня удивило, с какой легкостью он доверился мне, в сущности, незнакомому человеку. Думаю, ему просто хотелось погрузиться в воспоминания о дочери. Он рассказал, что они приехали в Аврору осенью 1969 года, из Джексона, штат Алабама. Несмотря на то что тамошнее братство переживало расцвет, зов моря оказался сильнее: община Авроры искала нового священника, и он согласился. Главной причиной переезда в Нью-Гэмпшир стало желание найти спокойное место, чтобы растить Нолу. В те годы страна пылала изнутри – политические распри, сегрегация, война во Вьетнаме. После событий 1967 года – расовых бунтов в Сан-Квентине, массовых беспорядков в черных кварталах Ньюарка и Детройта – они стали подыскивать убежище, надежно защищенное от всех этих волнений. И когда их маленькая машинка, пыхтя под тяжестью фургончика, дотащилась до больших, усеянных кувшинками прудов Монберри и стала спускаться к Авроре и вдали показался чудесный, спокойный городок, Дэвид Келлерган поздравил себя с удачным выбором. Мог ли он вообразить, что именно здесь шесть лет спустя исчезнет его дочь?
– Я проезжал мимо вашего бывшего прихода, – сказал я. – Он превратился в «Макдоналдс».
– Весь мир постепенно превращается в «Макдоналдс», мистер Гольдман.
– Но что случилось с приходом?
– Несколько лет дела шли отлично. А потом пропала моя Нола, и все изменилось. Вернее, изменилось одно: я перестал верить в Бога. Если бы Бог существовал на самом деле, дети бы не пропадали. Я стал вести себя черт знает как, но никто не осмеливался выставить меня за дверь. Понемногу община распалась. Пятнадцать лет назад приход в Авроре по финансовым причинам объединился с приходом в Монберри. Здание церкви они продали. Теперь верующие по воскресеньям отправляются в Монберри. После исчезновения Нолы я так и не смог вернуться к своим обязанностям, хотя официально уволился только шесть лет спустя. Приход по-прежнему платит мне содержание. И дом мне уступили за какие-то крохи.
Затем Дэвид Келлерган рассказал, как счастливо и беззаботно они жили в Авроре. По его словам, это были лучшие годы в его жизни. Он вспоминал, как летними вечерами разрешал Ноле попозже лечь спать и она сидела под маркизой и читала; ему хотелось, чтобы лето не кончалось никогда. Еще он рассказал, что дочь откладывала деньги, которые по субботам зарабатывала в «Кларксе»: говорила, что уедет на них в Калифорнию и станет актрисой. А он был так горд, когда приходил в «Кларкс» и слышал, как ее хвалят клиенты, как ею довольна мамаша Куинн. Еще долго после ее исчезновения он спрашивал себя, не уехала ли она в Калифорнию.
– Почему «уехала»? – спросил я. – Вы хотите сказать, сбежала?
– Сбежала? С чего бы ей сбегать? – возмутился он.
– А Гарри Квеберт? Вы хорошо его знаете?
– Нет. Едва знакомы. Пару раз его встречал.
– Едва знакомы? – изумился я. – Но вы тридцать лет живете в одном городе.
– Я не со всеми знаком, мистер Гольдман. Да и живу я затворником, знаете ли. Неужели это все правда? Про Гарри Квеберта и Нолу? И что он написал эту книгу для нее? Что значит эта книга, мистер Гольдман?
– Буду с вами откровенен: думаю, ваша дочь любила Гарри, и притом взаимно. В книге рассказывается о невозможной любви между двоими, принадлежащими к разным классам общества.
– Я знаю, – воскликнул он. – Я знаю! Так что же, выходит, Квеберт, чтобы придать себе весу, заменил «извращение» на «классы общества» и продал миллионы экземпляров своей книжки? Книжки, в которой рассказаны непристойные истории о моей дочери, о моей малышке Ноле, и которую вся Америка читала и превозносила тридцать лет!
Преподобный Келлерган вспылил; последние слова он произнес с такой яростью, какую я никак не ожидал встретить в этом хрупком с виду человеке. С минуту он молча ходил взад-вперед по комнате, словно пытаясь выпустить гнев. На заднем плане по-прежнему истошно орала музыка. Я сказал:
– Гарри Квеберт не убивал Нолу.
– Как вы можете быть уверены?
– Никогда ни в чем нельзя быть уверенным, мистер Келлерган. Поэтому-то жизнь иногда такая сложная.
Он поморщился:
– Что вы хотите узнать, мистер Гольдман? Если вы здесь, значит, у вас есть ко мне вопросы?
– Я пытаюсь понять, что могло произойти. В тот вечер, когда пропала ваша дочь, вы ничего не слышали?
– Ничего.
– Кто-то из соседей тогда утверждал, что слышал крики.
– Крики? Не было никаких криков. В этом доме никогда никто не кричал. Да и с чего бы кому-то кричать? В тот день после обеда я работал в гараже. Когда пробило семь, я начал готовить ужин. Я пошел позвать ее, чтобы она мне помогла, но в комнате ее не было. Сначала я подумал, что она, наверно, пошла пройтись, хотя это было не в ее привычках. Я немного подождал, но потом начал волноваться и решил обойти квартал. Не успел я пройти и сотни метров, как наткнулся на целую толпу: сбежались все соседи, говорили, что в Сайд-Крик видели окровавленную молодую женщину, что со всего округа прибывают полицейские машины и оцепляют окрестности. Я кинулся в первый же дом, позвонить в полицию, сказать, что это может быть Нола… Ее комната была на первом этаже, мистер Гольдман. Тридцать с лишним лет я спрашивал себя, что случилось с моей дочерью. И еще говорил себе, что если бы у меня были другие дети, я бы их отправил спать на чердак. Но других детей у меня нет.
– Тем летом, когда она исчезла, вы не замечали ничего странного в ее поведении?
– Нет. Теперь уже не знаю. Не думаю. Я сам себе часто задаю этот вопрос и не могу на него ответить.
Тем не менее он вспомнил, что в то лето, в самом начале каникул, Нола иногда казалась очень грустной, но он списал это на переходный возраст. Потом я попросил разрешения посмотреть комнату его дочери; он проводил меня, словно хранитель музея, и строго велел ничего не трогать. После исчезновения Нолы он оставил ее комнату такой, какая она была. Все было на месте: кровать, этажерка с куклами, маленький книжный шкаф, парта с разбросанными ручками, длинной железной линейкой и пожелтевшими листками бумаги. Бумага была почтовая, та самая, на которой она написала записку Гарри. Отец заметил, что меня она заинтересовала:
– Она покупала эту бумагу в канцелярском магазине в Монберри. Она ее обожала, всегда носила с собой, писала на ней заметки, записки. Эта бумага была она сама. У нее всегда было несколько блоков в запасе.
Еще в углу комнаты стоял портативный «ремингтон».
– Это была ее машинка? – спросил я.
– Моя. Но она тоже ею пользовалась. В то лето, когда она исчезла, она брала ее очень часто. Говорила, что ей надо напечатать важные документы. Довольно часто она даже уносила ее из дому. Я предлагал ее подвезти, но она всегда отказывалась. Уходила пешком, волоча ее за ручку.
– Значит, в комнате с тех пор ничего не изменилось?
– Все было ровно так же. Эту самую пустую комнату я увидел, когда пошел ее звать. Окно было распахнуто настежь, и занавески покачивались от легкого ветерка.
– Думаете, в тот вечер кто-то проник в комнату и увел ее силой?
– Не могу вам сказать. Я ничего не слышал. Но, как видите, никаких следов борьбы нет.
– Полиция обнаружила при ней сумку. На сумке, внутри, было выбито ее имя.
– Да, меня даже просили ее опознать. Это был мой подарок на день рождения, на ее пятнадцать лет. Она увидела эту сумку в Монберри, когда мы с ней ездили туда вместе. До сих пор помню тот магазинчик на главной улице. Назавтра я туда съездил и купил ее. И отдал шорнику, выбить внутри ее имя.
Я попытался предложить гипотезу:
– Но если это ее сумка, значит, она взяла ее с собой. Если она взяла ее с собой, значит, она куда-то отправлялась, верно? Мистер Келлерган, я знаю, это трудно себе представить, но вы не думаете, что Нола могла убежать из дому?
– Не знаю, мистер Гольдман. В полиции мне уже задавали этот вопрос, и тогда, тридцать лет назад, и сейчас, тому несколько дней. Но отсюда ничего не пропало. Ни одежда, ни деньги, ничего. Взгляните, вот ее копилка, на этажерке, она полная. – Он взял с верхней полки банку из-под печенья. – Смотрите, там сто двадцать долларов! Сто двадцать долларов! Почему она их оставила, если хотела сбежать? Полиция говорит, у нее в сумке была эта проклятая книжка. Это правда?
– Правда.
Те же вопросы по-прежнему пульсировали в моем мозгу: почему Нола скрылась, не взяв ни одежды, ни денег? Почему она взяла только рукопись?
Пластинка в гараже отыграла последний трек, и отец бросился туда, поставить ее сначала. Мне не хотелось больше ему мешать; я распрощался и ушел, сфотографировав по дороге «харлей-дэвидсон».
Вернувшись в Гусиную бухту, я пошел на пляж, позаниматься боксом. К величайшему моему удивлению, вскоре меня там нашел сержант Гэхаловуд. Он подошел со стороны дома, но поскольку уши у меня были заткнуты наушниками, заметил я его, только когда он похлопал меня по плечу.
– Вы в хорошей форме, – заметил он, разглядывая мой торс и вытирая о штаны мокрую от моего пота руку.
– Стараюсь, – ответил я и, вынув из кармана плеер, выключил его.
– Мини-дисковый? – продолжал он своим неприятным тоном. – А известно ли вам, что Appleпроизвел революцию в мире и музыку в почти неограниченном количестве теперь можно хранить на портативном жестком диске под названием iPod?
– Я не слушаю музыку, сержант.
– Что же вы тогда слушаете, когда занимаетесь спортом?
– Не важно. Скажите лучше, чему я обязан честью вашего посещения. Да к тому же в воскресенье.
– Мне позвонил бывший шеф полиции Авроры Пратт, рассказал о пожаре в пятницу вечером. Он встревожен, и, должен признаться, не напрасно: я тоже не люблю, когда дела принимают подобный оборот.
– Вы что, хотите сказать, что вы беспокоитесь за мою безопасность?
– Ни в коем разе. Я просто не хочу, чтобы все пошло вразнос. Всем известно, что преступления против детей вызывают сильнейшее брожение среди населения. Могу вас уверить: всякий раз, как про убитую девочку говорят по телевизору, целые толпы вполне цивилизованных отцов семейства готовы оторвать Квеберту яйца.
– Да, но тут-то целились в меня.
– Вот потому я и здесь. Почему вы не сказали, что получили анонимное письмо?
– Потому что вы меня вышвырнули из кабинета.
– Что верно, то верно.
– Угостить вас пивом, сержант?
Чуть поколебавшись, он согласился. Мы поднялись в дом, я принес две бутылки, и мы выпили их на террасе. Я рассказал, как накануне вечером, возвращаясь с Гранд-Бич, наткнулся на поджигателя.
– Описать я его не могу. Он был в маске. Я видел только силуэт. И опять то же самое послание: «Гольдман, возвращайся домой». Уже третье.
– Да, Пратт мне говорил. Кому известно, что вы ведете собственное расследование?
– Всем. То есть я хочу сказать, я целыми днями задаю вопросы всем, кто мне попадается. Кому угодно. Кто-то не хочет, чтобы я копался в этой истории, как вы считаете?
– Кто-то не хочет, чтобы вы докопались до правды о Ноле. Кстати, как двигается ваше расследование?
– Мое расследование? Теперь оно вас интересует?
– Возможно. Скажем так: с тех пор как вам угрожают, чтобы заставить вас молчать, ваши акции резко подскочили.
– Я говорил с отцом Келлерганом. Славный старик. Он показал мне комнату Нолы. Вы ее тоже видели, я так подозреваю…
– Да.
– Но если это побег, как вы объясните, что она ничего с собой не взяла? Ни одежды, ни денег, вообще ничего.
– Просто это был не побег, – отозвался Гэхаловуд.
– А если это похищение, тогда почему нет никаких следов борьбы? И почему она взяла эту сумку с рукописью?
– Она могла знать убийцу, вот и все. Быть может, она даже состояла с ним в связи. Тогда ему достаточно было просто подойти к окну, – возможно, он иногда так делал, – и убедить ее пойти с ним. Может, просто немного пройтись.
– Вы имеете в виду Гарри.
– Да.
– И что дальше? Она берет рукопись и вылезает в окно?
– Кто вам сказал, что она взяла с собой эту рукопись? Кто вам сказал, что она вообще хоть раз держала эту рукопись в руках? Это слова Квеберта, это он так объясняет, откуда его рукопись взялась рядом с трупом Нолы.
На миг у меня мелькнула мысль рассказать то, что я знал про Гарри и Нолу, – что они должны были встретиться в мотеле «Морской берег» и бежать. Но я предпочел промолчать, чтобы не навредить Гарри. И только спросил:
– Какова же ваша гипотеза?
– Квеберт убил девчушку и закопал рукопись вместе с ней. Может быть, совесть замучила. Книга была об их любви, и их любовь ее убила.
– С чего вы взяли?
– На рукописи есть надпись.
– Надпись? Какая надпись?
– Этого я сказать не могу. Тайна следствия.
– Слушайте, кончайте вы эти глупости, сержант! Вы сказали либо слишком много, либо слишком мало: нечего прятаться за тайну следствия каждый раз, как вам это удобно.
Он покорно вздохнул.
– Там написано: «Прощай, милая Нола».
Я потерял дар речи. «Милая Нола». Эти самые слова Нола просила Гарри сказать ей в Рокленде. Я попытался взять себя в руки и спросил:
– Что вы собираетесь делать с этой надписью?
– Отдадим на графологическую экспертизу. В надежде, что это что-нибудь даст.
Я был совершенно потрясен его признанием. «Милая Нола». Именно эти слова произнес сам Гарри, именно эти слова я записал на плеер.
Вечер я провел в размышлениях, не зная, что делать. Ровно в девять позвонила мама. Судя по всему, о пожаре рассказали по телевизору.
– Боже мой, Марки, ты что, умереть собрался из-за этого преступного дьявола?
– Успокойся, мама. Спокойнее.
– У нас только о тебе и говорят, и не то чтобы очень тепло, ты понимаешь, о чем я. Все соседи в недоумении… Спрашивают, почему ты упрямишься и сидишь с этим Гарри.
– Не будь Гарри, я бы никогда не стал Великим Гольдманом, мама.
– Ты прав, без этого типа ты бы стал Величайшим Гольдманом. Ты так изменился с тех пор, как стал ездить к этому типу, в университете. Ты же Великолепный, Марки. Помнишь? Даже несчастная миссис Ланг, кассирша в супермаркете, и та до сих пор меня спрашивает: «Как поживает Великолепный?»
– Мама… Не было никогда никакого Великолепного.
– Никакого Великолепного? Не было Великолепного? – Она позвала отца. – Нельсон, подойди-ка сюда! Марки говорит, что никогда не был Великолепным! – Я услышал, как отец пробормотал что-то невнятное. – Вот видишь, и папа тоже говорит: в школе ты был Великолепным. Я вчера встретила твоего бывшего директора… Он сказал, что у него о тебе такие воспоминания… Я думала, он сейчас расплачется, так он расчувствовался. А потом он сказал: «Ах, миссис Гольдман, прямо не знаю, куда это сейчас занесло вашего сына». Видишь, как все грустно: даже твой бывший директор в недоумении. А о нас ты подумал? Почему ты мчишься к какому-то старому профессору, вместо того чтобы искать себе жену? Тебе тридцать лет, а у тебя еще нет жены! Ты хочешь, чтобы мы умерли, так и не увидев, как ты женишься?
– Мама, тебе пятьдесят два года. Какое-то время еще есть.
– Прекрати придираться! Кто тебя научил придираться, а? Это все твой проклятый Квеберт. Почему ты не хочешь привести нам красавицу-жену? А? А? Теперь ты молчишь?
– Мама, в последнее время я не встречал никого, кто бы мне понравился. Я занят: книга, турне, будущая книга…
– Одни отговорки! А новая твоя книга? Она будет о чем? О всяких извращениях? Я тебя не узнаю, Марки… Марки, дорогой, послушай, мне надо тебя спросить: ты влюблен в этого Гарри? Ты с ним занимаешься гомосексуализмом?
– Нет! Вовсе нет!
Я услышал, как она сказала отцу: «Он говорит нет. Значит да». Потом она спросила шепотом:
– У тебя болезнь? Мамочка будет любить тебя, даже если ты болен.
– Что? Какая еще болезнь?
– Какая бывает у мужчин, когда у них аллергия на женщин.
– Ты хочешь сказать, не гомосексуалист ли я? Нет! И даже если б это было так, не вижу в этом ничего плохого. Но я люблю женщин, мама.
– Женщин? Как это так – женщин? Довольно с тебя одной, люби ее и женись! Женщин! Ты что хочешь сказать, что ты не способен хранить верность? Ты сексуальный маньяк, Марки? Может, тебе надо сходить к врачу-психиатру, чтобы он тебя полечил?
В конце концов я с досады бросил трубку. Мне было очень одиноко. Я уселся за письменный стол Гарри, включил плеер и стал снова слушать его голос. Мне необходимо было какое-то новое звено, осязаемое доказательство, меняющее ход расследования, что-то, что могло бы пролить свет на одуряющий пазл, который я пытался сложить и который до сих пор ограничивался тремя элементами: Гарри, рукописью и погибшей девочкой. Я размышлял – и вдруг во мне проснулось странное, давно забытое ощущение: мне хотелось писать. Писать о том, чем я живу и что чувствую. Вскоре моя голова уже лопалась от идей – это было уже не желание, а потребность писать. Такого не случалось со мной уже полтора года. Словно внезапно проснувшийся вулкан готовился к извержению. Я кинулся к ноутбуку и, на минуту задумавшись над тем, как начать эту историю, стал печатать первые строки своей будущей книги:
Весной 2008 года, примерно через год после того, как я стал новой звездой американской литературы, произошло событие, которое я решил похоронить в глубинах памяти: оказалось, что мой университетский профессор, шестидесятисемилетний Гарри Квеберт, один из самых известных писателей в стране, в возрасте тридцати четырех лет состоял в любовной связи с пятнадцатилетней девочкой. Это было летом 1975 года.
* * *
Во вторник 24 июня 2008 года Большое жюри присяжных подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых прокуратурой; отныне Гарри официально вменялось в вину похищение и двойное умышленное убийство. Когда Рот позвонил мне и сообщил о решении жюри, я взорвался:
– Вы, кажется, изучали право, можете вы мне объяснить, на основании чего они несут эту ахинею?
Ответ был прост: на основании материалов следствия. После предъявления обвинения мы как представители защиты могли получить к ним доступ. Все утро мы с Ротом провели за изучением документов; атмосфера была натянутая, прежде всего потому, что он, перелистывая страницы, все время повторял:
– О-ля-ля, это нехорошо. Даже совсем нехорошо.
– Раз нехорошо, значит, это вы должны быть хороши, нет? – возражал я.
Он озадаченно поднимал брови, и я все меньше верил в его адвокатские способности.
В деле присутствовали фотографии, показания очевидцев, отчеты, акты экспертиз, протоколы допросов. Некоторые снимки относились к 1975 году: фото дома Деборы Купер, ее тела, лежащего на кухонном полу в луже крови, и наконец того места в лесу, где были обнаружены следы крови, клочья волос и обрывки платья. Затем мы перенеслись во времени на тридцать три года вперед и оказались в Гусиной бухте: на дне ямы, выкопанной полицией, виднелся скелет в позе зародыша. Местами на костях еще висели куски плоти, на черепе сохранились редкие обрывки волос; на скелете было наполовину истлевшее платье, а рядом лежала пресловутая кожаная сумка. Меня чуть не вырвало.
– Это Нола?
– Она самая, – ответил Рот. – А в сумке была рукопись Квеберта. Одна рукопись, и все. Прокурор говорит, что если девочка убегает из дому, она не уходит без ничего.
Акт вскрытия зафиксировал глубокий перелом на уровне черепа. Нола получила удар невероятной силы: затылочная кость была раздроблена. Судебный медик полагал, что убийца использовал очень тяжелую палку или аналогичный предмет, например биту или дубинку.
Потом мы ознакомились с показаниями садовников, Гарри, и особенно с теми, на которых стояла подпись Тамары Куинн: согласно ее заявлению, записанному сержантом Гэхаловудом, она еще тогда знала, что Гарри увлечен Нолой, и у нее было доказательство, но впоследствии оно куда-то делось, и потому ей никто не верил.
– Ее свидетельство заслуживает доверия? – спросил я.
– В глазах жюри – да, – подтвердил Рот. – И противопоставить нам нечего: Гарри сам признал на допросе, что состоял в связи с Нолой.
– Ну ладно, есть в этом деле хоть что-то, что его не обличает?
На сей счет у Рота была одна идея: он порылся в документах и протянул мне толстую пачку бумаги, перетянутую скотчем.
– Это копия пресловутой рукописи, – пояснил он.
Первая страница была без заглавия; название явно появилось у Гарри позже. Но посреди страницы были разборчиво написаны от руки, синими чернилами, три слова:
Прощай, милая Нола.
Рот пустился в долгие объяснения. Он считал, что, используя рукопись как главную улику против Гарри, прокуратура совершает грубую ошибку: назначена графологическая экспертиза, и как только станут известны ее результаты – он был уверен, что они покажут невиновность Гарри, – все дело рассыплется как карточный домик.
– Это центральный пункт моей защиты, – заявил он победным тоном. – Если чуть-чуть повезет, даже не понадобится доводить дело до суда.
– Но что будет, если установят, что это почерк Гарри?
Рот в изумлении уставился на меня:
– Это с какой же радости?
– Я вам должен сообщить важную вещь: Гарри мне рассказал, что однажды ездил с Нолой на денек в Рокленд, и она попросила называть ее «милая Нола».
Рот смертельно побледнел: «Вы же понимаете, что если так или иначе эти слова написал он…» – и, даже не закончив фразу, собрал свои вещи и потащил меня в тюрьму. Он был вне себя.
Едва оказавшись в комнате для свиданий, Рот заорал, размахивая рукописью перед носом Гарри:
– Она велела называть ее «милая Нола»?
– Да, – Гарри опустил голову.
– А вы видите, что тут написано? На первой странице вашей гребаной рукописи! Вы когда собирались мне об этом сказать, вашу мамашу?
– Уверяю вас, это не мой почерк. Я ее не убивал! Я не убивал Нолу! Это вы знаете или нет, бог ты мой? Вы же знаете, что не я убийца Нолы!
Рот немного успокоился и сел.
– Мы знаем, Гарри. Но все эти совпадения настораживают. Побег, эта надпись… А я должен защищать вашу задницу перед жюри из добропорядочных граждан, которые жаждут приговорить вас к смерти еще до начала процесса.
Гарри выглядел очень скверно. Он встал и начал ходить взад-вперед по тесному помещению с бетонными стенами.
– Вся страна ополчилась на меня. Скоро весь мир будет требовать мою шкуру. Если еще не требует… Люди говорят обо мне слова, смысла которых сами не понимают: педофил, извращенец, полоумный. Они поливают грязью мое имя и жгут мои книги. Но вы должны знать, повторяю в последний раз: я не маньяк. Нола – единственная женщина, которую я любил в своей жизни, и, на мою беду, ей было всего пятнадцать лет. Любовь рассудку не подчиняется, черт возьми!
– Но речь о пятнадцатилетней девочке! – взвился Рот.
Гарри с досадой повернулся ко мне:
– Вы тоже так думаете, Маркус?
– Гарри, меня смущает, что вы никогда мне об этом не говорили… Мы друзья уже десять лет, и за это время вы ни разу не упомянули Нолу. Я думал, мы с вами близкие люди.
– Но, боже милосердный, что я должен был вам сказать? «Ах, дорогой Маркус, право, я никогда вам не говорил, но в семьдесят пятом году, приехав в Аврору, я влюбился в девушку пятнадцати лет от роду, в девочку, которая перевернула мою жизнь, а спустя три месяца, в один летний вечер, исчезла, и я так после этого и не оправился…»?
Он пнул пластиковый стул и запустил им в стену.
– Гарри, – сказал Рот. – Если эти слова написали не вы – а я вам верю, – то кто бы это мог быть? У вас нет предположений?
– Нет.
– Кто знал про вас с Нолой? Тамара Куинн утверждает, что всегда это подозревала.
– Не знаю я! Может, Нола рассказала о нас кому-нибудь из подруг…
– Но вы не исключаете возможности, что кто-то был в курсе? – настаивал Рот.
Повисла пауза. У Гарри был такой грустный и подавленный вид, что у меня разрывалось сердце.
– Ну, – Рот изо всех сил старался заставить его говорить, – я же чувствую, что вы о чем-то умалчиваете. Как мне вас защищать, если вы скрываете какие-то сведения?
– Были… Были анонимные письма.
– Какие анонимные письма?
– Сразу после исчезновения Нолы я стал получать анонимные письма. Каждый раз, возвращаясь из какой-нибудь отлучки, я находил их в дверном проеме. Тогда я страшно перепугался. Это означало, что кто-то шпионит за мной, подстерегает, когда меня нет дома. В какой-то момент мне стало так страшно, что, получив очередное письмо, я звонил в полицию. Говорил, что кто-то бродит вокруг моего дома, приезжал патруль, и это меня успокаивало. Естественно, я не мог назвать истинную причину моей тревоги.
– Но кто мог слать вам эти письма? – спросил Рот. – Кто знал про вас с Нолой?
– Не имею ни малейшего понятия. Во всяком случае, это продолжалось полгода. А потом прекратилось.
– Вы их сохранили?
– Да. Они дома. Между страницами большой энциклопедии, в моем кабинете. Думаю, полиция их не нашла, потому что никто меня про них не спрашивал.
Вернувшись в Гусиную бухту, я немедленно снял с полки энциклопедию, о которой он говорил, и нашел спрятанный между страницами крафтовый конверт с десятком листков. Письма на пожелтевшей бумаге. На каждом листке были напечатаны на машинке одни и те же слова.
Я знаю, что ты сделал с этой девочкой 15 лет.
И скоро весь город узнает.
Кто-то знал о Гарри и Ноле. И этот кто-то тридцать три года молчал.
* * *
В следующие два дня я постарался расспросить всех, кто так или иначе мог знать Нолу. Эрни Пинкас снова оказал неоценимую помощь в моих разысканиях: откопав в архивах библиотеки альбом выпускников средней школы Авроры за 1975 год, он с помощью интернета составил список нынешних адресов большинства одноклассников Нолы, до сих пор проживающих в этом районе. К несчастью, плоды моих усилий оказались ничтожны: всем этим людям было сейчас под пятьдесят, но я не мог добиться от них ничего, кроме детских воспоминаний, не представлявших особого интереса для расследования. Вплоть до той минуты, когда я вдруг понял, что одно из имен в списке мне знакомо: Нэнси Хаттауэй. Та, кто, по словам Гарри, обеспечивала Ноле алиби во время их поездки в Рокленд.