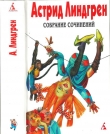Текст книги "Эмиль, или о воспитании"
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
В один прекрасный день он спешит туда, с лейкою в руке, и… о, зрелище! о, горе! бобы все вырваны, почва вся взрыта,– не узнаешь даже места. Увы! Куда девался мой труд, моя работа, сладкий плод моих забот и стараний? Кто похитил у меня мое добро? кто отнял мои бобы? Молодое сердце возмущено: в первый раз чувство несправедливости только что излило в него свою черную горечь; слезы текут ручьями; безутешное дитя наполняет воздух воплями и криками. В его горе и негодовании принимают участие, ищут, осведомляются, производят расследование. Наконец, оказывается, что натворил беду огородник: его призывают.
Вот почему большинство детей желают получить обратно то, что они подарили, и плачут, если им не хотят возвращать. Этого не бывает уже с ними, когда они хорошо поняли, что такое дар; но дарят они после этого уже с большой осмотрительностью.
Но мы совершенно ошиблись в расчете. Огородник, узнав причину жалобы, начинает жаловаться еще громче нас: «Как, господа! это вы испортили так мою работу! Я посеял тут мальтийские дыни, семена которых получены мною, как драгоценность, и которыми я надеялся угостить вас, когда они созреют; и вот вы, чтобы посадить свои жалкие бобы, истребили у меня дыни, а они уж совсем было взошли, и их совершенно нечем мне заменить. Вы мне нанесли непоправимый ущерб, и сами лишены удовольствия поесть редких дынь».
Ж а н – Ж а к. Извините нас, любезный Робер! Вы положили сюда свой труд, свои усилия. Я хорошо вижу, что мы виноваты в том, что испортили вашу работу, но мы вам достанем еще мальтийских семян и не станем уже копать землю, не разузнав сначала, не трудился ли на ней кто-нибудь раньше нас.
Робер. Нет, господа! Вам придется отложить свои заботы: свободной земли больше почти нет. Я обрабатываю ту, которую удобрил отец мой; каждый со своей стороны делает то же: все земли, которые вы видите, давным-давно заняты.
Э м и л ь. Господин Робер! Значит семена дынь часто пропадают?
Робер. Нет, извините, милый мальчик! К нам не часто являются такие шаловливые мальчуганы, как вы. Никто не трогает огорода своего соседа; каждый уважает труд другого, чтобы и его собственный был обеспечен.
Эмиль. Но у меня нет огорода.
Робер. Ну так что же из этого? Если вы будете портить мой огород, я не стану больше пускать вас в него гулять: я, знаете ли, не хочу даром терять своего труда.
Жан-Жак. Нельзя ли предложить сделку доброму Роберу? Пусть он нам уступит, моему маленькому другу и мне, уголок своего огорода для обработки с условием получить половину продуктов.
Р о б е р. Я уступаю вам без условий. Но помните, что я вскопаю ваши бобы, если вы тронете мои дыни.
Из этого опыта передачи детям первоначальных понятий мы видим, как идея собственности естественно восходит к праву первого завладения путем труда. Это ясно, наглядно и просто и всегда доступно детскому пониманию. Отсюда до права собственности и до обмена один всего шаг, после которого следует тотчас остановиться.
Ясно, кроме того, что объяснение, которое занимает у меня тут две страницы, на практике, может быть, будет делом целого года, ибо в сфере нравственных идей нужно подвигаться вперед как можно медленнее и как можно тверже упрочивать каждый шаг. Молодые наставники, подумайте, прошу вас, над этим примером и помните, что во всякой сфере уроки ваши должны заключаться скорее в действиях, чем в речах, ибо дети легко забывают, что сказали и что им сказано, но не забывают того, что сделали и что им сделано.
Подобные наставления нужно давать, как я сказал, то раньше, то позже: кроткий характер воспитанника ускоряет эту нужду, буйный – замедляет; способ вести эти наставления совершенно очевиден, но чтобы не упустить в трудном вопросе ничего важного, дадим еще пример.
Неугомонный ребенок ваш портит все, до чего ни дотронется. Вы не должны сердиться: удалите только с глаз долой все, что он может испортить. Он ломает свою мебель – не торопитесь заменить ее новою: дайте ему почувствовать вред лишения. Он бьет окна в своей комнате: пусть на него ночь и день дует ветер – не бойтесь, что он получит насморк: лучше ему быть с насморком, чем сумасбродом. Никогда не жалуйтесь на неудобства, которые он вам причиняет, но постарайтесь, чтоб он первый почувствовал их. Наконец, вы велите вставить новые стекла, все-таки не говоря ему ни слова. Он снова разбивает. Теперь перемените метод: скажите ему сухо, но без гнева: «Окна принадлежат мне, они застеклены на мой счет; я хочу, чтоб они были целы». Затем заприте его в темноту, в комнату без окон. При этом столь необычайном вашем поступке он начинает кричать, бушевать; никто его не слушает. Скоро он утомляется и переменяет тон; он жалуется и рыдает. Является слуга; упрямец просит его выпустить. Слуге нечего и искать предлога к отказу – он просто отвечает: «У меня тоже есть окна; я тоже хочу, чтоб они были целы» – и уходит. Наконец, когда ребенок пробудет там несколько часов, настолько долго, чтобы заскучать и потом помнить об этом, кто-нибудь внушает ему мысль предложить вам соглашение, чтобы вы возвратили ему свободу, если он обяжется не бить стекол. Лучшего и не надо. Он просит вас позвать к нему; вы приходите; он делает свое предложение, вы тотчас принимаете его, говоря: «Вот отлично придумано! Мы оба выиграем, И как это раньше ты не додумался до этой прекрасной мысли!» Затем, не требуя ни уверений, ни подтверждения своего обещания, вы радостно обнимаете его и тотчас же уводите в его комнату, считая это соглашение столь же священным и ненарушимым, как если б оно было скреплено клятвой. Какое, вы думаете, понятие вынесет он из всего этого случая о верности взаимных обязательств и пользе их? Я жестоко обманулся бы, если бы нашелся в свете хоть один ребенок, еще не испорченный, на которого не подействовал бы этот образ действий и который захотел бы после этого нарочно бить окна. Проследите цепь, связывающую все это.
Копая ямку, чтобы посадить свой боб, маленький шалун и не думает, что он копает яму, куда скоро засадит его жизненный опыт*.
Впрочем, если бы это сознание необходимости исполнять свои обязательства не подкреплялось в уме ребенка соображениями пользы, то начинающее зарождаться внутреннее чувство скоро внушило бы ему это сознание, как закон совести, как врожденный принцип, для развития которого требуются только те факты сознания, к которым он применяется. Эта первая черта начертана в нашем сердце не рукою человека, но Творцом всякой справедливости. Отнимите эту первоначальную основу договора и обязательств, им налагаемых, и все станет пустым и призрачным в человеческом обществе. Кто держится своего обещания лишь в силу выгоды, тот не больше связан, чем если бы он совсем ничего не обещал,– по крайней мере он будет иметь возможность нарушать его, поступая, как игрок, который не спешит воспользоваться случаем, чтобы выждать другого момента, когда можно будет воспользоваться им с большей выгодой. Это правило в высшей степени важно и заслуживает глубокого изучения, ибо здесь именно человек начинает впадать в противоречие с самим собой.
Теперь мы в сфере нравственных отношений; теперь открыта дверь для порока. Вместе с договорами и обязанностями рождается обман и ложь. Лишь только является возможность делать то, чего не должно, является и желание скрыть то, чего не следовало бы делать. Как скоро обещание вызывается интересом, другой интерес, больший, может заставить нарушить его; все дело тут в том, чтобы нарушить безнаказанно; средства для этого вполне естественные – скрытность и ложь. Не имея возможности предупредить порок, мы здесь уже поставлены в необходимость его наказывать. Вот источник бедствий человеческой жизни, которые начинаются с началом заблуждений.
Я уже достаточно доказывал, что наказание никогда не следует налагать на детей, как наказание, что оно должно всегда являться естественным последствием их дурного поступка. Итак, не гремите красноречием против лжи, не наказывайте детей прямо за то, что они солгали: но сделайте так, чтобы если они солгали, то на их голову пали и все дурные последствия лжи, которая ведет к тому, например, что нам совсем не верят, когда мы говорим правду, или, несмотря на все наши оправдания, обвиняют в дурном поступке, которого мы не совершили. Но объясним, что значит для детей лгать.
Есть два рода лжи: ложь на деле, которая относится к прошлому, и ложь в помысле, касающаяся будущего. Первая имеет место, когда отрицают сделанное или утверждают, что сделали то, чего не сделано, вообще когда заведомо говорят против истины факта. Вторая бывает, когда обещают, не думая сдержать обещание, и вообще когда выказывают намерение, противное тому, какое имеется в действительности. Эти оба рода лжи могут иногда сливаться в одно; но здесь я рассматриваю те стороны, которыми они отличаются.
Когда, например, преступник, обвиняемый в преступлении, в защите своей ссылается на то, что он честный человек. Тут ложь касается и дела, и помысла.
Кто чувствует нужду в чужой помощи, кто не перестает испытывать на себе расположение других, тому нет никакого интереса обманывать их; напротив, он находит очевидную выгоду в том, чтобы они видели вещи в истинном свете, из опасения, чтоб обман их не послужил ему во вред. Отсюда ясно, что ложь на деле не свойственна детям; но закон послушания и вызывает необходимость лгать, ибо так как послушание тяжело, то всякий, как можно больше, тайком уклоняется от него, а близкая выгода избегнуть наказания или выговора берет верх над отдаленною выгодой, сопряженной с изложением истины. При естественном и свободном воспитании из-за чего станет лгать вам ребенок? что ему скрывать от вас? Вы не журите его, не наказываете, ничего от него не требуете – отчего же ему не рассказать вам всего того, что он сделал, так же откровенно, как и своему маленькому товарищу? В этом признании для него не больше опасности в первом случае, чем во втором.
Ложь в помысле еще менее свойственна детям, потому что обещания делать что-либо или не делать чего-либо суть акты договора, которые выходят уже за пределы естественного состояния и нарушают свободу. Мало того, все обязательства детей ничтожны и сами по себе; ибо, принимая обязательство, они и сами не знают, что делают, так как их ограниченный взор не может простираться дальше настоящего. Едва ли ребенок может лгать, когда он принимает обязательство: так как он только и думает о том, чтобы выпутаться из беды в настоящую минуту, то всякое средство, не ведущее к немедленному действию, делается для него годным: своим обещанием на будущее время он не обещает ничего; воображение ребенка, пока еще дремлющее, не умеет распространить бытия его на две различные сферы времени. Если б обещанием броситься завтра из окна он мог избегнуть розг или получить коробку конфет, он тотчас же дал бы такое обещание. Вот почему законы считают недействительными обязательства детей; если же строгие отцы и наставники добиваются от них исполнения обязательств, то лишь по отношению к тому, что ребенок должен был бы сделать и без всякого обещания.
Не сознавая того, что делает, когда дает обязательство, ребенок не может поэтому и давать ложных обязательств. Не то бывает, когда он нарушает обещание: это новый род лжи – ложь обратно действующая, ибо он очень хорошо помнит свое обещание, но не видит большой важности в том, выполнено оно или нет. Не будучи в состоянии читать книгу будущего, он не может предвидеть и последствий факта, и, когда он нарушает свои обязательства, он поступает как раз сообразно со своим возрастом.
Отсюда следует, что ложь детей – это дело наставников и что желать научить детей говорить правду значит не что иное, как учить их лгать. В пылу стремления направлять, руководить, наставлять никак не могут найти достаточного числа орудий, чтобы добиться цели. Путем безосновательных правил и неразумных наставлений хотят сделать новые захваты в области детского ума и предпочитают, чтобы дети восприняли их уроки и лгали, а не оставались невеждами и правдивыми.
Что же касается нас, то так как мы даем своим воспитанникам только уроки практические и больше желаем, чтоб они были добрыми, чем учеными, то и не станем домогаться от них истины из опасения, чтоб они не исказили ее, и не будем заставлять их делать обещания, которые им не захотелось бы исполнять. Если в мое отсутствие случится какая-нибудь беда и я не буду знать ее виновника, я остерегусь обвинять Эмиля или говорить ему: «Не ты ли это?»Ибо чего я добьюсь этим, кроме того, что научу его запираться? Если же своенравный характер ребенка вынудит меня вступить с ним в какое-нибудь соглашение, то я приму все меры, чтобы предложение исходило всегда от него, а не от меня, чтобы если он дал обязательство, то всегда имел текущий и осязательный интерес выполнить его, чтобы в случае неисполнения эта ложь навлекла на него такие бедствия, источник которых он видел бы в самом порядке вещей, а не в мстительности своего воспитателя. Но я не имею ни малейшей нужды прибегать к таким жестоким средствам и почти уверен, что Эмиль очень поздно узнает, что такое ложь, и, узнав это, будет очень удивлен, не будучи в состоянии понять, для чего она может служить. Очевидно, что, чем более я делаю его благосостояние независимым от чужой воли или от чужих суждений, тем больше я отнимаю у него всякую выгоду лгать.
Нет ничего нескромнее этого вопроса, особенно если ребенок виновен: в этом случае, если он подумает, что вы знаете его поступок, он увидит в вашем вопросе расставленные вами сети, и это мнение не может не вооружить его против вас. Если же он не подумает этого, он скажет себе: «Зачем же мне признаваться в своей вине?» И вот вам первая попытка лжи, явившаяся следствием вашего неразумного вопроса.
Если не спешат наставлять, то не спешат и требовать, делают все не торопясь, чтобы если требовать, то требовать кстати. Тогда ребенок развивается уже тем самым, что не портится. Но если опрометчивый наставник, не умея взяться за дело, ежеминутно заставляет ребенка давать то те, то другие обещания, без различия, без выбора и без меры, ребенок, утомленный и отягощенный всеми этими обещаниями, перестает обращать на них внимание, забывает их, наконец, пренебрегает ими и, считая их пустыми словами, забавляется тем, что то дает их , то нарушает. Итак, если вы желаете, чтоб он был верен в слове, будьте скромны в своих требованиях.
Подробности, в которые я только что вдавался по поводу лжи, можно во многих отношениях применить и ко всем другим обязанностям, которые предписывают детям, делая, таким образом, их не только ненавистными, но и неисполнимыми. Чтоб явиться перед ними проповедниками добродетели, их заставляют полюбить все пороки; запрещая иметь их, тем самым наделяют ими. Хотят сделать детей благочестивыми и вот водят их скучать в церковь; заставляя постоянно бормотать молитвы, вынуждают их мечтать о том, как хорошо было бы совсем не молиться Богу. Чтобы внушить любовь к ближним, заставляют их подавать милостыню, как будто самим не стоит вовсе этим заниматься. Нет, не ребенок должен подавать, а наставник: какую бы ни питал он привязанность к своему воспитаннику, он должен оспаривать у него эту честь, он должен дать ему понять, что в его годы он не достоин еще этого. Милостыня – дело человека, который знает цену того, что дает, и нужду своего ближнего. Ребенок ничего этого не знает, и в пожертвовании нет для него никакой заслуги: он подает без чувства любви, тут нет милосердия; он чуть не стыдится подавать, думая на основании своего и вашего примера, что подают только дети, а взрослые уже не делают этого.
Заметьте, что ребенка всегда заставляют подавать вещи, цены которых он не знает,– деньги, которые он только для этого и носит в кармане. Ребенок скорее отдаст сто луидоров, чем один пирожок. Но допросите этого расточителя отдать вещи, которые ему дороги: игрушки, сласти, завтрак, и вы скоро увидите, действительно ли сделали его щедрым.
Дело бывает и так: ребенку очень скоро возвращают то, что он дал, так что он приучается отдавать все, что вполне надеется получить обратно. Я замечал в детях почти только эти два рода щедрости: они дают, что им совсем не нужно или то, в возвращении чего они уверены. Сделайте так, говорил Локк, чтоб они на опыте убедились, что самый богатый всегда есть вместе с тем и самый щедрый. Но это значит сделать ребенка щедрым на вид, а скупым на деле. Локк добавляет, что таким путем дети приучатся к щедрости. Да! К щедрости ростовщика, которая, по пословице, дает «карася», чтобы получить «порося»12. Но когда дело пойдет о том, чтоб и вправду дать что-нибудь, прости и привычка! Перестанут им возвращать, и они сейчас же перестанут давать. Подумайте скорее о привычках души, чем о привычке рук. Все другие добродетели, которым учат детей, походят на эту. И вот, проповедуя о таких прочных добродетелях, заставляют их влачить свои юные годы среди скуки! Не правда ли, какое ученое воспитание?
Наставники! Бросьте жеманничать, будьте добродетельны и добры; пусть примеры ваши запечатлеваются в памяти воспитанников ваших, в ожидании, пока не проникнут в сердца. Вместо того чтобы спешить требовать от моего воспитанника дело милосердия, я лучше сам буду совершать их в его присутствии и отниму у него даже возможность подражать мне в этом: такая честь ему не по летам; ибо важно, чтобы он не привыкал смотреть на человеческие обязанности только как на обязанности детские. Если же, видя, как я помогаю бедным, он начнет расспрашивать меня об этом, я скажу ему, когда придет время сказать: «Друг мой, я поступаю так потому, что когда бедные согласились, чтобы были и богатые, то богачи обещали кормить тех, которые ни в своем имуществе, ни в труде не найдут средств к жизни».– «Значит, вы тоже обещали это»? – возразил он. «Конечно! Распоряжаться добром, которое идет через мои руки, я тогда только могу, если соблюдаю условие, связанное с обладанием этим добром».
Разумеется, я разрешаю его вопросы не тогда, когда ему угодно, но когда сам сочту нужным; поступать иначе значило бы подчиняться его воле и ставить себя в самую опасную зависимость – в зависимость воспитателя от воспитанника.
Услыхав эту речь,– а мы видели уже, как довести ребенка до понимания ее,– иной (но не Эмиль) захотел бы, пожалуй, подражать мне и вести себя на манер богача; в подобном случае я по крайней мере не дал бы ему такой возможности; я предпочел бы, чтоб он похитил у меня мое право и подавал бы тайком. Такой обман свойствен его возрасту и единственный, который я простил бы ему.
Знаю, что все эти добродетели из-за подражания суть добродетели обезьяны и что всякое доброе дело бывает только тогда нравственно добрым, когда совершается как таковое, а не в силу того, что так подступают другие. Но в возрасте, когда сердце ничего еще не чувствует, не мешает заставлять детей подражать действиям, к которым хотят их приучить, в ожидании, пока они будут в состоянии совершать их сознательно и вследствие любви к добру. Человек – подражатель, даже животное склонно к тому же; склонность к подражанию – свойство упорядоченной природы; но она вырождается в порок среди общества. Обезьяна подражает человеку, которого боится, и не подражает животным, которых презирает; она считает хорошим то, что делает существо, стоящее выше ее. Среди нас дело происходит наоборот: наши всевозможные арлекины подражают прекрасному с целью унизить его, сделать смешным; в сознании своей низости они стараются сравнить с собою то, что лучше их; если же и силятся скопировать те, чему удивляются, то в самом выборе предметов уже обнаруживается ложный вкус подражателей: они добиваются того, чтоб обморочить других или вызвать одобрение своему искусству, вместо того чтобы самим сделаться лучше и умнее. Основой подражания у нас бывает желание выходить постоянно за пределы своей природы. Если я успею, в своем предприятии, Эмиль, наверное, не будет иметь такого желания. Таким образом, мы должны отказаться от той мнимой выгоды, которую оно может принести.
Вникните во все правила нашего воспитания, и вы найдете, что они все навыворот, особенно в том, что касается добродетелей и нравов. Один только урок нравственности годен для детства и в высшей степени важен для всякого возраста – это не делать никому зла. Самое наставление делать добро, если оно не подчинено этому правилу, опасно, лживо и противоречиво. Кто только не делает добра? Все его делают, и злой не отстает от других: за счет сотни несчастных он делает одного счастливым, а отсюда – все наши бедствия. Самые высокие добродетели суть добродетели отрицательные; они вместе с тем и самые трудные, потому что чужды тщеславия и стоят выше даже того, столь сладостного для человеческого сердца удовольствия, чтобы другого отпустить от себя довольным. О, какое благо непременно делает своим ближним тот (если есть такой человек), кто никогда не делает им зла! Какая отвага духа, какая мощь характера нужна для этого! Не рассуждениями об этом правиле, но только пытаясь приложить его к делу, можно убедиться, как важно и трудно иметь в этом успех.
Правило никогда не вредить ближнему влечет за собою другое правило – как можно меньше иметь связей с человеческим обществом, ибо в общественном строе благо одного по необходимости бывает источником зла для другого. Отношение это лежит в сущности вещей, и ничто не может его изменить. Можно задаться вопросом на основании этого принципа, кто лучше: человек общительный или тот, кто любит уединение? Один знаменитый писатель говорит13, что только злой бывает одинок; что касается меня, то я утверждаю, что только добрый живет одиноко. Если это предположение менее поучительно, зато оно справедливее и разумнее первого. Если бы злой был одинок, какое он делал бы зло? Лишь среди общества он расставляет свои орудия, чтобы вредить другим. Если кто хочет повернуть этот аргумент в пользу доброго человека, то мой ответ в тексте, к которому относится это примечание.
Вот несколько слабых соображений о предосторожностях, желательных при наставлении детей, к которому приходится иной раз прибегать, чтобы не дать им возможности вредить себе или другим, а особенно перенимать дурные привычки, от которых трудно будет потом их отучить; но будьте уверены, что эта необходимость редко будет представляться для детей, воспитанных как следует, потому что невозможно, чтоб они стали непослушными, злыми, лживыми, жадными, если в их сердцах не посеять пороков, делающих их таковыми. Таким образом, сказанное мною по этому вопросу скорее относится к исключениям, чем к правилу; но эти исключения учащаются по мере того, как детям представляются случаи выходить из своего состояния и заражаться пороками взрослых. Детям, которых воспитывают среди общества, необходимы наставления более ранние, чем воспитывающимся в уединении. Значит, подобное воспитание в одиночку было бы предпочтительнее уже потому, что оно давало бы ребенку время созреть.
Другой род исключений, совершенно противоположный, составляют дети, счастливая природа которых возвышает их над их возрастом. Как есть люди, которые никогда не выходят из детства, так есть и другие, которые но проходят, так сказать, детского возраста и почти от рождения суть взрослые. Беда в том, что это последнее исключение очень редко встречается, весьма трудно распознается и что ни одна мать, воображая, что ребенок может быть чудом, не сомневается, что именно ее ребенок один из таких. Матери идут дальше; они принимают за необычайные приметы те самые, которые указывают на обычный порядок: живость, горячпость, ветреность, остроумную наивность; но все это признаки, характерные для возраста и лучше всего доказывающие, что ребенок есть только ребенок. Удивительно ли, что ребенок, которого заставляют много болтать, которому позволяют все говорить, который не стеснен ни в каком отношении никакими приличиями, натолкнется случайно и на удачную остроту? Гораздо удивительнее было бы, если б этого не случалось, точно так, как было бы удивительно, если б астролог, тысячу раз предсказывая ложно, ни разу не сказал бы правды. Они столько будут лгать, говорил Генрих IV, что наконец скажут правду. Кто хочет выдумать какие-нибудь остроты, тому стоит только говорить больше глупостей. Храни Бог от беды тех модных людей, которые ничем иным не заслужили того, что их везде хорошо принимают.
Самые блестящие мысли могут попасть в голову детей, или, лучше сказать, умнейшие слова попадают им на язык, точно так, как и самые ценные алмазы могут очутиться у них в руках; но это не значит, что мысли или алмазы принадлежат им; для этого возраста нет еще истинной собственности в той или иной области. Слова, которые говорит ребенок, для него бывают не тем, чем для нас: он связывает с ними не такие же идеи. Идеи эти, если они есть, не имеют в его голове ни последовательности, ни связи: ничего точного, ничего уверенного нет во всех его мыслях. Рассмотрите ближе ваше мнимое чудо. В иные моменты вы найдете в нем порыв необыкновенной деятельности, ясность ума, готовую пронизать облака. Но чаще всего тот же самый ум кажется вам слабым, вялым и как бы окутанным густым туманом. Он то опережает вас, то остается неподвижным. Порою вы скажете: «Это гений», а минуту спустя: «Это глупец». Оба раза вы ошибаетесь: это только ребенок. Это орленок, который в одну минуту рассекает воздух, а минуту спустя падает снова в гнездо.
Обращайтесь же с ним сообразно с его возрастом, несмотря на обманчивые признаки, и берегитесь, как бы излишним упражнением не истощить его силы. Если молодой мозг разгорячается, если вы видите, что он начинает кипеть, дайте ему прежде всего отстояться на просторе, но никогда не подогревайте его, чтоб он совсем испарился; а если первые брызги ума испарятся, удерживайте, крепче храните остальные, пока с годами не обратится все в животворную теплоту и в истинную силу. Иначе вы потеряете время и хлопоты, разрушите свое собственное дело и, неосторожно упившись всеми этими жгучими парами, в остатке получите только выжимки, лишенные всякой крепости.
Из ветреных детей выходят дюжинные взрослые: я не знаю наблюдения более общего и более верного, чем это. Нет ничего труднее, как различить в детстве действительную тупость от той наружной и обманчивой тупости, которая бывает предвестником сильного духа. На первый взгляд кажется странным, что эти две крайности имеют столь сходные признаки; однако это так и должно быть; ибо в возрасте, когда человек не имеет еще никаких истинных идей, вся разница между тем, у кого есть гений, и тем, у кого его нет, заключается в том, что последний принимает лично ложные идеи, тогда как первый, находя лишь ложные идеи, не принимает ни одной. Он походит, значит, тем на глупца, что один ни на что не годен, а другому ничто не годно. Единственный признак, по которому можно различить их, зависит от случая: случай может предоставить последнему посильную идею, тогда как первый всегда и везде один и тот же. Младший Катон14 в детстве казался в семье тупоумным. Он был молчалив и упрям – вот все, что могли сказать о нем. Только в передней Суллы дядя его научился распознавать его. Не войди он в эту переднюю, он, быть может, слыл бы тупицей вплоть до разумного возраста; не живи Цезарь, быть может, этого самого Катона, разгадавшего пагубный гений первого и столь далеко предвидевшего все его замыслы, все время считали бы вздорным пророком. О, как легко ошибиться тому, кто судит о детях столь поспешно! Такие люди часто больше самих детей бывают детьми. Я знаю, как один человек15 пожилых уже лет, удостоивший меня своей дружбы, слыл в кругу семьи и друзей весьма ограниченным: этот превосходный ум зрел в тишине. Вдруг он выказал себя философом, и я не сомневаюсь, что потомство даст ему почетное и выдающееся место между лучшими мыслителями и наиболее глубокими метафизиками его века.
Уважайте детство и не торопитесь судить о нем ни в хорошую, ни в дурную сторону. Дайте исключениям обнаружиться, доказать себя, подольше укрепиться, прежде чем принимать по отношению к ним особые методы. Дайте дольше действовать природе, прежде чем возьметесь действовать вместо нее, чтобы не помешать, таким образом,; ее работе. Вы знаете, говорите вы, цену времени и не хотите его терять. Но разве вы не видите; что дурное употребление его скорее,; чем ничегонеделание, можно назвать потерей времени и что дурно направленный ребенок гораздо дальше от мудрости, чем тот, которого совсем не наставляли? Вы тревожитесь, видя, как он проводит свои первые годы, ничего не делая. Как! Разве быть счастливым не значит ничего? Разве прыгать, играть, бегать целый день значит ничего не делать? Да он во всю свою жизнь не будет так занят! Платон в «Государстве», которое считают столь суровым, воспитывает детей не иначе, как среди празднеств, игр, песен, забав; можно было бы сказать, что научить их веселиться и было его главною целью; а Сенека говорит о древнеримской молодежи, что она была всегда на ногах, что ее ничему не учили такому, что изучают сидя16. Разве от этого она была хуже, достигая возмужалости? Не бойтесь же этой мнимой праздности. Что сказали бы вы о человеке, который с целью из всей жизни извлечь пользу, вздумал бы не спать никогда? Вы сказали бы: это человек безумный; он не пользуется временем, а отнимает его у себя; чтобы избежать сна, он бежит навстречу смерти. Помните же, что здесь то же самое и что детство – сон разума.
Кажущаяся легкость учения и есть причина гибели детей. Мы не видим, что самая легкость эта служит доказательством того, что они ничему не научаются. Мозг их, гладкий и отполированный, отражает, подобно зеркалу, представляемые ему предметы; но в нем ничего не остается, ничто не проникает внутрь. Слова ребенок запоминает, а идеи отскакивают прочь: слушающие понимают их, один он не понимает их.
Хотя память и мышление – две существенно различные способности, однако на самом деле первая развивается лишь вместе со вторым. До наступления разумного возраста ребенок воспринимает не идеи, но образы; а между ними та разница, что образы суть отрешенные от действительности картины чувственно воспринимаемых предметов, идеи же суть понятия о предметах, определяемые отношениями последних. Образ может оставаться одиноким в уме, его представляющем, но всякая идея предполагает другие. Работая воображением, мы только видим; понимая – сравниваем. Ощущения наши носят характер чисто пассивный, тогда как восприятия или идеи рождаются из активного начала, которое судит. Это будет доказано ниже.