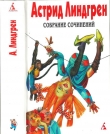Текст книги "Эмиль, или о воспитании"
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Quintil[ian]. L. I, с. 1.
Чем больше я настаиваю на своей бездеятельной методе, тем больше чувствую, как растут возражения. Если воспитанник ваш ничему не учится у вас, он научится от других. Если вы не предупреждаете заблуждения открытием истины, он научится лжи; предрассудками, которые вы боитесь вселить в него, он будет заражаться от всего окружающего; они будут входить в него через все его чувства; они извратят его разум даже прежде, чем он разовьется, или же дух его, притупившись от долгого бездействия, погрязнет в материи. Непривычка думать в детстве отнимает эту способность и на всю остальную жизнь.
Мне кажется, я мог бы легко ответить на это; но к чему эти постоянные ответы? Если моя метода сама за себя отвечает на возражения, она хороша; если нет, она ничего не стоит. Я продолжаю.
Если, соображаясь с планом, который я начал начертывать, вы будете держаться правил, прямо противоположных тем, которые установлены, если вместо того, чтобы вести вдаль ум вашего воспитанника и заставлять его вечно блуждать в других местностях, в других климатах, в других веках, на краях земли и даже в небесах, вы постараетесь держать его всегда в самом себе и сделать внимательным к тому, что непосредственно его касается, то вы найдете его способным и к восприятию, п к памяти, и даже к рассуждению; это естественный закон. По мере того как чувствующее существо становится деятельным, оно приобретает способность суждения, пропорциональную своим силам; и только при силе, превышающей ту, которая потребна ему для самосохранения, развивается в нем умозрительная способность, могущая употреблять этот избыток силы па другие цели. Поэтому, если хотите развить ум вашего воспитанника, развивайте силы, которыми ум должен управлять. Упражняйте непрерывно его тело; сделайте его крепким и здоровым, чтобы сделать мудрым и рассудительным; пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он всегда будет в движении: пусть он будет взрослым по крепости, и он скоро будет взрослым по разуму.
Правда, и с этой методой, вы сделали бы его тупицей, если бы вечно ходили за ним, направляя его, вечно ему говорили: иди туда, иди сюда, стой, делай это, не делай того. Если ваша голова управляет его руками, то его голова становится для него бесполезной. Но помните наши условия: если вы только педант, то вам не стоит труда и читать меня.
Жалкое заблуждение – воображать, что телесные упражнения вредят умственным занятиям! Как будто эти два дела недолжны идти рядом, как будто одним не должно всегда направляться другое!
Есть два сорта людей, тело которых в постоянном упражнении и которые, наверное, одинаково мало заботятся о развитии своей души: я говорю о крестьянах и дикарях. Первые грубы, непонятливы, неловки; вторые известны большой смышленостью и еще известнее хитростью ума своего; вообще нет ничего тупее крестьянина и лукавее дикаря. Отчего происходит эта разница? Оттого, что первый, вечно делая, что приказывают, что делал отец его или что сам он делал с юности, никогда не отступает от рутины; среди своей почти автоматической жизни он постоянно занят одними и теми же работами, поэтому привычка и послушание заменяют для него разум.
Другое дело – дикарь: не будучи привязан к одному месту, не имея никакой заданной работы, никому не повинуясь, не признавая иного закона, кроме своей воли, он принужден при каждом поступке в своей жизни рассуждать; он не делает ни одного движения, ни одного шага, не рассмотрев предварительно последствий. Таким образом, чем более упражняется его тело, тем больше просвещается его ум; сила и разум растут у него вместе и расширяют друг друга.
Ученый наставник! посмотрим, который из наших воспитанников походит на дикаря и который на крестьянина. Ваш, во всем подчиненный вечно поучающей власти, ничего не делает иначе, как по приказу; он не смеет есть, когда голоден, смеяться, когда весел, плакать, когда печален, не смеет подать одну руку вместо другой, не смеет передвинуть ногу не так, как ему предписано; скоро он не посмеет и дышать не по вашим правилам. Для чего вы хотите, чтоб он думал, если вы обо всем думаете за него? Для чего ему нужна предусмотрительность, если он уверен в вашей? Видя, что вы берете на себя попечение о сохранении и благополучии, он чувствует себя освобожденным от этих забот; рассудок его полагается на ваш рассудок; он без размышления делает все, чего вы не запрещаете ему, хорошо зная, что ничем не рискует. К чему ему учиться предугадывать дождь? Он знает, что вы за него смотрите на небо. Зачем ему выбирать время для прогулок? Он знает, что вы не дадите ему пропустить час обеда. Пока вы не запрещаете есть, он ест: он уже слушается не голоса своего желудка, а вашего голоса. Сколько бы вы ни изнеживали его тела бездействием, вы не делаете его разумения более гибким. Напротив, вы окончательно роняете в его глазах разум, заставляя расходовать небольшой наличный запас его на такие вещи, которые кажутся ему самыми бесполезными. Не видя, на что годен разум, он наконец решает, что он ни на что не годен. Когда он дурно рассуждает, его останавливают,– вот наибольшая беда, которая может с ним случиться; а это бывает так часто, что он почти не думает об этом; опасность столь привычная уже не пугает его.
Вы, однако, находите в нем ум; у него есть ум на то, чтобы болтать с женщинами тоном, о котором я уже говорил; но, если ему случится отвечать самому за себя, если придется принять решение в какой-нибудь затруднительном обстоятельстве, вы увидите, что он во сто раз глупее и тупоумнее сына самого простого мужика.
Что касается моего питомца, или, скорее, питомца природы, то, приучаемый с ранних пор обходиться, насколько возможно, своими средствами, он не привык беспрестанно обращаться к другим за помощью, а тем более выставлять перед ними свои великие познания. Зато он судит, предусматривает, рассуждает во всем, что касается его непосредственно. Он не пускается в болтовню, он действует; он не знает ли слона о том, что делается в свете, но он отлично умеет делать то, что ему следует. Так как он беспрестанно л движении, то он вынужден наблюдать много вещей, знакомиться со множеством действий; он с ранних пор приобретает большую опытность; он берет уроки у природы, а не у людей; он научается тем лучше, что нигде не видят намерения научить его. Таким образом, тело его и ум упражняются разом. Действуя всегда по своей мысли, а не по мысли другого, он непрерывно соединяет две операции – мысль и действие; чем сильнее и крепче, тем умнее и рассудительнее делается он. Вот средства иметь со временем то, что считается непримиримым, но что, однако, соединили в себе почти все великие люди,– силу тела и силу души, разум мудреца и крепость атлета.
Молодые наставники! я вам проповедую трудное искусство – управлять без предписаний, делать все, ничего не делая. Искусство это, сознаюсь, не по летам вам; оно не пригодно на то, чтобы с первого же раза блеснуть вам перед отцами своими талантами или похвастать небывалыми качествами; но оно одно способно вести к успеху. Вам не удастся никогда создать мудрецов, если вы не создадите сначала шалунов. Таково было воспитание спартанцев: вместо того чтобы прилеплять их к книгам, их прежде всего учили воровать обед. А были ли спартанцы вследствие этого тупоумными, когда становились взрослыми? Кому не известна сила и меткость их возражений? Всегда готовые побеждать, они уничтожали своих врагов во всякого рода войне, и болтуны-афиняне столько же боялись их языка, сколько ударов.
При самом тщательном воспитании учитель приказывает и воображает, что управляет; в действительности же управляет ребенок. С помощью того, что вы требуете от пего, он добивается от вас того, что ему нравится, и всегда умеет заставить вас за час усердия заплатить ему неделей снисходительности. Каждую минуту приходится с ним договариваться. Договоры эти, которые вы предлагаете на свой манер, а он выполняет на свой, всегда обращаются в пользу его прихотей, особенно если вы имели неосторожность, на его счастье, поставить в условиях такую вещь, которой он вполне надеется добиться и помимо условий, налагаемых на него. Ребенок обыкновенно гораздо лучше читает в уме учителя, чем учитель в сердце ребенка. Да это так и должно быть; ибо всю смышленость, которую ребенок, предоставленный самому себе, употребил бы на заботы о своем самосохранении, он употребляет на то, чтобы спасти свою природную свободу от цепей своего тирана, тогда как последний, не имея никакой настоятельной нужды разгадывать ребенка, находит иной раз для себя выгодным дать волю его лености или тщеславию. Изберите с вашим воспитанником путь противоположный; пусть он считает себя господином, а па деле вы будьте сами всегда господином. Нет подчинения столь совершенного, как то, которое сохраняет наружный вид свободы; тут порабощают самую волю. Разве бедный ребенок, который ничего не знает, ничего не может сделать, ни с чем не знаком, не в вашей власти? Разве вы не располагаете по отношению к нему всем окружающим? Разве вы не властны производить на него какое вам угодно влияние? Разве его занятия, игры, удовольствия, горести не в ваших руках, даже без его ведома? Конечно, он должен делать только то, что хочет; но он должен хотеть только того, чего вы от него хотите; он не должен делать ни одного не предусмотренного вами шага; не должен открывать рта, если вы не знаете, что он скажет.
Тогда только он может предаваться телесным упражнениям, потребным для его возраста, и не притуплять при этом ума; тогда только вместо того, чтобы изощрять свою хитрость в увертках от несносной для него власти, он будет занят единственно тем, чтоб извлекать изо всего окружающего как можно больше пользы для своего настоящего благополучия; тогда именно вы будете изумлены тонкостью его изобретательности для присвоения себе всего, чего он может добиться, и для истинного пользования жизнью, независимо от условных понятий.
Оставляя его таким образом господином своей воли, вы не станете вызывать его па капризы. Не чувствуя, что поступает так, как следует, он скоро будет делать только то, что должен делать; и хотя бы тело его находилось в постоянном движении, вы увидите, что и все силы разума, ему доступные, пока дело будет касаться настоящей и видимой выгоды, будут развиваться гораздо лучше и гораздо целесообразнее, чем при занятиях чисто умозрительных.
Таким образом, не видя в вас стремления противоречить ему, не питая к вам недоверия, не имея ничего такого, что нужно скрывать от вас, он не станет вас и обманывать, не станет лгать вам; он явится таким, каким бывает, когда не чувствует страха; вам можно будет изучать его на полной свободе, и, какие бы вы ни хотели дать ему уроки, вы можете обставить их так, чтоб он никогда не догадывался, что получает уроки.
Он не станет уже с любопытною ревностью подсматривать за вашими нравами и не будет испытывать тайного удовольствия при виде ваших промахов. Неудобство, предупреждаемое этим, довольно велико. Одну из первых забот у детей составляет, как я сказал, открытие слабой стороны у тех, кто ими руководит. Склонность эта ведет к злобе, но не от нее происходит: она является следствием потребности ускользнуть от докучливой власти. Изнемогая под тяжестью налагаемого на них ига, дети стараются сбросить его; а недостатки, замечаемые ими в наставниках, дают им лучшие средства для этого. В то же время зарождается привычка примечать людей по их недостаткам и находить удовольствие в открытии последних. Ясно, что этим путем мы заграждаем еще один источник пороков в сердце Эмиля; не имея никакого интереса находить во мне недостатки, он не станет н искать их во мне; ему не особенно захочется искать их и в других.
Все эти приемы кажутся трудными, потому что не решаются их применить; но в сущности они не должны быть трудными. Мы вправе предполагать в вас сведения, необходимые для того ремесла, которое вы избрали; мы должны ожидать, что вам знакомо естественное развитие человеческого сердца, что вы умеете изучать человека и личность, что вы наперед знаете, к чему склонится воля нашего питомца при виде всех тех предметов, интересных для его возраста, которые вы будете выставлять перед его глазами. А иметь орудия и хорошо знать их употребление – разве не значит быть мастером своего дела?
Вы в ответ ссылаетесь на капризы ребенка; но вы не правы. Каприз детей – это не дело природы; это дело дурного воспитания; это значит, что они повиновались или приказывали; а я сто раз повторял, что не нужно ни того, ни другого. У вашего воспитанника, значит, будут только те капризы, которым вы его научите; справедливость требует, чтобы вы несли сами и наказание за слои ошибки; Но как, скажете вы, исправить их? Это возможно еще при лучшем образе действия и при большом терпении.
Поручили мне на несколько недель ребенка52, который привык не только делать все по своему произволу, но вдобавок заставлял всех исполнять свою волю и, следовательно, был преисполнен прихотями. В первые же сутки, чтоб испытать мою снисходительность, он захотел встать в полночь. Во время самого глубокого сна моего он соскакивает с постели, надевает халат и зовет меня. Я встаю, зажигаю свечу; ему только этого и хотелось. Через четверть часа его начинает клонить сон, и он снова ложится, довольный своим опытом. Два дня спустя он повторяет его с таким же успехом и без малейшего знака нетерпения с моей стороны. Когда он обнимал меня, снова ложась спать, я сказал ему совершенно серьезно: «Дружок мой, все это прекрасно, но не делайте больше этого». Эти слова подстрекнули его любопытство, и на следующий же день, желая посмотреть, как я осмелюсь не слушаться его, он не преминул встать в том же самом часу и позвать меня. Я спросил, что ему нужно. Он сказал, что не может спать. «Тем хуже»,– возразил я, не трогаясь с места. Он попросил меня зажечь свечу. «Зачем?» – сказал я, не трогаясь с места. Лаконичный тон начал смущать его. Он принялся ощупью отыскивать огниво и стал высекать огонь; я не мог удержаться от смеха, слыша, как он ударяет себя по пальцам. Наконец, убедившись, что этого ему не сделать, ои поднес огниво к моей постели; я сказал, что мне его не нужно, и повернулся на другой бок. Тогда он принялся бегать опрометью по комнате, с криком и пением, производя большой шум и ударяясь о стол и стулья; но он очень старательно умерял эти удары, хотя не переставал при каждом очень сильно кричать, надеясь причинить мне беспокойство. Все это пропадало даром, и я видел, что, рассчитывая на красноречивые увещании или гнев, он никак не мог помириться с таким полным хладнокровием.
Однако, решившись упорством победить мое терпение, он продолжал свою возню с таким успехом, что я, наконец, разгорячился; но, предчувствуя, что испорчу все дело неуместною вспыльчивостью, я принял другое решение. Ничего не говоря, я встал, пошел за огнивом, но не нашел его; я спрашиваю его у ребенка; тот подает мне, трепеща от радости, что, наконец, восторжествовал надо мной. Я высекаю огонь, зажигаю свечу, беру за руку мальчугана и спокойно отвожу его в соседний кабинет, где ставни были плотно закрыты и где нечего было разбивать, и оставляю его там впотьмах; затем, заперев за ним дверь на ключ, снова ложусь, не промолвив с ним ни слова. Нечего и говорить, что сначала он поднял шум; но я этого ожидал и нимало не смутился. Наконец, шум стихает; я прислушиваюсь; слышу, что ребенок укладывается, я успокаиваюсь. На другой день утром вхожу в кабинет и вижу, что мой маленький упрямец лежит на диване и спит глубоким сном, в котором после такой усталости, очевидно, очень нуждался.
Дело этим не кончилось. Мать узнает, что ребенок провел две трети ночи вне постели. Все сразу пропало! Ребенок, думают, при смерти. Видя удобный случай отомстить, он притворяется больным, не предвидя, что ничего этим не выиграет. Зовут врача. К несчастью Для матери, врач оказывается шутником, который, чтобы позабавиться ее ужасами, постарался усилить их. Между тем он шепчет мне на ухо: «Предоставьте дело мне; я обещаю вам в короткое время вылечить ребенка от фантазии быть больным». Действительно, была предписана диета, ребенку велено оставаться в комнате и принимать лекарства. Я вздыхал, видя, как бедная мать была вводима в обман всем окружающим, кроме меня одного, которого она возненавидела именно потому, что я ее не обманывал.
После довольно жестоких упреков она сказала мне, что сын нежного телосложения, что он единственный наследник семейства, что его во что бы то ни стало нужно беречь и что она не желает, чтоб я дразнил его. В последнем я был совершенно согласен с нею, но под словом «дразнить» она разумела: «не во всем его слушаться». Я увидел, что по отношению к матери нужно принять такой же тон, как и по отношению к ребенку. «Сударыня,– сказал я ей довольно холодно,– я не знаю, как воспитывать наследника, а главное – и не хочу этого знать; вы можете принять это к сведению». Во мне нуждались еще некоторое время; отец уладил все; мать написала наставнику, чтоб он поторопился вернуться, а ребенок, видя, что ничего не выигрывает, если мешает мне спать или притворяется больным, сам, наконец, решил спать и чувствовать себя здоровым.
Можно представить, сколько подобных капризов вытерпел от маленького тирана его несчастный гувернер; ибо воспитание производилось на глазах матери, которая не терпела, чтобы наследнику выказывали в чем-нибудь ослушание. В каком бы часу он пи захотел выйти из дому, приходилось быть готовым вести его или, скорее, следовать за ним, а он всегда старался выбрать такой момент, когда видел гувернера наиболее занятым. Он вздумал и надо мной проявить такую же власть и днем отомстить за покой, который поневоле давал мне ночью. Я готов был на все и начал с того, что заставил его увериться собственными глазами, с каким удовольствием я делаю приятное ему; затем, когда вопрос зашел о том, чтобы вылечить его от капризов, я взялся за дело иначе.
Прежде всего нужно было донести его до сознания своей вины; это не было трудно. Зная, что дети, думают только о настоящем, я легко одержал над ним верх предусмотрительностью; я озаботился доставить ему дома занятие, которое, как я знал, ему было очень по вкусу, п в тот момент, когда он был наиболее увлечен им, предложил ему пойти погулять; он наотрез отказался; я настаивал, он не слушал: мне пришлось сдаться, и он отлично подметил этот признак подчинения.
На следующий день была моя очередь. Он скучал – я заранее так устроил дело; я, напротив, казался очень занятым, Этого было совершенно достаточно, чтобы заставить его решиться. Он не преминул подойти с целью оторвать меня от работы, чтобы вести его скорее гулять. Я отказался; он упорствовал. «Нет,– сказал я,– исполняя свою волю, вы научили и меня тому же; я не хочу идти гулять».– «Ну, хорошо! – с живостью возразил он.– Я пойду один».– «Как хотите». И я опять принялся за работу.
Он одевается, несколько обеспокоенный том, что я позволял ему это делать и сам не делал того же. Готовый выйти, он приходит проститься; я прощаюсь; он старается напугать меня рассказом о путешествиях, которые намерен сделать; слушая его, можно было подумать, что он идет па край света. Нисколько не волнуясь, я пожелал ему счастливого пути. Смущение его удваивается. Однако он принимает бодрый вид и. собираясь уходить, велит своему лакею следовать за ним. Лакей, предупрежденный заранее, отвечает, что ему некогда, что он занят исполнением моих приказаний и должен повиноваться скорее мне, чем ему. На этот раз ребенок теряется. Как понять, что ему позволяют выходить одному, ему, который считает себя таким важным для всех прочих существом и думает, что небеса и земля озабочены его сохранением? Однако он начинает чувствовать свою слабость; он понимает, что очутится один среди незнакомых людей; он заранее видит опасности, которым подвергается; одно упрямство пока еще поддерживает его; он медленно сходит с лестницы в большом смущении. Наконец, он выходит на улицу, утешаясь несколько надеждою, что за беду, которая может с ним случиться, отвечать буду я.
Этого я и ждал. Все было подготовлено заранее; а так как дело шло о публичной, так сказать, сцене, то я запасся согласием отца. Едва он сделал несколько шагов, как слышит направо и налево различные замечания на слой счет. – «Братцы, смотрите, какой красивый барчук! Куда это он идет один? Он заблудится; попросить его разве зайти к нам?» – «Берегись, соседка! Разве ты не видишь, что это маленький своевольник? Его, видно, прогнали из отцовского дома за то, что он не хотел быть путным. Не следует пускать к себе таких шалунов; пускай идет, куда хочет».– «Ну что же! Бог с ним! Как бы только не приключилось с ним беды!» Немного дальше он встречает шалунов, одних почти с ним лет; они его дразнят и смеются над ним. Чем дальше, тем больше затруднений. Один, без защиты, он видит себя игрушкой для всех и чувствует с немалым изумлением, что его бант на плече и золотые обшлага не внушают уже к нему уважения.
Между тем один из моих друзей, которого он не знал и которому я поручил наблюдать за ним следил за ним шаг за шагом, незаметно для него, и подошел, когда пришло время. Для этой роли, похожей на роль Сбригани в «Пурсоньяке»53, требовался человек умный, и она исполнена была превосходно. Не запугивая ребенка излишним выставлением всего ужаса его поступка, он так хорошо дал ему почувствовать безрассудство его выходки, что через полчаса привел его ко мне покорным, сконфуженным и не смевшим поднять глаз.
К довершению бедствий его путешествия, в ту самую минуту, как он возвращался, выходит из долгу отец, встретивший его на лестнице. Пришлось сказать, откуда он шел и почему меня не было с ним. Бедный ребенок желал бы провалиться сквозь землю. Не находя ничего приятного в продолжительных выговорах, отец сказал ему с большею сухостью, нежели я ожидал бы: «Когда ты захочешь выйти один, ты властен сделать это; но так как я не хочу иметь в доме бродягу, то в подобном случае постарайся не возвращаться больше сюда».
В подобном случае можно без риска требовать от ребенка правды; ибо он тогда хорошо знает, что не сумеет скрыть ее и что если осмелится сказать ложь, то сейчас же будет уличен.
Что касается меня, то я встретил его без упреков и без насмешек, по несколько сурово и, боясь, чтоб он не заподозрил во всем случившемся простую шутку, не хотел вести его в этот день гулять. На следующий день я с большим удовольствием увидел, что он с торжеством проходил со мной мимо тех людей, которые накануне смеялись над ним, встретив его одного. Попятно, что после этого он уже не грозил мне, что уйдет без меня.
Подобными средствами в течение короткого времени, пока я был с ним, мне удалось заставить его делать все, что я хотел, ничего не приказывая и ничего не запрещая ему, без нравоучений, без увещаний, без надоеданья бесполезными уроками. Зато, когда я говорил, он был доволен; но молчание мое держало его в страхе: он понимал, что что-нибудь неладно, и всегда урок получал не от меня, а от самой вещи. Но возвратимся назад.
Эти постоянные упражнения, предоставленные таким образом руководству одной природы, укрепляя тело, не только не притупляют ум, но, напротив, развивают в нас тот вид разума, который единственно доступен для первого возраста и больше всего необходим для какого бы то пи было возраста. Они дают нам умение пользоваться своими силами, распознавать отношение нашего тела к телам окружающим, пользоваться естественными орудиями, которые в нашей власти и пригодны для наших органов. Что можно сравнить с глупостью ребенка, которого воспитывали вечно в комнате и па глазах матери и который, не зная, что такое тяжесть и сопротивление, хочет вырвать огромное дерево или поднять скалу? Когда я первый раз вышел из Женевы, я хотел догнать скакавшую лошадь и кидал камни в гору Салев, которая была в двух милях от меня; я был посмешищем для всех детей деревни и казался им настоящим идиотом. Лет в восемнадцать мы узнаем из философии54, что такое рычаг; а в деревне нет такого двенадцати летнего малыша, который не умея бы пользоваться рычагом лучше первого механика академии. Уроки, полученные школьниками друг от друга на дворе училища, в сто раз полезнее всего того, что скажут им когда-либо в классе. Посмотрите, как кошка в первый раз входит в комнату: она осматривается, оглядывается, обнюхивает, она ни минуты не остается в покое, ничему не доверяет, пока не рассмотрит всего, не разузнает всего. Так же поступает и ребенок, начинающий ходить и вступающий, так сказать, в свет. Вся разница в том, что к зрению, которым обладает и ребенок и кошка, первый присоединяет при наблюдении руки, данные ему природой, а вторая – тонкое чутье, которым она одарена. Эта именно способность, смотря но тому, хорошо или дурно она развита, и делает детей ловкими или неуклюжими, неповоротливыми или проворными, ветреными или осторожными.
Так как первые естественные движения человека проявляются в желании помериться со всем окружающим и испытать в каждом видимом предмете все осязаемые свойства, которые могут в нем быть, то первая паука ребенка – это род экспериментальной физики, относящейся к его самосохранению, а его отвлекают занятиями умозрительными, даже прежде чем он разузнает свое место в здешнем мире. Пока его органы, нежные и гибкие, могут приноравливаться к телам, на которые они должны действовать, пока чувства его еще чисты и не знают обмана, в это самое время и нужно упражнять те и другие в свойственных им функциях; тут-то и нужно учиться распознавать чувственно воспринимаемые отношения, существующие между нами и вещами. Так как все проникающее в человеческий разум идет туда путем чувства, то первая стадия в развитии разума – это разумение чувственное; оно и служит основанием для разумения умственного: первые наши учителя философии – это наши ноги, руки, глаза. Заменить все это книгами не значит учить нас рассуждать; это значит учить нас пользоваться чужим разумом, учить нас много верить и ничего никогда не знать.
Для упражнения в искусстве нужно прежде всего добыть орудия; а чтобы эти орудия употреблять с пользою, их нужно сделать достаточно прочными, так, чтобы они могли выдержать работу. Чтобы научиться думать, нужно, значит, упражнять свои члены, свои чувства, свои органы, которые служат орудием нашего разума; а чтобы извлечь из этих орудий всю возможную пользу, нужно, чтобы тело, снабжающее ими, было крепко и здорово. Таким образом, никак нельзя сказать, что истинный разум человека формируется независимо от тела; напротив, хорошее телосложение и делает умственные процессы легкими и верными.
Указывая, на что следует употреблять продолжительную праздность детства, я вхожу в подробности, которые покажутся смешными. Забавные уроки! Скажут мне: ведь они, по вашему же собственному отзыву, ограничиваются тем, учиться чему никто не имеет нужды. Зачем тратить время на приобретение познаний, которые приходят всегда сами собой и не стоят ни труда, ни забот? Какой двенадцатилетний ребенок не знает всего того, чему вы хотите учить вашего и чему, вдобавок, научили его учителя?
Господа, вы ошибаетесь: я преподаю своему воспитаннику искусство очень обширное, очень трудное, вам, конечно, незнакомое,– искусство быть невеждой; ибо наука того, кто думает, что он знает лишь то, что в действительности знает, сводится к немногому. Вы даете пауку – в добрый час! Я готовлю орудие, пригодное для ее приобретения. Говорят, что раз, когда венецианцы с большим торжеством показывали испанскому посланнику свои сокровища в С.-Марко, последний, вместо всякой любезности, посмотрев под столы, сказал им: «Qui non с’e la radice»55. Когда я вижу наставника, выставляющего напоказ знания своего ученика, мне всегда хочется сказать то же самое.
Все, размышлявшие об образе жизни древних, приписывают гимнастическим упражнениям ту телесную и душевную крепость, которая очень заметно отличает их от людей нового времени. Способ, которым Монтень56 подкрепляет это мнение, показывает, что он и сам был глубоко проникнут этими мыслями: он беспрестанно и на тысячу ладов возвращается к нему. Говоря о воспитании ребенка, он замечает: чтобы укрепить его душу, нужно закалить его мускулы; приучая его к труду, мы приучаем к боли; следует приучать его к неприятности упражнений, чтобы научить терпеть неприятности вывиха, колики и всяких страданий. Мудрый Локк, добрый Роллен57, ученый Флери58, педант де Круза59, писатели, столь различные между собой во всем остальном, сходятся в одном этом пункте, что нужно много упражнять тело ребенка. Это самое разумное из их правил; оно-то именно находится и будет находиться в наибольшем пренебрежении. Я уже достаточно говорил о его важности; а так как нельзя привести лучших оснований и более обдуманных наставлений, чем те, которые мы находим в книге Локка, то я ограничусь простой ссылкой на нее, взяв па себя смелость прибавить к его наблюдениям несколько своих.
Тело растет, поэтому всем членам нужно дать в одежде простор; ничто не должно стеснять ни их движения, ни роста; ничего не надо слишком узкого, ничего такого, что плотно облегает тело, никаких перевязок! Французская одежда, стеснительная и вредная для здоровья взрослых, особенно гибельна для детей. Остановленные в своем обращении, соки застаиваются при покое, который увеличивается от недеятельной и сидячей жизни, портятся и причиняют скорбут – болезнь, со дня на день распространяющуюся среди нас и почти неизвестную древним, которых предохранял от нее их способ одеваться и образ жизни. Гусарский костюм, вместо того чтобы устранить это неудобство, увеличивает его60: избавляя детей от некоторых перевязок, он зато жмет всюду тело. Лучше всего держать детей, пока можно, в курточке, а затем одевать их в очень широкое платье и не гоняться за тем, чтобы оно обрисовывало их талию, ибо это только уродует ее. Их телесные и умственные недостатки происходят почти все от одной и той же причины: их хотят преждевременно сделать взрослыми.
Есть цвета веселые и цвета мрачные; первые более нравятся детям; они н идут к ним больше. Я не вижу, почему бы не соображаться в этом случае с удобствами, столь естественными; но лишь только они начнут предпочитать ту или иную материю потому именно, что она богата, сердца их уже заражены роскошью, они уже преданы всем прихотям моды; а вкус этот является у них, разумеется, не сам собой. Трудно даже рассказать, сколь влияет на воспитание выбор одежды и мотивы этого выбора. Мало того, что ослепленные матери обещают своим детям наряды в виде награды; мы видим даже, как иные безумные воспитатели грозят одеть своих питомцев в грубую, простую одежду в виде наказания: если вы, мол, не будете лучше учиться, если вы не будете беречь своего платья, вас оденут, как этого крестьянского мальчугана. Это все равно, что говорить: знайте, что, если человек значит что-нибудь, то только благодаря платью; вся цена ваша зависит от вашего костюма. Нужно ли удивляться, что эти столь мудрые уроки действительно влияют на юношество, что оно ценит только наряды и судит о достоинстве по одной внешности?