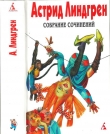Текст книги "Эмиль, или о воспитании"
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Я сказал, что геометрия была бы не под силу детям; но в этом виноваты мы. Мы не чувствуем того, что их метода не наша: что для нас становится искусством рассуждать, то для них должно быть только искусством видеть. Вместо того чтобы давать им нашу методу, нам лучше было бы перенять их методу; ибо наш способ изучения геометрии – столько же дело воображения, сколько рассудка. Когда предложена теорема, доказательство ее приходится выдумывать, т: е. приходится отыскивать, из какой известной уже теоремы данная теорема должна вытекать, и из всех последствий, которые можно извлечь из этой самой теоремы, выбирать именно то, о котором должна идти речь.
При таком способе самый точный мыслитель, если он не одарен изобретательностью, должен стать в тупик. Таким образом, что же отсюда выходит? Вместо того чтобы заставлять нас отыскивать доказательства, нам их подсказывают; вместо того чтобы нас учить рассуждать, учитель за нас рассуждает и упражняет одну нашу память. .
Начертите точные фигуры, соединяйте их, накладывайте одну на другую, рассматривайте отношения их; идя от наблюдения к наблюдению, вы найдете тут всю элементарную геометрию, не прибегая ни к определениям, ни к задачам и ни к каким другим формам доказательства, кроме простого наложения фигур. Что касается меня, то я не имею претензии учить Эмиля геометрии: он сам меня будет учить; я буду искать отношения, он будет их находить, ибо я так их буду искать, чтобы дать ему возможность найти. Например, вместо того чтоб употреблять циркуль для начертания круга, я начерчу его с помощью острия, привязанного к вращающейся вокруг стержня нитке. Затем, когда я захочу сравнивать радиусы между собою, Эмиль посмеется надо мной и даст мне понять, что одна и та же нить, постоянно натянутая, не могла дать расстояний неравных.
Если я хочу измерить угол в 60°, я описываю от вершины этого угла не дугу, но целую окружность, ибо, когда имеем дело с детьми, у нас ничего не должно подразумеваться. Я нахожу, что доля окружности, заключающаяся между двумя сторонами угла, есть шестая часть окружности. Затем я описываю от той же вершины другую, еще большую окружность и нахожу, что эта вторая дуга опять составляет шестую часть своей окружности. Я описываю третью концентрическую окружность п проделываю над нею ту же пробу; я продолжаю повторять ее с новыми окружностями до тех пор, пока Эмиль, раздосадованный моею тупостью, не сообщит мне, что всякая дуга, большая или малая, заключенная между сторонами этого самого угла, всегда будет шестою частью своей окружности, и т. д. Вот мы дошли сейчас до употребления транспортира.
Чтобы доказать, что углы, лежащие по одну сторону прямой, равны двум прямым, описывают окружность: я же, напротив, устрою так, чтобы Эмиль заметил это первоначально в круге, и затем спрошу: «Если отнять окружность, то изменится ли и величина прямых линий, углов и т. д.?»
На правильность фигур не обращают внимания: ее предполагают и прямо принимаются за доказательство. Мы же, напротив, никогда не будем гоняться за доказательствами; нашей главною задачей будет провести совершенно прямые, совершенно правильные, совершенно равные линии, сделать вполне правильный прямоугольник, начертать совершенно круглую окружность. Чтобы проверить правильность фигуры, мы рассмотрим ее со стороны всех ее видимых свойств, и это будет давать нам возможность ежедневно открывать новые свойства. Мы станем складывать по диаметру два полукруга, по диагонали две половины прямоугольника; мы сравним две фигуры, чтобы видеть, у которой стороны сходятся точнее и которая, следовательно, лучше сделана; мы будем спорить о том, должно ли это равенство при делении существовать всегда и в параллелограммах, трапециях и т. д. Попытаемся иной раз предугадать успех опыта; прежде чем производить его, постараемся отыскать основания и т. д. Геометрия для моего ученика – это только искусство умело пользоваться линейкой и циркулем; он не должен смешивать ее с рисованием, при котором он не будет употреблять ни того, ни другого из этих приборов. Линейка и циркуль будут под замком и будут выдаваться ему только изредка и то па короткое время, чтобы не приучать его к маранью; но мы можем брать иной раз свои фигуры, идя на прогулку, и беседовать о том, что сделали или что хотим сделать.
Я никогда не забуду одного молодого человека, виденного мною в Турине, которого в детстве учили распознавать очертания и поверхности, давая ему ежедневно из всех геометрических фигур с равными периметрами выбирать, какие хочет,– вафли. Маленький обжора исчерпал все искусство Архимеда, чтобы найти фигуру, где было бы больше еды.
Когда ребенок играет в волан, он приучает глаз и руку к точности; когда он пускает кубарь, он напрягает свою силу, употребляя ее в дело, но ничему не научается, Я не раз спрашивал, почему детям не предлагают тех же самых игр, изощряющих ловкость, которыми занимаются взрослые,– игры в мяч, в шары, бильярд, лук, лапту, музыкальные инструменты. Мне отвечали, будто некоторые из этих игр им не по силам, а для других недостаточно еще развиты их члены и органы. Я нахожу эти доводы неосновательными: ребенок не имеет роста взрослого человека и все-таки носит платье одного с ним покроя. Я не требую, чтоб он играл нашими киями на бильярде в три фута вышиною, чтобы он ходил перекидывать мяч в наши игорные клубы или чтоб он отягощал свою маленькую руку отбойником для игры в мяч; но пусть он играет в зале, окна которого защищены; пусть сначала пользуется мягкими мячами, пусть его первые отбойники будут из дерева, потом из кожи и, наконец, из кишечной струны, натянутой сообразно с его успехами. Вы предпочитаете волан, потому что он менее утомляет и не представляет опасности. Но вы не правы в том и другом доводе. Волан – игра женская; но нет ни одной женщины, которую не обратил бы в бегство летящий мяч. Их белая кожа не должна грубеть от синяков, и не ушибов ждут их лица. Но мы, созданные для того, чтобы быть сильными, уже не воображаем ли, что станем сильными без всякого труда? и на какую мы будем способны защиту, если никогда не будем подвергаться нападению? Игры, где без риска можно быть неловким, играются всегда вяло: падающий волап никого не ушибает; но ничто так не изощряет ловкости рук, как необходимость закрывать голову, ничто не дает такой верности глазу, как потребность защищать глаза. Бросаться с одного конца зала в другой, рассчитывать скачок мяча, пока он еще в воздухе, отбрасывать его сильной и меткой рукой – подобные игры годятся не столько для взрослого человека, сколько для того, чтобы сделать его таковым.
«Фибры ребенка,– говорят,– слишком мягки!» Они менее упруги, но зато более гибки; «рука его слаба»,– но ведь это все-таки рука; ею и нужно делать, соблюдая известную соразмерность, все, что другой делает подобным орудием. «У детей нет в руках никакой ловкости»,– поэтому-то я и хочу сделать руки ловкими: ловкости не имел бы и взрослый, если бы столь же мало упражнялся, как и дети; мы только тогда можем знать, на что годны наши органы, когда употребляли их уже в дело. Лишь долгий опыт научает нас извлекать пользу из самих себя; опыт этот и есть истинная наука, заниматься которой никогда нам не рано.
Все, что раз сделано, можно сделать. У ловких и хорошо сложенных детей часто мы встречаем такое же проворство в членах, какое может быть у взрослого. Почти на всех ярмарках можно видеть, как дети проделывают разные фокусы эквилибристики, ходят на руках, прыгают, танцуют на канате. Сколько лет детские труппы привлекали своими балетами зрителей в «Итальянскую комедию»!78 Кто не слыхал в Германии и Италии о пантомимной труппе знамени-того Николини? Замечал ли кто у этих детей движения менее развязные, позы менее грациозные, меньшую верность слуха, меньшую легкость танцев, чем у настоящих взрослых танцоров? Пусть пальцы на первых порах будут толсты, коротки, малоподвижны, пускай руки будут пухлы, мало способны крепко схватить – разве это мешает многим детям уметь писать или рисовать в том возрасте, когда другие не умеют держать карандаша или пера? Весь Париж помнит еще маленькую англичанку, которая в десять лет проделывала чудеса на клавикордах. У одного чиновника80 я видел, как его сына, восьмилетнего мальчика, ставили на стол за десертом, точно статую, менаду подносами, и он играл там на скрипке, почти одной с ним величины, удивляя своим исполнением самих артистов.
Все эти примеры и сотня тысяч других доказывают, мне кажется, что предполагаемая в детях неспособность к нашим упражнениям существует только в воображении и что если в некоторых упражнениях они не успевают, то это потому, что их никогда не упражняли.
Скажут, что я впадаю здесь по отношению к телу в ошибку, мною же указанную, что рекомендую преждевременное развитие, которое порицаю в детях по отношению к уму. Но тут очень большая разница: в одном случае успех только кажущийся, в другом – действительный. Я показал, что ума, который они, по-видимому, выказывают* у них нет, меж тем как все, что они делают как бы напоказ, они Действительно делают. Впрочем, нужно всегда помнить, что все эти упражнения должны быть только игрою, легким и добровольным направлением движений, которых требует от них природа, искусством разнообразить их забавы, чтобы сделать их более приятными для них; тут не должно быть ни малейшего принуждения, обращающего упражнения в труд. Ведь всякую, наконец, забаву можно сделать предметом поучительным для них. А если бы я не мог этого сделать, важно только, чтобы забавы были безвредны и чтобы проходило время, а успехи детей, в каком бы то ни было упражнении, не важны для настоящей минуты; меж тем если считать необходимым обучение их тому пли иному, то никогда невозможно, несмотря ни на какие приемы, достигнуть цели без принуждения. без досады и скуки.
Маленький семилетний мальчик проделывал несколько позже еще более изумительные вещи79.
Сказанное мною об этих двух чувствах, употребление которых бывает наиболее непрерывным и важным, может служить примером того, как упражнять и прочие чувства. Зрение и осязание одинаково распространяются и на тела, находящиеся в покое, и на тела движущиеся; но шум или звук производят только движущиеся тела, так как лишь сотрясение воздуха может привести в действие чувство слуха, если бы все было в покое, мы ничего не слышали бы. Поэтому ночью, когда мы движемся лишь настолько, насколько нам угодно, и когда, значит, приходится бояться лишь тех тел, которые сами движутся, ночью, повторяю, важно иметь особенно бдительный слух и по воспринимаемому ощущению уметь судить, велико или мало тело, производящее ощущение, далеко ли оно или близко, сильно ли его сотрясение или слабо. Сотрясенный воздух, встречая препятствия, отражается от них и, производя эхо, повторяет и ощущение, так что шум или звук тела слышится в другом месте, а не там, где последнее находится. Если на равнине или в долине приложить ухо к земле, то гораздо дальше услышишь голоса людей или топот коней, чем слышал бы стоя.
Подобно тому как мы сравнивали зрение с осязанием, полезно сличать его и со слухом и узнавать, которое из двух впечатлений, идущих одновременно от одного и того же тела, дойдет скорее до соответственного органа. Когда видишь пушечный огонь, можно еще укрыться от удара; но как только услышишь звук, тогда уже поздно,– ядро тут. По промежутку времени между молнией и ударом можно судить, на каком от нас расстоянии разражается гром. Сделайте так, чтобы ребенку были известны все эти опыты; пусть он сам производит те, которые ему по силам, и пусть путем индукции находит другие; но я в сто раз больше желал бы, чтобы он не знал их, если вы считаете нужным ему рассказывать о них.
У нас есть орган, соответствующий слуху,– я разумею голос; но мы не имеем подобного же органа, который соответствовал бы зрению; мы не можем «издавать» цвета, подобно звукам. Таким образом, у нас есть и еще средство для развития первого из этих чувств – мы можем упражнять активный и пассивный органы, один с помощью другого.
У человека три рода голоса, а именно: голос речи, или членораздельный, голос пения, или мелодический, и голос патетический, или выразительный, который служит языком страстей, оживляя и пение, и речь. У ребенка, как и у взрослого, есть все три рода голоса, но он не умеет подобным же образом сочетать их: у него, как и у нас, есть смех, крики, жалобы, восклицания, стоны, но он не умеет перемешивать эти изменения с двумя другими родами голоса. Совершенная музыка – та, которая наилучшим образом соединяет эти три рода голоса. Дети не способны к такой музыке, и в их пении никогда нет души. Точно так же и в области членораздельного голоса язык их невыразителен; они кричат, но не акцентируют, и как в речи их мало выразительности, так и в голосе их мало энергии. Речь нашего воспитанника будет еще ровнее, еще проще, потому что к ней не будут примешивать своего голоса страсти, еще не проснувшиеся. Не вздумайте поэтому давать ему читать вслух роли из трагедии или комедии или учить его, как говорят, «декламировать». У него будет слишком много смысла, так что он не сумеет выдержать тон в вещах, которых не может понимать, и придать выражение чувствам, которых никогда не испытывал.
Учите его говорить ровно, ясно, хорошо выговаривать, произносить точно и без аффектации, различать грамматическое и просодическое ударения и следить за ними, говорить всегда настолько громко, чтоб его слышали, но никогда не возвышать голоса больше, чем нужно, что является обычным недостатком детей, воспитанных в коллежах: во всякой вещи – ничего излишнего!
Точно так же и в пении: сделайте голос его верным, ровным, гибким, звучным, ухо – чувствительным к такту и гармонии, но ничего больше. Музыка подражательная и театральная не по его летам; я не желал бы даже, чтобы он пел со словами; если же он захотел бы этого, я постарался бы сочинить нарочно для него песенки, занимательные для его возраста и столь же простые, как и его идеи.
Понятно, что, если я так мало спешу учить его чтению письма, я еще менее буду спешить учить его чтению музыки. Оградим его мозг от всякого слишком трудного внимания и не будем торопиться пригвождать его ум к условным знакам. Это, признаюсь, представляет, по-видимому, некоторую трудность; ибо, если на первый взгляд знание нот и кажется не более необходимым для умения петь, чем знание букв для умения говорить, все-таки тут разница в том, что, говоря, мы передаем свои собственные мысли, а при пении передаем почти только чужие; а для того чтобы их передавать, нужно их читать.
Но, во-первых, вместо того чтобы читать, их можно слушать, а мелодия уху передается еще вернее, чем глазу. Далее, чтобы хорошо знать музыку, недостаточно передавать ее: нужно заниматься и композицией, и одному нужно учиться вместе с другим, а иначе не будешь никогда хорошо знать ее. Упражняйте вашего маленького музыканта прежде всего в составлении музыкальных фраз, совершенно правильных, с хорошим кадансом; затем учите связывать их простейшей модуляцией, наконец – обозначать их различные отношения правильной пунктуацией, что достигается хорошим выбором кадансов и пауз. В особенности не должно быть неестественного нения, ничего патетического, выразительного! Мелодия всегда пусть будет певучей и простой, всегда вытекающей из основных нот гаммы и всегда настолько ясно обозначающей бас, чтобы ребенок чувствовал его и без труда следил за ним при аккомпанировании; ибо, чтобы развить и голос, и ухо, он должен петь не иначе, как под клавикорды.
Чтобы, лучше оттенить звуки, их расчленяют при произношении; отсюда обычай – петь по нотам без текста, с помощью известных слогов. Чтобы различить ступени, нужно дать названия и этим ступеням и их различным, точно определенным положениям; отсюда – названия интервалов, а также обозначение буквами алфавита клавишей клавиатуры и нот гаммы. С и А означают собою звуки точно определенные, неизменные, производимые всегда одними и теми же клавишами. Ut и lа – другое дело. Ut есть постоянно тоника мажорного наклонения или медианта минорного наклонения. La есть постоянно тоника минорного наклонения или шестая нота мажорного наклонения. Таким образом, буквы отмечают неизменные пункты в отношениях нашей музыкальной системы, а слоги – соответственные пункты подобных отношений в различных гаммах. Буквами обозначаются клавиши клавиатуры, а слогами – ступени наклонения. Французские музыканты странным образом перепутали эти различия; они смешали смысл слогов со смыслом букв и, бесполезно удвоив число знаков для клавиш, не оставили знаков для обозначения нот гаммы, так что у них ut и С всегда одно и то же, что неверно и чего не должно быть, ибо тогда для чего же служило бы С. Да и способ их петь гаммы крайне труден и в то же время не приносит никакой пользы, не давая уму никакой ясной идеи, так как по этой методе слоги, например, ut и mi могут оба одинаково обозначать терцию мажорную и минорную, увеличенную или уменьшенную. По какому-то странному злополучию, где написаны самые прекрасные книги о музыке, в той же самой стране и труднее всего научиться ей.
Будем держаться с нашим воспитанником методы более простой и ясной; пусть для него существуют только два наклонения, отношения которых всегда были бы одни и те же и всегда обозначались бы одними и теми же слогами. Поет ли он или играет на инструменте, пусть он умеет развить наклонение из каждого из двенадцати тонов, которые могут служить ему базисом, и, модулирует ли он в D, в С, в G и т. д., финалом пусть будет всегда 1а или ut, смотря по накло-нению. При таком способе он всегда вас поймет; существенные для правильного пения и игры отношения наклонений всегда будут ясно представляться его уму, исполнение будет чище, и успех быстрее. Нет ничего смешнее того, что французы называют «естественным» сольфеджированием – au naturel: это значит отделять идеи от вещи, чтобы заменить их идеями чуждыми, которые ведут только к пута– нице. Нет ничего естественнее, как сольфеджировать с транспортивкою, когда начальный тон транспортирован. Но я уже слишком много говорю о музыке81: учите ее, как хотите, лишь бы она всегда оставалась только забавой.
Вот мы хорошо ознакомились с положением посторонних тел по отношению к нашему телу, с их весом, фигурой, цветом, с их твердостью, величиной, расстоянием, с температурой, покоем, движением. Мы узнали, какие из них следует приближать и какие удалять от себя, узнали способ побеждать их сопротивление или противопоставлять ему таковое же, которое предохраняло бы нас от вреда; но этого недостаточно: наше собственное тело беспрерывно истощается, оно нуждается в беспрестанном обновлении. Хотя мы имеем способность превращать другие вещества в наше собственное вещество, но и выбор не пустое дело: не все бывает пищей для человека, и из веществ, могущих ею быть, есть более и менее годные, смотря по сложению его породы, смотря по климату, в котором он живет, смотря по его личному темпераменту и по образу жизни, предписываемому ему положением в свете.
Мы умерли бы с голоду или отравились бы, если бы для выбора пищи, годной для нас, пришлось ждать, пока опыт научит нас раз-узнавать ее и выбирать; но Верховная Благодать, сделавшая из удовольствия существ чувствующих – орудие их сохранения, по тому, что приятно вкусу нашему, извещает нас о том, что годится желудку нашему. С точки зрения природы, нет для человека более надежного врача, чем его собственный аппетит; и если взять его в первобытном состоянии, то для меня несомненно, что тогда пища, которую он находил наиболее приятной, была для него вместе с тем самою здоровою.
Даже больше. Создатель печется не только о тех потребностях, которыми он нас наделил, но и о тех, которыми мы сами себя наделяем; и чтобы желание стояло всегда рядом с потребностью, он так устроил, что наши вкусы меняются и искажаются вместе с образом жизни. Чем более мы удаляемся от естественного состояния, тем больше теряем свои естественные вкусы, или, скорее, привычка создает в нас вторую природу, которою мы так хорошо замещаем первую, что никто между нами уже не знает этой первой.
Отсюда следует, что самые естественные вкусы должны быть и самыми простыми, ибо они именно легче всего видоизменяются, тогда как вкусы, изощренные и раздраженные нашими прихотями, получают такую форму, которая уже не меняется. Человек, не принадлежащий еще ни к какой стране, без труда применится к обычаям какой угодно страны; но человек одной страны не делается уже человеком другой.
Это мне кажется справедливым относительно всех чувств, и особенно справедливо в применении к чувству вкуса. Наша первая пища – молоко; мы лишь постепенно привыкаем к острым вкусам; сначала они нам противны. Плоды, овощи, травы и, наконец, некоторые сорта жареного мяса, без приправы и без соли, составляли пиршество первых людей. Когда дикарь в первый раз пьет вино, он делает гримасу и выплевывает его; и даже среди нас, кто прожил лет по двадцати, не испробовав крепких напитков, тот не может уже привыкнуть к ним; мы все были бы непьющими, если бы нам не давали вина в молодые наши годы. Наконец, чем проще наши вкусы, тем они терпимее ко всему: отвращение обыкновенное всего возбуждается блюдами сложными; видано ли, чтобы кто-нибудь потерял вкус к воде или хлебу? Вот путь природы; вот, значит, правило и для нас. Станем как можно дольше сохранять у ребенка его первоначальный вкус; пусть пища у него будет обыкновенная и простая, пусть нёбо его приучается лишь к вкусам, не слишком острым, и пусть не развивается у него вкусов исключительных.
См. «Аркадию» Павсания82, а также отрывок из Плутарха, приведенный ниже.
Я не задаюсь здесь вопросом, здоров этот образ жизни или нет; я смотрю на дело не с этой точки зрения. Чтобы предпочесть его, для меня достаточно знать, что он наиболее сообразен с природой и легче всего может применяться к всякому другому. Кто говорит, что детей нужно приучать к такой пище, которую они будут употреблять, ставши взрослыми, тот, мне кажется, рассуждает неправильно. Почему же пища должна быть тою же самою, меж тем как образ жизни их столь различен? Взрослый человек, истощенный трудом, заботами, горем, нуждается в пище сочной, которая приносила бы жизненные силы83 его мозгу; ребенок, который только что резвился и тело которого растет, нуждается в пище обильной, которая давала бы ему много млечного сока. Кроме того, у взрослого есть уже свое положение, должность, жилище; по кто может быть уверен в том, что судьба готовит ребенку? Не будем давать ему, ни в одном отношении, такой определенной формы, которую, в случае нужды, слишком трудно было бы изменить. Не станем доводить его до того, чтоб он умер с голоду в других странах, если не станет всюду таскать за собою французского повара, или чтобы он говорил со временем, что только во Франции умеют есть. Вот – говоря мимоходом – забавная похвала! Что касается меня, то, напротив, я сказал бы, что именно французы и не умеют есть, раз требуется такое топкое искусство, чтобы делать блюда их съедобными.
Между различными нашими ощущениями вкус дают те, которые, говоря вообще, наиболее для нас чувствительны. Да и важнее для нас скорее правильно судить о веществах, которые должны составлять часть нашего существа, чем о тех, которые только окружают его. Тысяча вещей безразличны для осязания, слуха, зрения; но нет почти ничего безразличного для вкуса. Кроме того, деятельность этого чувства – совершенно физическая и материальная: оно одно ничего не говорит воображению – по крайней мере в ощущениях его меньше всего участвует воображение, тогда как ко впечатлению всех других чувств подражание и воображение часто примешивают и долю нравственного. Да и, вообще говоря, сердца нежные и сладострастные, характеры пылкие и поистине чувствительные, легко волнуемые другими чувствами, к этому чувству почти равнодушны. Но из этого самого факта, ставящего вкус ниже других чувств и делающего стремление угождать ему более презренным, я, напротив, вывел бы заключение, что самое подходящее средство управлять детьми – это руководить ими посредством их чрева. Стимул чревоугодия предпочтительнее стимула тщеславия, особенно тем, что первое есть позыв природы, непосредственно вытекающий из чувства, а второе – результат людского мнения, подверженный людским прихотям и всякого рода злоупотреблениям. Чревоугодие – страсть детства; эта страсть не может устоять ни перед какою другою; при малейшей конкуренции она исчезает. Да, поверьте мне, ребенок даже слишком скоро перестает думать о том, что есть, и, когда сердце его будет слишком занято, его не станет почти занимать нёбо. Когда он будет взрослым, тысяча стремительных чувствований придут на смену чревоугодию и то и дело будут раздражать его тщеславие; ибо одна только страсть живет на счет других и в конце концов все их поглощает. Я не раз наблюдал людей, которые придавали большое значение вкусным кускам, которые, просыпаясь, мечтали о том, что будут есть в течение дня, и обеды описывали с большею точностью, чем Полибий84 описывал битву; я нашел, что все эти мнимые взрослые были лишь сорокалетними детьми, лишенными крепости и устойчивости – fruges consumere nati85. Чревоугодие – порок сердец, лишенных содержания. Душа обжоры – вся в его нёбе, он создан лишь для того, чтобы есть; при своей тупой неспособности он лишь за столом – насвоем месте, лишь о блюдах он умеет судить: оставим ему эту роль без сожалений; для нас, как и для него, лучше, чтоб он выполнял именно эту роль, а не другую.
Опасение, чтобы чревоугодие не укоренилось в ребенке, способном на кое-что и хорошее, есть опасение мелкого ума. В детстве мы только и думаем, чтобы поесть; в юности мы уже не думаем об этом: нам все вкусно, у нас много и других дел. Впрочем, я не желал бы, чтобы средство, столь низкое, употребляли неумеренно и чтобы честь совершить доброе дело поддерживали вкусным куском. Но раз все детство проходит или должно проходить лишь в играх и резвых забавах, я не вижу, почему бы упражнениям чисто телесным не получать награды материальной и осязаемой. Если маленький житель Майорки, видя корзину на вершине дерева, сбивает ее с помощью своей пращи, то разве не справедливо, что он пользуется ею и что вкусный завтрак восстанавливает силы, потраченные на добывание его? Если молодой спартанец, подвергаясь риску получить сотню ударов розог, ловко проскользнет в кухню, украдет там живую лисицу и, унося ее под своим платьем, будет исцарапан и искусан ею в кровь; если, из-за стыда быть пойманным, ребенок допустит истерзать себе внутренности, не поморщившись и не испустив ни одного крика, то не будет ли справедливым, чтоб он воспользовался, наконец, своею добычей и съел ее, после того как она изъела его?86 Хороший обед никогда не должен быть вознаграждением; но почему бы ему не быть иной раз последствием забот, употребленных на его добывание? Эмиль на пирог, положенный мною на камне, не смотрит как на награду за быстрый бег; он только знает, что единственное средство получить этот пирог – это добежать до него скорее другого.
Уже много веков тому назад жители Майорки утратили это искусство; это было в эпоху, когда их пращники пользовались громкой славой.
Это не противоречит только что изложенным мною правилам относительно простоты блюд: ибо, чтобы польстить детскому аппетиту, приходится не возбуждать чувствительность детей, но только удовлетворять ее, а это достигается самыми обыкновенными в мире вещами, если только не стараются утончить вкус детей. Их постоянный аппетит, возбуждаемый необходимостью расти, есть верная приправа, заменяющая для них множество других. Плоды, какое-нибудь печенье, несколько более нежное, чем обыкновенный хлеб а главное – искусство наделять всем этим умеренно – вот средство вести армии детей хоть на край света, не возбуждая в них потребности в острых вкусах и не рискуя притупить чувствительность их нёба.
Одним из доказательств, что вкус к мясу неестествен в человеке, служит равнодушие детей к этим блюдам и предпочтение, которое все они оказывают растительной пище, как-то: молочному, мучному, плодам и пр. Особенно важно не искажать этого первоначального вкуса и не делать детей плотоядными, если не в видах здоровья, то в видах характера их; ибо каким бы образом ни объясняли опыта, но несомненно, что великие любители мяса в общем более жестоки и люты, чем другие люди: это наблюдение относится ко всем местностям и всем временам. Известно английское варварство; гавры, напротив, самые кроткие из людей**. Все дикари жестоки, но не нравы их ведут к этому: жестокость эта порождается их пищею. На войну они идут, как па охоту, и с людьми обходятся, как с медведями. В Англии мясники но принимаются даже в свидетели***, равно как и хирурги. Великие злодеи закаляют себя на убийства, напиваясь кровью. Циклопов, поедающих мясо, Гомер изображает ужасными людьми, а лотофагов – столь любезным народом, что, кто раз испытал их обращение, тот забывал даже свою страну, лишь бы жить с ними89.
Я знаю, что англичане очень хвалятся своей человечностью и добрым природным нравом своей нации, которую они называют good natured people87. Но сколько бы они ни кричали это, никто им не вторит.
* Баниане, которые воздерживаются от всякого мяса строже, чем гавры, почти так же кротки, как и последние88; но так как нравственность их менее чиста и культ менее разумен, то они не так честны.
*** Один из английских переводчиков этой книги; отметил здесь мой промах и то и другое исправил. Мясники и хирурги принимаются в свидетели; но первые не допускаются в присяжные (суд равных) по делам о преступлениях; а хирурги допускаются.
«Ты меня спрашиваешь,– говорил Плутарх90,– почему Пифагор91 воздерживался есть мясо животных; я же, напротив, спрашиваю у тебя, какое человеческое мужество должен был иметь первый, кто поднес к устам своим растерзанное мясо, кто разгрыз своими зубами кости испускающего дух зверя, кто велел подать себе мертвые тела – трупы и поглотил своим желудком члены, которые, минуту назад, блеяли, мычали, ходили и видели. Как рука его могла вонзить железо в сердце существа чувствующего? Как взоры его могли вынести смертоубийство? Каким образом мог он смотреть, как выпускают кровь, сдирают кожу, расчленяют бедное, беззащитное животное? Как мог он выносить вид трепещущего мяса? Как запах его не перевернул в нем сердце? Как он не брезговал, как не почувствовал отвращения, как не был охвачен ужасом, когда ему пришлось брать в руки нечистоты этих ран, очищать черную и запекшуюся кровь, их покрывающую?