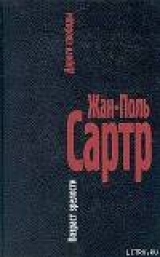
Текст книги "Дороги свободы. I.Возраст зрелости"
Автор книги: Жан-Поль Шарль Эмар Сартр
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Матье молча смотрел на нее, она продолжала:
– Может, я и ошибаюсь... Но я могу вас представить читающим лекцию американским студентам в одном из университетов, а не на палубе парохода среди других эмигрантов. Наверно, потому, что вы француз.
– Вы считаете, что мне нужна каюта «люкс»? – спросил он, краснея.
– Нет, – коротко ответила Ивиш, – второго класса. Он с некоторым усилием проглотил слюну... «Хотел бы я на нее посмотреть на палубе парохода среди эмигрантов, она бы там в два счета подохла».
– Право же, – заключил он, – по-моему, странно, что вы решили, будто я не смогу уехать. Но вы ошибаетесь, когда-то я частенько об этом подумывал. Потом прошло, уж слишком глупо. Все это тем более комично, что пришло вам на ум в связи с Гогеном, который до сорока лет оставался канцелярской крысой.
Ивиш разразилась ироническим смехом.
– Разве не правда? – спросил Матье.
– Раз вы так говорите, то правда. Но достаточно посмотреть на его картины...
– Ну и что?
– Полагаю, что таких канцелярских крыс немного. У него такой... потерянный вид.
Матье представил себе тяжелое лицо с огромным подбородком. Гоген потерял человеческое достоинство, он смирился с его потерей.
– Вы правы, – сказал Матье. – Вы имеете в виду – на том большом полотне в глубине зала? Он в это время был тяжко болен.
Ивиш презрительно усмехнулась.
– Нет, я говорю о маленьком автопортрете, на котором он еще молод: у него вид человека, способного на все что угодно.
Она смотрела в пустоту со слегка растерянным видом, и Матье во второй раз почувствовал укол ревности.
– Если я вас правильно понял, меня вы не считаете потерянным человеком?
– Да нет же!
– Не вижу, однако, почему это достойное качество, – сказал он, – или я не вполне вас понимаю.
– Ладно, не будем об этом.
– Хорошо, не будем. Но вы любите завуалированно упрекать меня, а потом отказываетесь объяснить, в чем суть ваших упреков, – вы хорошо устроились.
– Я никого не упрекаю, – равнодушно сказала она. Матье остановился и поглядел на нее. Ивиш недовольно остановилась. Она переступала с ноги на ногу и избегала его глаз.
– Ивиш! Вы мне сейчас же скажете, что вы имели в виду.
– О чем вы?
– О «потерянном человеке».
– Мы, кажется, закрыли эту тему?
– Пусть это глупо, – настаивал Матье, – но я хочу знать, что вы под этим подразумеваете.
Ивиш затеребила волосы: это приводило ее в отчаяние.
– Но я не подразумевала ничего особенного, просто это слово пришло мне на ум.
Она остановилась и как будто призадумалась. Время от времени она открывала рот, и Матье думал, что она сейчас заговорит, но она молчала. Потом все же проговорила:
– Мне безразлично, такой человек или какой-то другой.
Ивиш обернула локон вокруг пальца и дернула, как бы желая вырвать его с корнем. И вдруг быстро добавила, уставившись на носки своих туфель:
– Вы недурно устроены и ничем не поступитесь даже за все золото мира.
– Вот оно что! – воскликнул Матье. – А что вы об этом знаете?
– Таково мое впечатление: ваша жизнь определилась, и ваши идеи тоже. Вы протягиваете руку к вещам, если считаете, что они в пределах вашей досягаемости, но с места не сдвинетесь, чтобы взять их.
– Что вы об этом знаете? – повторил Матье. Он не находил ничего другого: он считал, что она права.
– По-моему, – устало сказала Ивиш, – вы не хотите ничем рисковать, вы для этого слишком умны. – Она фальшиво добавила: – Но раз вы полагаете, что вы другой...
Матье внезапно подумал о Марсель, и ему стало стыдно.
– Нет, – сказал он тихо, – я такой, как вы думаете.
– Ага! – победно вскричала Ивиш.
– Вы... вы находите это достойным презрения?
– Наоборот, – снисходительно уронила Ивиш. – Я считаю, что так лучше. С Гогеном жизнь была бы невозможной.
Она добавила без малейшей иронии:
– С вами чувствуешь себя в безопасности, никогда не боишься непредвиденного.
– Действительно, – сухо сказал Матье. – Если вы хотите сказать, что я не позволю себе никаких фокусов... Знаете, я способен на них не меньше других, но считаю это отвратительным.
– Знаю, все, что вы делаете, всегда так... методично...
Матье почувствовал, что бледнеет.
– Что вы имеете в виду?
– Все, – неопределенно сказала Ивиш.
– Нет, вы имеете в виду что-то конкретное. Она пробормотала, не глядя на него:
– Раз в неделю вы являетесь с выпуском «Смен а Пари» и составляете недельный план...
– Ивиш, – возмутился Матье, – это же для вас!
– Знаю, – вежливо отпарировала Ивиш, – я вам очень признательна.
Матье был больше удивлен, чем обижен.
– Не понимаю, Ивиш. Разве вы не любите слушать концерты, ходить на выставки?
– Люблю.
– Как вяло вы это говорите.
– Нет, правда, люблю... Но я терпеть не могу, – до бавила она с внезапной страстью, – когда мою любовь превращают в обязанность.
– Вот оно что!.. Значит, на самом деле ничего вы не любите, – взорвался Матье.
Ивиш подняла голову, откинула волосы назад, ее широкое бледное лицо открылось, глаза заблестели. Матье был ошеломлен: он смотрел на тонкие и безвольные губы Ивиш и не мог понять, как он смог их поцеловать.
– Будь вы со мной откровенны, – жалобно заключил он, – я бы вас никогда не принуждал.
Он водил ее на концерты, выставки, рассказывал о картинах, а в это время она его ненавидела.
– Что мне до этих картин, – сказала она, не слушая его, – если я не могу их взять себе. Каждый раз я лопаюсь от бешенства и желания их унести, но к ним нельзя даже притронуться. А рядом вы, такой спокойный и почтительный, как будто пришли на мессу.
Они замолчали. Ивиш хмурилась. У Матье внезапно сжалось сердце.
– Ивиш, прошу вас, простите меня за то, что случилось утром.
– Утром? – удивилась Ивиш. – Но я об этом и не вспоминала. Я думала о Гогене.
– Это больше не повторится, – сказал Матье, – сам не знаю, как это произошло.
Он говорил для очистки совести: он понимал, что дело его проиграно. Ивиш не отвечала, и Матье с усилием продолжал:
– А еще эти музеи и концерты... Если бы вы знали, как я сожалею! Я поневоле заблуждался... Но вы никогда ничего не говорили.
Он никак не мог остановиться. Что-то внутри двигало его языком, заставляло его говорить, говорить. Говорил он с отвращением к себе, с легкими спазмами.
– Я постараюсь измениться.
«Как я отвратителен», – подумал он. Ярость воспламенила его щеки. Ивиш покачала головой.
– Изменить себя нельзя, – сказала она. Ее слова звучали рассудительно. В эту минуту Матье искренне ее ненавидел. Они шли молча, бок о бок, они были залиты светом и ненавидели друг друга. Но в то же время Матье видел себя глазами Ивиш и ужасался самому себе. Она поднесла руки ко лбу, сжала виски пальцами.
– Еще далеко?
– Четверть часа. Вы устали?
– Еще как. Извините, это из-за картин. – Она топнула ножкой и потерянно посмотрела на Матье. – Полотна уже ускользают от меня, расплываются, перемешиваются. Каждый раз одно и то же.
– Вы хотите вернуться домой? – спросил Матье с чувством, близким к облегчению.
– Думаю, что так будет лучше.
Матье подозвал такси. Теперь он торопился остаться один.
– До свиданья, – сказала Ивиш, не глядя на него.
Матье подумал: «А «Суматра»? Идти мне туда потом или нет?»
Но ему больше не хотелось видеть ее.
Такси отъехало, несколько мгновений Матье с волнением провожал его глазами. Затем в нем опустился какой-то шлюз, и он стал думать о Марсель.
VII
Голый по пояс Даниель брился перед зеркальным шкафом. «Сегодня к полудню все будет кончено». Это был непростой план: событие было уже здесь, в электрическом свете, в легком скрежетание бритвы; его нельзя было ни отсрочить, ни приблизить, ни сделать так, чтобы все побыстрее закончилось, все это нужно просто прожить. Едва пробило десять часов, но полдень уже присутствовал в комнате, круглый и пристальный, как глаз. Следом за ним было всего лишь расплывчатое послеполуденное время, извивающееся, словно червяк. Глаза у Даниеля болели, так как он не выспался, под губой у него был прыщ, совсем маленькое покраснение с белой головкой: теперь так случалось каждый раз после того, как он напивался. Даниель прислушался: нет, это шум на улице. Он посмотрел на прыщ, красный и воспаленный, вокруг глаз были голубоватые полукружья, и подумал: «Я себя разрушаю». Он старался осторожно водить бритвой вокруг прыща, чтобы не задеть его; останется маленький пучок щетины, ну и пусть: Даниель страшно боялся порезов. Время от времени он прислушивался; дверь комнаты была приоткрыта, чтоб он мог лучше слышать, он говорил себе: «Теперь-то я ее не прозеваю».
Почуяв еле слышный, почти неуловимый шорох, Даниель подскочил к порогу с бритвой в руке и резко открыл входную дверь. Но было уже поздно, девчонка его опередила: она удрала и, видимо, затаилась с колотящимся сердцем, сдерживая дыхание, где-нибудь в углу лестничной площадки. Даниель увидел на соломенном коврике подле ног букетик гвоздик. «Поганая сучка», – громко сказал он. Это дочь консьержки, он был в этом уверен. Достаточно посмотреть на ее глаза жареной рыбы, когда она с ним здоровалась. Это безобразие длилось уже две недели; каждый день, возвращаясь из школы, она клала цветы у двери Даниеля. Пинком он отшвырнул цветы в лестничный пролет. «Нужно быть начеку, в прихожей, только так я ее поймаю». Он появится голый по пояс и испепелит ее суровым взглядом. Он подумал: «Она любит мое лицо. Мое лицо и плечи, видимо, я подхожу под ее идеал. Для нее будет ударом, когда она увидит мою волосатую грудь». Он вернулся в комнату и возобновил бритье. В зеркале он видел мрачное и благородное лицо с голубоватыми щеками; он подумал с некоторой досадой: «Именно это их возбуждает». Лицо архангела; Марсель называла его своим бесценным архангелом, а теперь приходится терпеть еще и взгляды этой маленькой потаскушки, распираемой гормонами. «Шлюхи!» – с раздражением подумал он. Даниель слегка нагнулся и ловким движением бритвы срезал прыщ. Неплохая шутка – изуродовать лицо, которое они так любят. «Но куда там! Лицо со шрамом остается тем же лицом, оно всегда что-то означает: от этого я еще быстрее устану». Он приблизился к зеркалу и недовольно посмотрелся в него; он сказал себе: «И все-таки мне нравится быть красивым». Вид у него был утомленный. Он ущипнул себя за бедра: «Нужно бы сбросить килограммчик». Семь порций виски выпиты вчера вечером в одиночестве в «Джонни». До трех часов ночи он никак не мог вернуться домой, потому что ему было страшно положить голову на подушку и почувствовать, как проваливаешься в темноту с мыслью, что наступит завтра. Даниель подумал о собаках из Константинополя: за ними гонялись по улицам и бросали в мешки, засовывали в корзины, а потом свозили на пустынный остров, где они друг друга пожирали; ветер в открытом море доносил иногда их завыванье до моряков: «Не собак бы нужно было там оставлять». Даниель не любил собак. Он надел кремовую рубашку и серые фланелевые брюки, тщательно выбрал галстук: сегодня это будет зеленый в полоску, поскольку у него был скверный цвет лица. Затем он открыл окно, и утро вошло в комнату, тяжелое, удушливое и предопределенное. Секунду Даниель помедлил в стоячей жаре, потом осмотрелся: он любил свою комнату, потому что она была безликой и не выдавала его, она казалась гостиничным номером. Четыре голых стены, два кресла, стул, шкаф, кровать. У Даниеля не было памятных вещиц. Он увидел большую ивовую корзинку, стоявшую открытой посреди комнаты, и отвернулся: она приготовлена для сегодняшнего дня.
Часы Даниеля показывали двадцать пять минут одиннадцатого. Он приоткрыл дверь кухни и свистнул. Сципион появился первым: белый с рыжими подпалинами и куцей бородкой. Он строго посмотрел на Даниеля и кровожадно зевнул, выгнув спину дугой. Даниель тихо стал на колени и начал ласково гладить его мордочку. Кот, полузакрыв глаза, легко бил его лапкой по рукаву. Немного погодя Даниель взял его за загривок и посадил в корзину; Сципион остался там, не двигаясь, расплющенный и безмятежный. Затем пришла Малявина; Даниель любил ее меньше двух других, поскольку она была раболепной притворщицей. Когда она была уверена, что он ее видит, то издалека начинала мурлыкать и умилительно изгибаться: она терлась головой о створку двери. Даниель коснулся пальцем ее толстой шеи, и она перевернулась на спину, вытянув лапки; он щекотал ее соски под черной шерсткой. «Ха, ха, – произнес он певуче и размеренно, – ха, ха!», а она переворачивалась с боку на бок, грациозно поводя головой. «Подожди немного, – подумал он, – подожди только до полудня». Он поймал ее за лапы и положил рядом со Сципионом. У Мальвины был немного удивленный вид, но она свернулась в клубок и, поразмыслив, принялась мурлыкать.
– Поппея! – позвал Даниель. – Поппея, Поппея!
Поппея почти никогда не откликалась на зов; Даниель вынужден был пойти за ней на кухню. Едва она его увидела, как с яростным рычанием прыгнула на газовую плитку. Поппея была полудикой кошкой с большим шрамом, пересекавшим левый бок. Даниель нашел ее зимним вечером в Люксембургском саду незадолго до его закрытия и унес к себе. Она была злая, властная и часто кусала Мальвину: Даниель любил ее. Он взял ее на руки, она откинула голову назад, прижав уши и вздыбив загривок: вид у нее был возмущенный. Он погладил ее по мордочке, и она стала покусывать кончик его пальца, злясь и забавляясь; тогда он ущипнул ее за шею, и она подняла упрямую голову. Она не мурлыкала – Поппея никогда не мурлыкала, – но смотрела ему прямо в лицо, и Даниель по привычке подумал: «Редко, чтобы кошка смотрела прямо в глаза». В то же самое время он почувствовал, как невыносимая тревога охватила его, и ему пришлось отвести взгляд. «Сюда, сюда, – сказал он, – сюда, моя королева!» – и улыбнулся, не глядя на нее. Двое других лежали бок о бок ошалелые и мурлыкающие, можно было подумать, что это пение цикад. Даниель смотрел на них со злорадным облегчением: «Фрикассе из кролика». Он думал о розовых сосцах Мальвины. Но засунуть Поппею в корзину было не так-то просто: он вынужден был заталкивать ее за задние лапы, она обернулась и, зашипев, царапнула его. «Ах, так!» – сказал Даниель. Он схватил ее за шкирку и за крестец и насильно согнул, ивовые прутья заскрипели под когтями Поппеи. Кошка на мгновение оцепенела, и Даниель воспользовался этим: он быстро захлопнул крышку и запер ее на два висячих замка. «Уф!» – произнес он. Руку немного жгла сухая слабая боль, почти щекотанье. Он встал и с ироническим удовлетворением посмотрел на корзину. «Попались!» На тыльной стороне ладони было три царапины, а внутри его самого – тоже какое-то щекотанье; странное щекотанье, которое могло плохо кончиться. Даниель взял на столе моток шпагата и положил его в карман брюк.
Он замешкался. «Предстоит длинный путь; мне будет жарко». Ему хотелось надеть фланелевый пиджак, но он не привык легко уступать своим желаниям, и потом было бы комично идти на солнцепеке красному и потному, с этой ношей в руках. Комично и немного курьезно: у него это вызвало улыбку, и он выбрал ярко-фиолетовую твидовую куртку, которую после конца мая терпеть не мог. Он поднял корзину за ручку и подумал: «Какие тяжелые, чертовы бестии». Он представлял их униженные нелепые позы, их дикий ужас. «Так вот кого я любил!» Достаточно было закрыть этих трех идолов в ивовой клетке, и они превратились в кошек, просто кошек, маленьких млекопитающих, туповатых и суетливых, подыхающих со страха и уж совсем не священных. «Кошки – это всего-навсего кошки». Он засмеялся: ему казалось, что он с кем-то валяет дурака. Когда Даниель дошел до входной двери, подступила тошнота, но это продолжалось недолго: на лестнице он почувствовал себя суровым и полным решимости, ощущая странный привкус – как у пресного сырого мяса. Консьержка стояла у порога своей двери; она улыбнулась ему. Ей нравился Даниель, такой галантный и церемонный.
– Вы ранняя пташка, месье Серено.
– А я уж боялся, что вы захворали, дорогая мадам Дюпюи, – вежливо молвил Даниель. – Вчера я вернулся поздно и заметил свет у вас под дверью.
– Представляете себе, – смеясь, сказала консьержка, – я так устала, что уснула, не погасив света. Вдруг я услышала ваш звонок. «Ага, – сказала я, – вот пришел месье Серено» (дома не было только вас). Потом я сразу потушила свет. Было, наверное, около трех?
– Около...
– Я смотрю, – сказала она, – у вас большая корзина.
– Там мои кошки.
– Они больны, бедненькие зверушки?
– Нет, я увижу из к сестре в Медон. Ветеринар сказал, что им нужен свежий воздух. Он серьезно добавил:
– Вы знаете, что кошки могут болеть туберкулезом?
– Туберкулезом? – удивилась консьержка. – Тогда заботьтесь о них хорошенько. И все-таки, – добавила она, – у вас без них опустеет. Я привыкла видеть этих милашек, когда прибираюсь у вас. Вы, наверное, огорчены.
– Да, очень огорчен, мадам Дюпюи, – сказал Даниель.
Он многозначительно улыбнулся ей и пустился в путь. «Старая каракатица, она себя выдала. Должно быть, она теребила их, когда меня не было, хотя я и запретил ей их трогать; лучше бы следила за своей дочерью». Он вышел из подъезда, и его ослепил свет, свет обжигающий и резкий. От него у Даниеля заболели глаза, он это предвидел: когда накануне напьешься, нет ничего лучше туманного утра. Он больше ничего не видел, он плыл в море света с железным обручем вокруг головы. Вдруг он заметил свою тень, приземистую и причудливую, а рядом с нею – тень корзинки, раскачивавшейся у него в руке. Даниель улыбнулся: он был очень высок. Он выпрямился во весь рост, но тень осталась куцей и бесформенной, похожей на шимпанзе. «Доктор Джекил и мистер Хайд. Нет, не на такси, – сказал себе он, – у меня еще есть время. Я прогуляю мистера Хайда до остановки семьдесят второго». Семьдесят второй довезет его до Шарантона. В километре оттуда Даниель знал маленький уединенный уголок на берегу Сены. «Надеюсь, – сказал он себе, – я не брякнусь в обморок, этого еще не хватало». Вода Сены была особенно темной и грязной в этом месте, с лиловыми маслянистыми пятнами от заводов Витри. Даниель взирал на себя с отвращением: он чувствовал себя таким мягким изнутри, что сам удивлялся. «Се человек», – с неким удовольствием подумал он. Он отвердел, ощетинился, но в глубине будто какой-то приговоренный жалобно взывает о пощаде. «Забавно, когда ненавидишь себя, будто бы это не ты». Напрасно он тщился быть одним неразлагаемым Даниелем. Когда он презирал себя, ему казалось, что, отделившись от самого себя, он парит, как бесстрастный судья, над каким-то порочным кишением, а потом вдруг его всасывает снизу, и он попадает в водоворот, в собственную ловушку. «Проклятье, – подумал он, – мне необходимо выпить». Нужно только сделать небольшой крюк, он пойдет к Шампьоне по улице Тайдус. Когда он толкнул дверь, бар был пуст. Официант вытирал столы из рыжего дерева, сделанные в форме бочек. Полумрак был благотворен для глаз Даниеля. «Чертовски болит голова», – подумал он. Поставив корзину на пол, он сел на табурет возле стойки.
– Крепкого виски, разумеется, – утвердительно сказал бармен.
– Нет, – сухо ответил Даниель.
«Пошли бы они к черту со своей манией каталогизировать людей, будто это зонтики или швейные машины. Ведь я ничто... и все всегда – ничто. А на тебя мигом навешивают ярлык. Этот хорошо дает на чай, у того всегда наготове острота, а мне нужен только крепкий виски».
– Джин-фиц, – заказал Даниель.
Бармен налил без комментариев: должно быть, он был задет. «Тем лучше. Ноги моей больше тут не будет, уж слишком этот тип фамильярен».
Однако джин-фиц имел вкус слабительного лимонада. Он распылялся кисловатой пылью по языку и имел металлический привкус.
«Это на меня не действует», – подумал Даниель.
– Дайте порцию перечной водки.
Он выпил водку и мечтательно задумался, во рту горело. Он подумал: «Неужели это никогда не кончится?» Но эти мысли были тщетными, как неоплаченный чек. «А что никогда не кончится? Что никогда не кончится?» Послышалось отрывистое мяуканье и царапанье. Бармен вздрогнул.
– Это кошки, – коротко сказал Даниель. Он сошел с табурета, бросил на стол двадцать франков и взял корзину. Подняв ее, он обнаружил на полу красную капельку: кровь. «Что они там вытворяют?» – с тревогой подумал Даниель, но не стал поднимать крышку. В корзине затаился тяжелый и невнятный ужас: если он ее откроет, ужас мгновенно превратится в кошек, а этого Даниель не смог бы вынести. «А, ты не смог бы этого вынести? А если я все же подниму эту крышку?» Но Даниель был уже на улице, ему сразу же залепило глаза чем-то ярким и влажным: глаза чесались, казалось, что смотришь на огонь, а потом вдруг понимаешь, что уже с минуту видишь дома, дома в ста шагах от тебя, белесые и легкие, как дым: в конце улицы высилась голубая стена. «Как страшно все это видеть», – подумал Даниель. Таким он представлял себе ад: взгляд, пронзающий насквозь, видишь все до края пространства, видишь себя самого до последних глубин. Корзина зашевелилась: внутри что-то царапалось. Он ощущал так близко этот ужас, он чувствовал его рядом со своими пальцами. Даниель не знал точно, доставляет ли ему это отвращение или удовольствие: скорее всего и то и другое. «И все-таки что-то их успокаивает. Вероятно, они чувствуют мой запах». Даниель подумал: «Действительно, сейчас я для них только запах». Но терпение: скоро у него не будет этого привычного запаха, он будет прогуливаться без запаха, один среди людей, не имеющих достаточно тонкого обоняния, чтобы обнаружить человека по запаху. Быть без запаха и без тени, без прошлого, быть всего лишь порывом от себя самого, невидимым порывом к будущему. Даниель заметил, что тень его движется впереди, в нескольких шагах от его тела. Там, на уровне газового рожка, немного прихрамывающая от ноши, неестественная, взмыленная – он видел, как он идет, он был лишь собственным взглядом. Но стекло красильни отразило его образ, и иллюзия рассеялась. Даниель как бы наполнился илистой и пресной водой; вода Сены, илистая и пресная, заполнит корзину, и они будут раздирать друг друга когтями. Его охватило отвращение, он подумал: «Это беспричинный поступок». Он остановился, поставил корзину на землю: «Скучать, причинять зло другим. Никогда нельзя добраться до себя впрямую». Он снова подумал о Константинополе: неверных жен зашивали в мешок вместе со взбесившимися кошками и бросали в Босфор. Бочки, кожаные мешки, ивовые клетки – тюрьмы. «Бывает и похуже». Даниель пожал плечами: еще один неоплаченный чек. Он не хотел трагических жестов, когда-то этого у него было вдосталь. Если совершаешь нечто трагическое, значит, воспринимаешь себя всерьез. Никогда, никогда больше Даниель не будет воспринимать себя всерьез. Вдруг появился автобус. Даниель подал знак водителю и вошел в первый класс.
– Сколько до конечной?
– Шесть талонов, – ответил кондуктор. От воды Сены они взбесятся. Вода цвета кофе с молоком с фиолетовыми отблесками. Напротив него села бесстрастная чопорная женщина с маленькой девочкой. Девочка с любопытством посмотрела на корзину. «Чертова соплюшка», – подумал Даниель. Корзина замяукала, и Даниель вздрогнул, как будто его застали на месте преступления.
– Что это? – спросила девочка ясным голосом.
– Тc, – шикнула мать, – оставь дядю в покое.
– Это кошки, – признался Даниель.
– Они ваши? – спросила девочка.
– Да.
– Почему вы везете их в корзине?
Потому что они больны, – ласково ответил Даниель.
– А можно на них посмотреть?
– Жаннина, – сказала мать, – это уж слишком.
– Я не могу их тебе показать, из-за болезни они стали злыми.
Девочка залепетала с прелестной рассудительностью:
– Нет, со мной кошечки не будут злыми.
– Ты думаешь? Послушай, милая деточка, – быстро и тихо сказал Даниель, – я собираюсь их утопить, вот что я собираюсь сделать, и знаешь почему? Потому что не далее, как сегодня утром, они разодрали все лицо одной красивой маленькой девочке, похожей на тебя, которая приносила мне цветы. Ей придется вставить стеклянный глаз.
– Ах! – вскричала изумленно девочка. Она с ужасом посмотрела на корзину и уткнулась в материнские юбки.
– Вот видишь, – сказала мать, возмущенно обернувшись к Даниелю, – вот видишь, нужно быть смирной и не болтать без разбора. Ничего, моя лапочка, дядя просто пошутил.
Даниель ответил ей спокойным взглядом. «Она меня ненавидит», – удовлетворенно подумал он. Он видел, как за стеклами проплывают серые дома, он знал, что женщина смотрит на него. «Возмущенная мать! Она ищет, что можно было бы во мне возненавидеть. Но только не лицо». Лицо Даниеля никогда не ненавидели. «И не одежду, она новая и элегантная. Может быть, руки». Руки его были короткопалые и сильные, немного пухлые, с черными волосками на фалангах. Он положил их на колени: «Смотри на них! Ну смотри же!» Но женщина спасовала, она тупо смотрела прямо перед собой, она дремала. Даниель рассматривал ее с некоторой жадностью: дремлющие в транспорте люди, как у них это выходит? Она всем телом обмякла где-то в себе и там расслаблялась. В ее голове не было ничего, что походило бы на беспорядочное бегство впереди себя, ни любопытства, ни ненависти, никакого движения, даже легкого колыхания: ничего, кроме толстого сонного теста. Внезапно она очнулась; на лице ее появились признаки оживления.
– Приехали! Приехали! – воскликнула она. – Идем! Какая же ты противная, вечно ты копаешься!
Она взяла девочку за руку и потянула за собой. Перед тем как выйти, девочка обернулась и бросила на корзину полный ужаса взгляд. Автобус тронулся, но вскоре снова остановился: мимо Даниеля, смеясь, прошли пассажиры.
– Конечная! – крикнул ему кондуктор. Даниель вздрогнул: автобус был пуст. Он встал и вышел. Это была оживленная площадь с несколькими кафе; рабочие и женщины стояли вокруг ручной тележки. Женщины удивленно посмотрели на него. Даниель ускорил шаг и свернул в грязный переулок, спускавшийся к Сене. По обеим сторонам громоздились бочки и склады. Корзина безостановочно мяукала, и Даниель почти бежал: он как бы нес дырявое ведро, из которого капля по капле вытекала вода. Каждое мяуканье, как капля воды. Ноша была тяжелой. Даниель перебросил корзину на левую руку, а правой вытер пот. Не нужно думать о кошках. «Ах, ты не хочешь думать о кошках? Так вот, именно о них ты и должен думать, иначе тебе было бы слишком легко!» Даниель вновь увидел золотые глаза Поппеи и сразу стал думать о другом, о бирже, где он позавчера заработал десять тысяч франков, о Марсель, которую сегодня вечером увидит, это был его день: «Архангел!» Даниель усмехнулся: он глубоко презирал Марсель. «У них не хватает смелости признаться, что они разлюбили друг друга. Если бы Матье видел все в истинном свете, то давно бы принял решение. Но он не хочет. Он не хочет потерять себя. Он-то нормальный», – с иронией подумал Даниель. Кошки мяукали, как ошпаренные, и Даниель почувствовал, что теряет голову. Он поставил корзину на землю и два раза сильно ударил по ней ногой. Внутри возникла сумасшедшая возня, но вскоре кошки затихли. Даниель с минуту постоял неподвижно, со странным ознобом за ушами. Из склада вышли рабочие, и Даниель снова двинулся в путь. Он спустился по каменной лестнице на берег Сены и сел на землю около железного кольца между котлом с гудроном и грудой камней для мощения. Сена под голубым небом была желтой. Черные шаланды, нагруженные бочками, были пришвартованы у противоположного причала. Даниель сидел на солнце, в висках у него ломило. Он смотрел на воду, волнистую и вздутую, с опаловыми отсветами. Потом вынул из кармана клубок и перочинным ножичком отрезал длинный кусок шпагата; затем, не вставая, левой рукой нашарил камень. Он привязал конец шпагата к ручке корзины, обвязал шпагатом камень, сделал несколько узлов и положил камень на землю: выглядело это приспособление странно. Даниель подумал, что нужно будет нести корзину в правой руке, а камень в левой: он их бросит в воду одновременно. Корзина останется на плаву, вероятно, десятую долю секунды, потом грубая тяжесть камня потянет ее в глубину, и она быстро потонет. Даниелю было жарко, он проклинал свою плотную куртку, но не хотел снимать ее. Что-то в Даниеле трепетало, просило пощады, и он услышал собственный стон: «Когда у тебя нет мужества убить себя целиком, нужно делать это по частям». Он подойдет к воде и скажет: «Прощай то, что я любил больше всего...» Он немного приподнялся на руках и осмотрелся: справа берег был пустынный, слева, вдалеке, он увидел на огненном фоне черную фигуру рыбака. Движения в корзине под водой достигнут поплавка его удочки: «Он подумает, что клюет». Даниель засмеялся и вынул платок, чтобы вытереть вспотевший лоб. Стрелки его часов показывали одиннадцать двадцать пять. «В половине двенадцатого!» Нужно продлить этот чрезвычайный момент: Даниель был раздвоен; он чувствовал себя затерянным в алом облаке под этим свинцовым небом, он вспомнил с некой гордостью Матье. «Нет, это я свободен», – сказал он себе. Но то была безликая гордость, так как Даниель не был больше никем. В одиннадцать двадцать девять он встал и почувствовал такую слабость, что вынужден был опереться на котел. На твидовой куртке появилось пятно от гудрона, и он посмотрел на него. Он видел черное пятно на ярко-фиолетовой ткани и вдруг почувствовал, что снова стал чем-то целым, одним. Один. Трус. Субъект, любящий своих кошек и не желающий бросить их в воду. Он взял перочинный ножик, нагнулся и перерезал шпагат. Он это сделал молча: даже внутри него самого была тишина, ему было слишком стыдно, он не мог разговаривать с собой. Он взял корзину и поднялся по лестнице: так он проходил бы, отвернувшись, мимо кого-то, кто смотрел бы на него с презрением. И все это время в нем царила тишина. Когда он был наверху лестницы, он осмелился обратиться к себе впервые: «Что это за капля крови?» Но не посмел открыть корзину: прихрамывая, он направился дальше. Это я. Это я. Это я. Подонок. Но в глубине души у него мелькнула улыбка: всетаки Поппею он спас.
– Такси! – крикнул он.
Такси остановилось.
– Улица Монмартр, 22, – сказал Даниель. – Поставьте, пожалуйста, эту корзину рядом с собой.
Движение такси его убаюкивало. Ему даже больше не удавалось презирать себя. Потом его опять охватил стыд, и он снова начал видеть себя со стороны: это было невыносимо. «Ни целиком, ни частями», – горько подумал он. Когда он взял бумажник, чтобы заплатить шоферу, то с радостью отметил, что кошелек раздут от банкнот. «Добывать деньги, да. Это я умею».
– Вот вы и вернулись, месье Серено, – сказала консьержка, – только что кто-то к вам поднялся. Один из ваших друзей, высокий, вот с такими плечами. Я ему сказала, что вас нет, а он мне: «Что ж, я ему суну под дверь записку».








