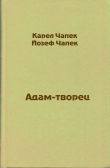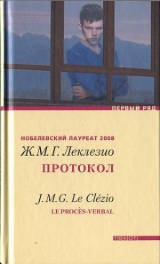
Текст книги "Протокол"
Автор книги: Жан-Мари Гюстав Леклезио
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Жан-Мари Густав Леклезио
Протокол
* * *
У меня есть два заветных желания. Одно из них – написать когда-нибудь роман, так написать, чтобы меня забросали поносными анонимками, если в последней главе главный герой умрет в страшных судорогах или будет страдать от болезни Паркинсона.
По этим меркам «Протокол» удался не вполне. Пожалуй, книга грешит излишней серьезностью и многословием, стиль чересчур вычурный, а язык являет собой нечто среднее между сугубым реализмом и выспренностью a la календарь-справочник.
И все-таки я не теряю надежды создать со временем подлинно эффективный роман: что-нибудь в духе гениального Конан Дойла, что-нибудь не на потребу веристскому вкусу читающей публики – в смысле глубины психологического анализа и иллюстративности, – но обращенное к ее чувствам.
Думаю, тут полно непаханой земли, неоглядных пространств вечной мерзлоты, что пролегают между автором и читателем. Исследовать «целину» следует с открытым сердцем, с юмором, простодушно и естественно, не цепляясь за достоверность. В определенный момент между рассказчиком и слушателем возникает и обретает форму доверие. Возможно, такой момент – главное в «активном» романе: у автора есть обязательства по отношению к читателям, он вставляет в текст забавные и трогательные детали, и тогда любая девушка заполняет восторженными или удивленными «ага» и «ого» пробелы между строчками, как делают, разглядывая карикатуру, комикс или читая роман с продолжением в дешевой газетенке.
Думаю, писать и общаться – значит уметь заставить кого угодно поверить во что угодно. Пробить брешь в безразличии публики может только бесконечная череда нескромных деталей.
«Протокол» – история человека, который и сам не знает, откуда сбежал – из армии или из психиатрической лечебницы. Я изначально решил сделать сюжет отвлеченным и невнятным. Меня мало заботил реализм повествования (я все больше убеждаюсь в том, что реальность вообще не существует); мне хотелось, чтобы моя книга воспринималась как абсолютный вымысел, имеющий единственную цель – вызвать отклик (пусть даже ничтожный) в умах читателей. Поклонники детективного жанра наверняка хорошо понимают, о чем я говорю. Такой роман можно назвать Романом-Игрой или Романом-Мозаикой, но суть в том, что это помогает придать легкость стилю и живость диалогам, избежать замшелых описаний и того, что называют «психоложеством».
Прошу прошения за винегрет из теорий: в наши дни подобная претенциозность стала слишком уж модной. Заранее приношу извинения за помарки и опечатки, которые могли остаться в тексте, хоть я и вычитывал гранки. (Роман я печатал собственноручно – двумя пальцами, так что сами понимаете…)
Напоследок позволю себе сообщить, что приступил к написанию новой истории – она будет гораздо длиннее, – где предельно просто описываются события, происходящие на следующий после смерти одной девушки день.
Со всем возможным к вам почтением,
Ж. М. Г. Леклезио
* * *
А.Как-то раз, один разок, знойным летним днем, сидел у открытого окна человек; был он, этот парень, несуразно большой, сутуловатый, и звали его Адам; Адам Полло. С видом попрошайки искал он повсюду солнечные пятна, мог сидеть часами, почти не двигаясь, в углах у стен. Он никогда не знал, куда девать руки, и обычно они просто висели вдоль тела, но не касались его. Было в нем что-то от больного зверя, из тех матерых, что хоронятся в норах, затаясь, чутко стерегут опасность, надвигающуюся сверху, с земли, и прячутся в своей шкуре так, что, кажется, только шкура одна у них и есть. Он лежал в шезлонге у открытого окна, голый по пояс, босой, с непокрытой головой, в диагонали неба. На нем были только бежевые полотняные брюки, линялые, в пятнах пота, с закатанными до колен штанинами.
Лучи били ему прямо в лицо, но не отражались: желтизна тотчас целиком впитывалась влажной кожей, не оставляя ни единой искорки, ни малейшего блика. Он об этом догадывался и не шевелился, только время от времени подносил к губам сигарету и втягивал в себя дым.
Когда докуренная сигарета обожгла ему большой и указательный пальцы, он достал из кармана брюк носовой платок и тщательно, будто напоказ, вытер грудь, плечи, шею и подмышки. Лишенная защищавшей ее тонкой пленки испарины, кожа ярко заблестела, зарделась от света. Адам встал и быстро отступил в глубь комнаты, в тень; из кипы одеял на полу он выудил старенькую рубашку, ситцевую или саржевую, а может, коленкоровую, встряхнул и надел ее. Когда он наклонился, прореха на спине, точно между лопатками, характерно округлилась, расширившись до размера монеты и на минуту открыв три острых позвонка, которые двигались под туго натянутой кожей, точно когти под упругой мембраной.
Даже не застегнувшись, Адам достал из-под одеял нечто, похожее на тетрадь – школьную, в желтой обложке: на первой странице, наверху, он когда-то написал три слова, какими обычно начинают письма, моя дорогая Мишель, потом вернулся и снова сел у окна, защищенный от солнечных лучей липнувшей к бокам тканью. Положив тетрадь на колени, он открыл ее, перелистал исписанные убористым почерком страницы, достал из кармана шариковую ручку и прочел,
моя дорогая Мишель,
Так хочется, чтобы дом оставался пустым. Я надеюсь, что хозяева приедут еще не скоро.
Вот так я и мечтал жить с давних пор: ставлю два шезлонга у окна друг против друга, всего-то навсего; около полудня вытягиваю ноги и засыпаю на солнышке с видом на пейзаж, который считается красивым. А иной раз чуть повернусь к свету и упираюсь головой прямо в лепнину. В четыре часа ложусь поудобней, если, конечно, солнце опустилось ниже и лучи его спрямились; к этому времени оно освещает… окна. Я смотрю на него, такое круглое, точнехонько над подоконником, над морем, а стало быть, над горизонтом, идеально прямое. Я все время сижу у окна и думаю, что все это мое, здесь, в тишине, мое и ничье больше. Странно. Так и сижу все время на солнце, почти голый, а то и совсем голый, сижу и пристально вглядываюсь в солнце и море. Я рад, что всюду считают, будто я умер; сначала я не знал, что этот дом пустует, – нечасто так везет.
Когда я решил поселиться здесь, то взял с собой все, что требовалось для рыбалки, вернулся затемно и столкнул мотоцикл в море. Так я умер для остального мира, и мне больше не нужно быть живым перед всеми, и делать много всякого, чтобы сойти за живого.
Странно, но даже вначале никто не обратил внимания; к счастью, друзей у меня было немного, и девушки я не завел, это ведь они первыми к тебе заявляются и говорят, мол, кончай придуриваться, вернись в город, живи по-прежнему, как ни в чем не бывало, сиречь: кино, кафе, поезда и прочее.
Время от времени я хожу в город за едой, ем я много и часто. Мне не задают вопросов, и много говорить не приходится; меня это устраивает, потому что я уже много лет как привык молчать и легко мог бы сойти за глухого, немого и слепого.
Он прервался на несколько секунд и пошевелил пальцами в воздухе, как бы давая им отдых, потом снова склонился над тетрадью, подставив бьющему в окно солнцу яйцевидную голову с хохлом спутанных волос на макушке, так что вздулись жилки на висках, и на этот раз написал:
«моя дорогая Мишель,
только ты, Мишель, потому что ты есть и я тебе верю, только ты одна еще связываешь меня с миром, что «под ногами». Ты работаешь, твое место в городе, среди перекрестков, мигающих огней и Бог знает чего еще. Ты говоришь многим людям, что знаешь одного совершенно рёхнутого парня, который живет в заброшенном доме, а они спрашивают, почему его до сих пор не упрятали в психушку. А я, повторюсь, я ничего не имею против, у меня нет цервикального комплекса, и такой конец ничем не хуже любого другого – спокойная жизнь, красивый дом, французский сад и люди, которые тебя кормят. Все остальное не важно, и это не мешает дать волю воображению, можно даже писать стихи на манер вот этих,
сегодня день мышей и крыс,
последний день до моря.
Ты, к счастью, есть где-то в ворохе воспоминаний, нужно только угадать где, как бывало, когда мы играли в прятки и я высматривал твой глаз, ладонь или волосы среди зеленых кружков листвы, и вдруг отчего-то понимал, что не верю своим глазам и не могу крикнуть – пронзительно, срываясь на визг: вижу тебя, вижу!»
Он думал о Мишель, обо всех детях, которые у нее будут рано или поздно, так или иначе будут, вопреки логике, ему было все равно, он умел ждать. Он много всего им скажет, этим детям, когда придет время: скажет, например, что земля не круглая, что она – центр мироздания, а они – центр всего на свете, без исключения. Так они не рискуют потеряться, и (при условии, конечно, что не подцепят полиомиелит) у них будет девяносто девять шансов из ста жить, как те визжащие, вопящие и бегающие за резиновым мячом дети, которых он давеча видел на пляже.
Еще им надо будет сказать, что бояться следует одного: как бы земля не перевернулась, ведь тогда они окажутся вниз головой и вверх ногами, а солнце упадет на пляж, часов около шести, и море закипит, и всплывут кверху брюхом все рыбки.
Одевшись, он сидел в шезлонге и смотрел в окно; для этого ему приходилось поднимать спинку на максимальную высоту. Склон холма, не пологий и не крутой, спускался к шоссе, потом пробегал еще четыре-пять метров – и начиналась вода. Адам видел не все: слишком много было сосен, других деревьев и телеграфных столбов вдоль дороги, и остальное приходилось додумывать. Порой он сомневался, что угадал верно, и спускался вниз: шел и видел, как распутываются клубки линий и распрямляются кривые, как вспыхивают предметы блеском чистого вещества; но чуть подальше туман снова сгущался. В подобных пейзажах ни в чем нельзя быть уверенным; в них вы всегда так или иначе чувствуете себя до странного чужим, и это неприятное чувство. Если хотите, это что-то вроде страбизма или легкой формы базедовой болезни: неизвестно, сам ли дом, небо или изгиб залива затуманивались по мере продвижения Адама вниз. Ибо перед ними сплетались в ровный покров кусты и мелколесье; у самой земли воздух чуть колебался от жары, а далекие горизонты походили на поднимающиеся из травы летучие дымки.
Солнце тоже многое искажало: шоссе под его лучами плавилось в белые лужицы; а то, бывало, ехали машины в один ряд, и вдруг, без видимой причины, черный металл взрывался, точно бомба, спиралью взметнувшаяся из капота вспышка воспламеняла холм и пригибала его к земле своим ореолом, на несколько миллиметров смешавшим атмосферу.
Это было в начале, в самом начале, ведь потом он уже стал понимать, что это значило, что это такое – чудовище одиночества. Он открыл желтую тетрадь и написал наверху первой страницы три слова, какими обычно начинают письмо.
Моя дорогая Мишель!
Еще он любил музыку и сам немного играл, как все; когда-то, в городе, он стащил пластмассовую дудочку с лотка с игрушками. Ему всегда хотелось дудочку, и он ужасно радовался, что нашел хотя бы эту. Дудочка, конечно, была игрушечная, но хорошего качества, сделанная в США. Теперь, когда приходила охота, он садился в шезлонг у открытого окна и наигрывал простенькие нежные мелодии. Слегка опасался привлечь внимание людей, потому что бывали дни, когда парни и девушки приходили поваляться в траве вокруг дома. Он играл под сурдинку, тихо-тихо, выдувал едва слышные звуки, прижимая кончик языка к отверстию и напрягая диафрагму. Время от времени прерывался и начинал постукивать костяшками пальцев по выстроенным в ряд по ранжиру пустым консервным банкам, получался негромкий такой шумок, в стиле бонго, улетавший в воздух зигзагами, как собачий лай.
Такова была жизнь Адама Полло. Зажигать по ночам свечи в глубине комнаты и стоять у открытых окон под легким ветерком с моря, выпрямившись во весь рост, наполняясь силой, которую пыльный день неизбежно у нас отнимает.
Ждать, долго ждать, не шевелясь, гордясь, что утратил почти все человеческое, когда прилетят первые ночные бабочки, покружат, зависнут в нерешительности перед пустыми провалами окон, соберутся в стайку и ринутся вдруг на приступ, обезумев от желтого мерцания свечей; потом лечь на пол, закутаться в одеяла и смотреть, неотрывно смотреть, как суетятся насекомые, их становится все больше, они покрывают весь потолок, их тени трепещут, они падают в огонь, дрыгая лапками в венчике кипящего воска, потрескивая, царапая воздух, как гранитную стену, – и гасят одну за другой последние искры света.
Человеку в положении Адама, которого годы учебы в университете и вся последующая посвященная чтению жизнь приучили к размышлению, делать было нечего, кроме как думать обо всем этом, дабы не стать неврастеником; поэтому вполне вероятно, что только страх (скажем, перед солнцем) способен был помочь ему удерживаться в рамках здравомыслия и в случае чего выходить на пляж. На этой мысли Адам отчасти изменил своей излюбленной позе и сидел теперь, все так же наклонясь вперед, но повернувшись лицом в другую сторону; смотрел он в стену. Смутно различая свет из-за левого плеча, он представлял солнце гигантским золотым пауком: его лучи раскинулись по небу, точно щупальца, извивающиеся и выгнутые буквой W, цепляющиеся за горы и бугры на земле, за каждый выступ ландшафта, за неподвижности.
Все остальные щупальца колыхались, медленно и лениво, расщеплялись и разветвлялись, раздваивались и вновь смыкались, на манер полипа.
Все это он нарисовал, для пущей уверенности, на противоположной стене.
Так он сидел, спиной к окну, и чувствовал, как его с каждой минутой все сильнее одолевает страх перед этим переплетением щупалец, пугающей путаницей, в которой он больше не мог разобраться. Если бы не ее своеобразная, угольная сушь, поблескивающая, рассыпающая искры, это был бы самый настоящий спрут, жуткий и беспощадный, слизисто-липкий своей сотней тысяч рук, похожих на лошадиные кишки. Чтобы успокоиться, он разговаривал с рисунком, глядя точно в центр, в антрацитовый шар, откуда вытекали щупальца, точно обугленные некогда корни; произносил он слова вполне детские,
«красивое ты – красивое ты животное, красивое, ай, красивое,
красивое ты солнце, ну-ну, очень красивое солнце, черное-пречерное».
Он знал, что выбрал верный путь. Мало-помалу он заново сотворил мир детских страхов; казалось, что небо в прямоугольнике окна готово сорваться с места и обрушиться на наши головы. Как и солнце. Он взглянул на землю и увидел, что она вдруг закипела, а потом растеклась под ногами расплавленной сталью. Деревья ожили, источая ядовитые ароматы. Море увеличилось в размерах, съело узкую серую полоску пляжа, а потом поднялось и потянулось к холму, чтобы поглотить его, утопить в своих грязных водах. Он почувствовал, как где-то поблизости возникают из небытия ископаемые чудовища и бродят, тяжело топая гигантскими лапами, вокруг дома. Его страх все рос и рос, он не сумел ни обуздать собственное воображение, ни совладать со страхом: теперь даже люди выглядели врагами, дикарями, их руки и ноги заросли шерстью, головы уменьшились, они шли, тесно сомкнув ряды, по лесам и полям, людоеды, трусы и свирепые убийцы. Ночные бабочки бросались на Адама, кусали его острыми жвалами. Облепляли тело шелковистым покрывалом мохнатых крыльев. Из луж выползло панцирное воинство – то ли паразиты, то ли креветки, стремительные, загадочные, голодные ракообразные, жаждущие вкусить его плоти. Пляжи заполнили странные особи с детенышами, ждущие одному Богу ведомо чего; по дорогам с рычанием и воем бродили нелепые разноцветные звери с блестящей на солнце чешуей. Все вдруг зажило напряженной, нутряной, насыщенной, тягостной и нелепой жизнью обитателей морских глубин. Он собрал все силы в ожидании решающего приступа, готовый сорваться с места, выпрыгнуть навстречу ужасным тварям и дорого продать свою жизнь, взял давешнюю желтую тетрадь, взглянул на рисунок на стене, бывший как-то раз солнцем, и написал Мишель:
Моя дорогая Мишель!
Признаюсь, мне немного страшно одному в этом доме. Наверное, если бы ты лежала, обнаженная, на полу и я мог бы опознаватьсобственную плоть в твоей, залитой солнцем, гладкой и теплой, не было бы нужды во всем остальном: сейчас, в этот самый момент, когда я пишу тебе, между шезлонгом и плинтусом есть узкий кусок пространства точно по твоему росту – 1 метр 61 сантиметр, а вот объем бедер больше твоего – 88,5 сантиметра. Я вижу землю, обратившуюся в хаос, я боюсь дейнотериев [2]2
Вымершее животное отряда хоботных. (Здесь и далее прим. перев.)
[Закрыть], питекантропов, неандертальца (каннибала), не говоря уж о динозаврах, лабиринтозаврах, птеродактилях и иже с ними. Я боюсь, что холм превратится в вулкан.
Или что арктические льды растают, уровень моря поднимется и смоет меня. Я боюсь людей на пляже, ВНИЗУ. Песок становится зыбучим, солнце становится пауком, а дети – креветками.
Адам захлопнул тетрадь, приподнялся на локтях и выглянул на улицу. Вокруг никого не было видно. Он прикинул, сколько времени понадобится на то, чтобы спуститься к воде, искупаться и вернуться. Смеркалось; Адам не знал наверняка, как давно не выходил из дома – день, два или больше.
Судя по всему, ел он только печенье да купленные по скидке в «Призюник» вафли. Временами у него болел желудок, во рту стоял мерзкий горько-кислый вкус. Он облокотился о подоконник и бросил взгляд на часть города, проглядывавшую справа, между двумя холмами.
Адам закурил одну из последних сигарет, оставшихся от восьми пачек, купленных в россыпьв последний поход по магазинам, и сказал:
«Зачем вообще выходить в город? Делать то, что я делаю со всеми этими штуками из потустороннего мира – до смерти бояться, да и верить, что, если я ими не займусь, они придут и убьют меня, – да, да – это того стоит – я понимаю, что утратил психологический рефлекс… но раньше? раньше я много чего мог, а теперь понимаю, что все кончено. Адам, черт бы тебя побрал, ну не могу я бродить между домами, слушать их вопли, хрипы, болтовню, молча прячась за углом. Рано или поздно придется вымолвить слово, сказать: да, спасибо, извините, какой прекрасный вечер, но нельзя не признать, что вчера я прямо из колледжа, и будет правильно, да, правильно, покончить с этими мерзостями, все бесполезно, кретин, дурацкая болтовня, что привела меня сюда, сегодня вечером, мне не хватает воздуха, сигарет и настоящей еды, хотел бы я знать, почему вокруг так мало невероятных вещей».
Он чуть отступил от окна, выпустил дым ноздрями и добавил (всего несколько слов, ибо, хвала богам, никогда не отличался особой разговорчивостью).
«Чудесно, чудесно – все это просто чудесно, но мне придется сходить в город за сигаретами, пивом, шоколадом и жратвой».
Для большей ясности он записал на бумажке:
сигареты
пиво
шоколад
жратва
бумага
газеты если получится
Потом он сел на пол перед окном – так, чтобы на него попадало солнце, на том самом месте, где обычно ждал наступления вечера или отдыхал, и начал водить ногтем по пыльным половицам, чертя знаки и линии. Непросто жить одному в заброшенном доме на холме. Нужно уметь устраиваться, любить бояться и лениться, иметь вкус к экзотике и обустройству укрытий, чтобы прятаться там, как в детстве, под дырявым брезентом.
* * *
В.Он пришел на пляж. Устроился на гальке – слева, в самом конце, рядом с грудой камней и кучей водорослей, облюбованных навозными мухами. Он искупался и теперь полулежал, опираясь на локти, так, чтобы между мокрой спиной и землей оставалось пространство для проветривания. Кожа у него обгорела, но была не медной, а ярко-красной, что плохо сочеталось с ядовито-голубыми плавками. Издалека его можно было принять за американского туриста, но только издалека – американцы не бывают такими чумазыми, не носят таких длинных волос и не подстригают бороду тупыми ножницами. Голову Адам опустил на грудь, лицо выражало полнейшее ко всему безразличие.
Его локти стояли симметрично друг другу на полотенце, но нижняя часть тела касалась гальки, и волосатые ноги были облеплены мелкой грязной крошкой. Лежа в этой позе, он почти не видел моря, его взгляд упирался в щебеночную, веками не мытую стенку, которую люди и животные обильно поливали нечистотами, так что вид она имела на редкость омерзительный. Пляж был забит людьми (Адам находился на юго-восточной его оконечности), мужчины, женщины и дети бродили, спали или кричали на разные голоса.
Адам подремал – не очень долго; потом решил прогуляться, найти тенистый уголок. Он думал пробыть на пляже до двух дня, а на часах было только двенадцать тридцать.
Вообще-то время он проводил очень даже неплохо: жарко, все шумы затихают один за другим, воздух становится все гуще и превращается в облако. Можно было вообразить, что ты окуклился в воздушной яме, под нагромождением земли, воды и неба.
Адаму нравилось рассматривать пеструю толпу в правой части пляжа: все эти люди о чем-то болтали и не выглядели такими уж страшными. Казалось, он знал их по именам, а то, что они находились так близко, словно бы делало их родственниками семьи Полло; во всяком случае, имелись признаки общего предка, едва уловимые негроидные черты какого-нибудь давно исчезнувшего амерантропа. Некоторые спящие женщины выглядели весьма привлекательно: их разомлевшие, зарывшиеся в серую гальку тела приобретали мягкие растительные очертания.
Иногда они переворачивались на полотенцах, их груди колыхались, шеи вытягивались под тяжестью затылков. Дети были совсем другими, они напоминали серьезных гномиков, играли у кромки воды, строили из гальки горки и крепости. Двое или трое, слишком маленькие, чтобы участвовать в общей игре, то и дело пронзительно вскрикивали, а остальные детишки воспринимали эти звуки как магические заклинания, помогающие в работе.
Адам рассеянно наблюдал за детьми, словно между ним и этими существами с их гомоном и шумом не существовало никакой логической связи и каждое ощущение измученного тела превращало его в чудовищное, переполненное болью существо, в котором жизненное знание есть нервное осознание материи. Все это, конечно, имело легендарную историю, которую можно было изобрести тысячу раз подряд, ни разу не допустив ошибки.
В воздухе летали плоские мухи и микроскопические частички пыли, садившиеся на гальку или двигавшиеся параллельно земле. Здесь тоже невозможно было обмануться. Следовало выбрать наугад один из камешков и мысленно направить на него какое-нибудь желание.
«Я брошу его на апельсиновую корку, что плавает в волнах».
Или обнять взглядом все пространство пейзажа, бескрайнего, состоящего из ямок и горок, мысов и бухт, деревьев и колодцев, из да и нет, из воды и воздуха. И почувствовать себя отпечатавшимся в земле, под солнцем, истинным центром куда более нейтральных веществ.
Он лежал неподвижно, хотя моментами ему исступленно хотелось пошевелиться; лежал, чувствуя спиной и затылком неровность камня, его живот был так напряжен, что мог в любой момент лопнуть. То ли от усталости, то ли от жары на скулах выступала испарина, пот дождевыми каплями стекал по лицу, шее, ребрам и ногам. Он казался себе единственной влажной точкой на всем пляже, словно мокрое пятно на гальке под его телом подчеркивало солоноватую пыльную белизну окружающего пространства.
Он знал причину. Он не сомневался. Никто не мог бы сказать, будто он не знает, что делает; сохраняя неподвижность, он яснее видел, как проявляется мир, по крохам, по крупицам, в спокойном и смешном порыве, в действии, в формулах наступательной химии; судорожный ход поршней, запуск механизмов, в гуще деревьев, углеродные циклы, удлиняющиеся тени, и шумы, и глухие шорохи тяжелой земли, которая покрывалась трещинами и разевала рот, пищала, как грудной младенец или рыбы.
По берегу шел тщедушный человечек. Он что-то выкрикивал тонким голосом. Его обгоревшее на солнце тело изо всех сил тянулось вверх под тяжестью корзины с засахаренным арахисом. Человечек остановился, посмотрел на Адама, что-то сказал, повернулся и пошел по пляжу в другую сторону. Адам видел, как он вышагивает по гальке, совершая круговое движение пальцами, прежде чем поставить ногу, чтобы не пораниться. Он уходил все дальше, ловко огибая нагромождение тел, и то и дело издавал свой бессмысленный вопль. Во всем его облике сквозило неожиданное в таком существе достоинство.
По воде пробежала собака, и Адам последовал за ней. Он шел так быстро, как только мог, держа за концы висевшее на шее полотенце, по колено в воде в подражание собаке. Он смаковал два страха одновременно: мысленно представлял, как мог бы поранить пятки об острые грани камней, если бы шел по пляжу – общеизвестно, что на суше галька гораздо опасней; истинный же страх был связан с физическими ощущениями – его ноги в воде погружались в нечто странное, прохладное, более густое, чем воздух, ступни скользили, расталкивая воду, доставали до зыбкого, вязкого, заросшего крошечными водорослями дна; подобные гнилостному туману, они лопались под тяжестью его тела и окрашивали воду в темно-зеленый цвет.
К счастью, собака бежала не слишком быстро, остерегаясь водяных ям, и Адам за ней поспевал. В какой-то момент пес почувствовал преследование, повернул голову и пристально взглянул на Адама – взгляд пришелся на подбородок, а потом продолжил свой путь, таща за собой человека, как на поводке; в считанные мгновения пес обрел невероятно величественную стать, он бежал по грудь в морской воде, стремясь как можно скорее добраться до правой оконечности пляжа, где стояли именные купальные кабинки.
Вот так они и двигались, один за другим. Расположенные полукругом кабинки стояли задней стенкой к бетонному пирсу, за которым начинался порт. Ниже располагались купальщики и купальщицы в бикини, галька была расцвечена яркими пятнами полотенец; все эти люди лежали параллельно солнцу, глядя на них от кромки воды, можно было подумать, что все они пережили линьку и на новой, апельсинового цвета, коже солнце растекалось блестящими потеками.
Собака остановилась, дернула носом в сторону Адама и выпрыгнула на берег, обогнула, не задев, спавших на полотенцах людей и заняла место рядом с молодой женщиной.
Адам последовал ее примеру, но устроился не справа, а слева; он расстелил на гальке висевшее на шее полотенце, сел, обняв себя за колени, и покосился на пса: тот с закрытыми глазами вылизывал лапы, подставив солнцу выпуклую макушку. Адам посмотрел на свои ноги и решил последовать его примеру: вода после шторма была загрязнена мазутом. Адам взял сухую травинку и принялся чистить между пальцами.
Адам не подозревал, что время способно проходить таким вот неожиданным образом; это был один из тех типов времени, что легко присвоить себе целиком, без остатка, растяжимое время, которым можно мирно наслаждаться, встроившись в него точным движением; Адам шепотом назвал себя повелителем вещей; никакой принципиальной разницы между двумя точками пляжа, которые он последовательно занимал, не было. Сидя на полотенце, можно было обводить взглядом окрестности. Следовало либо признать, что камень, тысяча камней, колючки, отбросы, следы соли не неподвижны, живут выделительной жизнью и движутся внутри иной временной системы, либо объявить единственной мерой жизни чувственное знание. В этом случае Адам наверняка был единственным живым существом во всем мире.
«Может, попробуете этим?» – предложила молодая женщина.
Адам благодарно улыбнулся, взял протянутый бумажный платок, попутно отметив, что он оставил на пальцах женщины то ли пушок, то ли снег, и продолжил оттирать грязь. Надо бы что-нибудь сказать, подумал он, и буркнул:
«И правда – так лучше получается».
Он попытался заглянуть женщине в глаза, но из этого ничего не вышло: на ней были солнечные очки в толстой оправе с очень темными стеклами, какие обычно носят туристы из Нью-Йорка на португальском побережье. Он не осмелился попросить ее снять их, хоть и ощущал, какое это было бы облегчение – увидеть ее глаза. Но видел он лишь собственное отражение на стеклах в пластиковом обрамлении, себя, похожего на большую, тучную, ковыряющуюся в пальцах ног обезьяну. Можно было подумать, что эта поза с наклоном тела вперед обеспечивала концентрацию ума, необходимую для уединенной жизни в своей норе, вдали от умирающего мира.
Молодая женщина неожиданно подобрала ноги, сложив их углом, выпрямила грудь и со вздохом наслаждения – «а-ах» – провела пальцами вдоль позвоночника, коснулась белой полоски на загорелой коже и завязала бретельки лифчика; она посидела несколько мгновений с заведенными за спину руками, словно указывала матадору слабое место в броне, куда можно ударить шпагой и достать до сердца. Капельки пота выступили в подмышках и ложбинке между грудями.
«Пожалуй, мне пора».
«Вы часто сюда приходите?» – спросил Адам.
«Как когда, – ответила она. – А вы —?»
«Да каждый день. Вы меня не замечали?»
«Нет».
«А я уже видел, как вы тут устраиваетесь. В этой части пляжа. Почему вы всегда сидите на одном и том же месте? Тут есть что-нибудь особенное? Ну, типа, здесь чище, свежее, теплее, лучше пахнет или что-то еще?»
«Не знаю. – Она пожала плечами. – Наверное, по привычке. Вы об этом?»
«Нет – нет, я вам не верю, – со значением, словно это действительно было важно, произнес Адам. – Дело не в привычках. По-моему, привычки есть только у вашей собаки. Не удивлюсь, если именно пес приводит вас всякий раз на эту часть пляжа. Если бы вы за ним понаблюдали, узнали бы, как он появляется на пляже, купается, зайдя в море по шею и держа нос над водой, вылезает, дремлет на солнце, вылизывает лапы. А потом уходит, исполненный достоинства, ступая только по плоской гальке, чтобы не пораниться, и держась подальше от детей, чтобы те не выбили ему глаз лопаткой или совком. Здорово, да? Отработанный ритуал».
«Знаете, что, – сказала собеседница Адама, – вы еще совсем молодой человек».
Она быстро оделась, встряхнула высохшими волосами, закурила «Морье», позвала собаку и пошла к дороге.