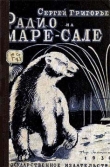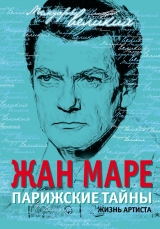
Текст книги "Парижские тайны. Жизнь артиста"
Автор книги: Жан Маре
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В Сен-Лазаре, впоследствии разрушенном, размещался лепрозорий XII века, ставший государственной тюрьмой во время Революции, затем женской тюрьмой. Здание имело свой стиль, но было ветхим и грязным. Одну из надзирательниц – сестру Леониду – наградили орденом Почетного легиона. Это и было темой нашего репортажа.
Господин Сильвестр решил воспользоваться случаем и сфотографировать все службы: административные помещения, медпункт, часовню. Нас сопровождала одна из сестер. Вдруг появился директор тюрьмы, что-то сказал господину Сильвестру, затем попросил меня уйти и сам проводил меня до двери. Я спросил причину. Мне невразумительно объяснили, что мы находимся в женской тюрьме и, поскольку я молодой человек, это может вызвать волнения среди узниц. Я повиновался, отметив, однако, про себя, что оператор не намного старше меня.
Через несколько дней меня уволили из фотоателье.
– Вы понимаете, почему? – спросил господин Сильвестр.
Я не стал задавать вопросов. Я догадывался о том, чему отказывался верить. Я падал в бездонную пропасть. Всем своим существом я не мог поверить, еще надеялся. Я побежал на вокзал. Казалось, поезд не движется. Все так же бегом я добрался от вокзала Шату до дома. Было уже темно, и я плакал не сдерживаясь. Боль в боку заставила замедлить бег. Садовая решетка, цепляющийся за нее плющ, дверь – все казалось мне другим. Я вытер слезы, привел в порядок одежду, подождал, пока дыхание станет нормальным. Но войти не решался. Тетя и бабушка были дома. Они, как обычно, играли в жаке. Но даже здесь мне все казалось другим. Тетя и бабушка ждали, что я, как обычно, поцелую их. Я стоял молча, не зная, задать мучающий меня вопрос или нет.
– Меня уволили, – сообщил я наконец.
– Но почему, почему? Что ты еще там натворил?
– Ничего, ничего… По работе мне пришлось поехать в Сен-Лазар… но не на вокзал. Тетя, это правда?.. Мама…
Тетя обняла меня. Я задыхался от слез. Мои славные старушки не знали, что сказать:
– Бедный малыш, бедный малыш…
Я вырвался из их объятий и убежал в свою комнату, упал на кровать, рыдая от горя и ударяя по ней кулаком. Меня пытались утешить:
– Бедный малыш, твоя мать больна. Она клептоманка.

Работа ретушером
Я не спросил значения этого слова, которое услышал впервые, но я не хотел, чтобы моя мать была такой. Мама не могла быть больной. Я плакал не от стыда, я плакал, представляя мать несчастной, одинокой. Более того, Розали становилась героиней. И я вновь извлек свой ореол бузотера коллежа, чтобы сделать ей из него корону. Не нужно ждать. Нужно как можно скорее написать Розали, что я все знаю и люблю ее так же и даже еще больше. Я стану богатым и сумею спасти ее и сделать счастливой.
В этом письме я не называл ее Розали: она хочет наверняка, чтобы я назвал ее мамой.
А жизнь продолжалась. Двигались поезда, автобусы, такси. Люди продолжали суетиться на улицах. Мне казалось странным, невозможным, что мне так больно, так тяжело на сердце, а жизнь идет своим чередом.
Я нашел другую работу – у Изабе, специалиста модной фотографии. Кроме печатания, ретуширования, рисования меня часто просили позировать для мужских моделей. Это позволило мне собрать коллекцию фотографий, с которой я рассчитывал посетить киностудии и режиссеров.
Я продолжал встречаться с Андре Ж., который знал от господина Сильвестра причину моего увольнения. На нашу дружбу это не повлияло. Что касается Эдуарда, то он уехал из Парижа. Я получил от него письмо, в котором он просил не пытаться с ним увидеться, говорил, что ему надоела парижская жизнь и он уезжает за границу и никогда не вернется. Я сел в поезд, отправляющийся в пять часов утра. Приехал к нему. Никого. Консьерж заверил, что он действительно уехал.
После выполнения необходимых формальностей мне удалось повидать Розали. В первый раз мне разрешили встретиться с ней в приемной сестер. Кажется, они ходатайствовали за нее. Розали завоевала их симпатии. Она занималась часовней и библиотекой, пела во время службы, играла на фисгармонии. Более того, она подарила им свои обложки для нот, которые я разрисовал. Мама питала большое уважение к сестре-сиделке. Эта дружба длилась всю их жизнь. Сестрам нравилась лояльность Розали как по отношению к ним, так и по отношению к другим узницам. На религиозные праздники мне поручали посылать цветы для часовни и кое-что из продуктов.
Сестра М. встречалась с моей матерью и вне тюрьмы. Семья этой сестры часто приглашала мать в гости. Не думаю, чтобы семья знала, где родилась их дружба. Меня тоже иногда приглашали.
Сестра М. слышала каждый день разговоры заключенных, которые не стеснялись употреблять при ней выражения, смысла которых она не понимала. Так однажды во время праздничного обеда по случаю причастия ее племянника она сказала при матери: «Как вы меня все достали!»
Эффект был сокрушительный. Но когда мать заметила: «М., вы не должны так говорить», – она спросила в полном изумлении: «Но почему?» Все за столом покатились со смеху.
Они часто беседовали на богословские темы. По-моему, именно Розали затевала эти беседы, чтобы смутить бедную сестру. Розали бывала в восторге, если ей удавалось поставить подругу в затруднительное положение. Я говорил выше, что мать воспитывалась в монастыре и хотела стать монахиней. Она стала атеисткой.
Я регулярно навещал Розали. Но теперь я виделся с ней в общей приемной. Я выходил оттуда подавленный и одновременно полный решимости драться за нее.
На многих киностудиях я оставлял свои фотографии, но – без всякого успеха: ни одного, даже самого маленького эпизода!
Тогда я решил действовать методично: выписать из справочника фамилии всех режиссеров и попытаться с ними встретиться. Но мне это не удавалось.
Однажды я позвонил в дверь М.Л. Слуга-китаец сказал, что он в конторе, и дал адрес. Бегу туда. Поднимаюсь на шестой этаж. Наверху мужество меня покидает. Я спускаюсь этажом ниже. Нет, не стоило подниматься так высоко, чтобы уйти ни с чем. Ступени, по которым мне нужно снова подняться, представляются мне горой. Я воображаю привратника, секретарей, ассистентов, вопросы, ответы. Открываю, вхожу. С бьющимся сердцем прикрываю за собой дверь. Никого. Тишина, афиши фильмов, фотографии. Это меня смущает.
– Что вам угодно?
Передо мной человек лет пятидесяти.
– Видеть господина М.Л.
– От кого?
– По личному делу.
– Ну, дальше? Могу я узнать цель вашего визита?
Этот господин слишком элегантен. Это он.
– Вы господин М.Л.?
– Да, что вы хотите?
Я теряю хладнокровие, путаюсь в словах.
– Сниматься в кино. Поэтому я подумал о вас.
– Войдите.
Меня бьет дрожь. Комната в стиле ультрамодерн тридцатых годов, с претензией на кубизм. Вместо письменного стола стеклянная пластинка огромных размеров, положенная на два куба черного дерева. Позади очень большая фотография актера в сцене одного из фильмов М.Л.: кубистские декорации, кубистская рамка.
– А почему же вы решили прийти… ко мне?
– Я восхищаюсь всеми вашими фильмами (я не знал даже их названий).
– Вам нужны деньги?
– Да.
– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Живописью.
– Вы выставляетесь?
– Да. У «Независимых», в Большом дворце.
Это была правда. Тогда все могли выставляться у «Независимых». Для того чтобы выставить две картины, нужно было заплатить сто пятьдесят франков. Я с трудом собрал нужную сумму и дал две картины.
– Мы съездим посмотреть их вместе.
Мы договариваемся о встрече.
В назначенный день я захожу к нему. Мы отправляемся в автомобиле марки «Обурн» с шофером в ливрее. И вот мы перед моими картинами.
– Они продаются?
– Да.
– Сколько?
Одновременно он листает в каталоге список названий и цен. Я быстро говорю:
– Нет, нет, не смотрите! Поскольку я был уверен, что их никто не купит, я назначил очень высокую цену… для собственного удовольствия: три тысячи пятьсот и две тысячи пятьсот.
– А для меня?
– Тысяча пятьсот и тысяча.
Он решается в пользу той, что стоит тысячу. «Невезучий красавчик»: мой портрет на фоне стены, испещренной граффити. Он дает мне двести франков задатка и предлагает зайти к нему через неделю. Он снова дает мне двести франков и опять назначает встречу через неделю, и так далее.
Когда я получил восемьсот франков, выставка закрылась, и я предложил ему привезти свое произведение. Он сказал:
– О! Чтобы оно валялось в шкафу? Право же, не стоит.
Если бы у меня еще были эти восемьсот франков, я вернул бы их, но я проглотил унижение, а затем и обед, на который он меня пригласил.
– Я чувствую, что могу стать великим актером.
– Вы не сидели бы за моим столом, если бы я был другого мнения.
Он предлагает мне попробоваться на роль в фильме его друга Жака Деваля «Этьенна». Эва Франсис будет моей партнершей.
Я больше не живу. В долгожданный день моя правая щека украсилась огромным прыщом. Гример уверяет, что его не будет видно. Он наносит мне на лицо крем, пудру, румяна и губную помаду. Я похож на девчонку в брюках. М.Л. издает возмущенные вопли:
– Немедленно убрать все это!
Мое волнение удваивается, я в полной растерянности. Где-то в уголке студии, не глядя в зеркало, я плюю на платок и вытираю лицо. На меня направляют свет прожекторов. Сердце бешено колотится. Мне кажется, что спереди я горю, а сзади замерзаю. Я дрожу. Я чувствую, что смешон. Мне кажется, что рабочие на съемочной площадке смеются надо мной.
Снимают. Я отдаюсь телом и душой – голова, сердце, страсть, молодость. Уголок рта сводит нервный тик. Все.
Проходит несколько дней; долгий кошмар ожидания. Наконец просмотр, в зале темно. На экране возникает страшилище, тощее, прыщавое, жестикулирующее, с высоким голосом.
Пусть никогда не зажигается свет!
Но он зажигается. Вспотев от стыда, я смотрю прямо перед собой, чтобы никого не видеть. Эва Франсис похлопывает меня по спине.
– Неплохо.
– Как вы себя находите? – это М.Л.
– Ужасно, плохо.
– И я того же мнения.
Я выхожу в состоянии агонии. Нужно работать. Нужно найти актерские курсы и оставить работу фотографа.
Заведение моего патрона переезжает. Еще раз я чуть-чуть не лишился головы.
Должен сказать, что мой гороскоп предписывает опасаться огня и воды. Уже во второй раз одна из этих двух стихий готовила мне ужасную смерть.
У Изабе был гидравлический лифт – «праотец всех лифтов», сказал Жан Кокто. Действовал он бесшумно, с раздражающей медлительностью. Он спас мне жизнь.
Во время переезда я наклонился над клеткой, чтобы что-то сказать товарищу, находившемуся этажом ниже. Я не слышал, как подошел лифт. Сначала оказалось зажатым мое тело, потом голова. Смерть неминуема. Моя последняя и единственная мысль: я никогда не надену свой смокинг. За несколько дней до этого я заказал себе смокинг в магазине готового платья. Я теряю сознание, следовательно, умираю. Мой товарищ, увидевший опасность, молниеносно преодолел разделявший нас этаж и ударил кулаком по двери лифта. Лифт тотчас остановился. Я тяжело рухнул на землю.
Очнулся я в больнице. Мать сидела возле меня. Мне было стыдно признаться, что не о ней я подумал перед смертью. В действительности для меня не было границы между этим обмороком и смертью. Иногда мне снятся подобные сны: я лежу, привязанный к доске, вслед за другими попадаю под какой-то инструмент вроде бороны, но с загнутыми зубьями, которым меня обезглавливают. Наверное, потому что я приучен преодолевать страх, я не испытываю ужаса от этих кошмаров. В самый жуткий момент я раздваиваюсь и присутствую при собственной казни, зная, что это сон и что мне ничего не грозит.
М.Л. сказал, что собирается ставить «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Он хочет сделать фотопробы со мной. Я обесцвечиваю и сам завиваю волосы, мне представляется, что именно так должен выглядеть Дориан Грей. Конечно, я в таком виде больше похож на шведа, чем на англичанина. Тем не менее я доволен результатом. Я еду на студию на своем любимом виде транспорта – на автобусе. Нужно сделать пересадку на Пигаль. Я схожу. Какой-то молодой человек сходит вместе со мной и говорит:
– Извините, что задерживаю вас, я художник и хотел бы написать ваш портрет.
Смущенный, я признаюсь ему, что обычно выгляжу иначе. У меня волосы не такие светлые и не кудрявые. Я еду на пробы к фильму «Портрет Дориана Грея». Этим художником оказался Жак Дюпон, ставший впоследствии знаменитым. Он не написал моего портрета, а я не стал Дорианом Греем, поскольку фильм так и не был снят. А если бы и был, то не думаю, чтобы мне доверили эту роль.
М.Л. дал мне возможность работать статистом в нескольких своих фильмах. Однажды я услышал, как, говоря о ком-то, он заявил продюсеру:
– Не приглашайте этого актера, он приносит несчастье.
Речь шла о талантливом актере.
Я повержен в трепет. Оказывается, можно испортить человеку карьеру из суеверия. Теперь я буду всегда говорить, что мне неслыханно везет и что судьба всегда мне благоприятствует. Оставалось доказать это.
Объявление в газете привело меня к некоему господину Попликсу, который каждую среду давал бесплатные уроки в театре «Мишель». Увы! Чтобы быть зачисленным на эти курсы, нужно брать частные уроки у него же. У меня нет денег, и я обещаю покрасить и оклеить обоями его квартиру. А он найдет мне партнершу, которая будет подыгрывать…
Для вступительного конкурсного экзамена в Школу драматического искусства Попликс выбирает мне пьесу Анри Батая «Холокост», неизвестную даже Ивонне де Бре, которая в свое время была его женой.
Моя партнерша играла слепую, я – паралитика!
Попликс доволен:
– Это будет просто чудо, если вас не примут.
– Берегитесь, – говорю я ему, – я почти специалист по чудесам.
В день экзамена объявление «Холокоста» производит странное впечатление. Я слышу голоса членов жюри: «Холокост»? Кто автор? Что? Не знаю. Батай? Не знаю такого!»
Меня останавливают после нескольких реплик.
Чудо произошло: провалился!
Мои товарищи:
– Ты же говорил, что тебе всегда везет.
– Именно в этом мое везение. Моя судьба не в Школе драматического искусства. Она ведет меня другим путем.
Это знак того, что я должен выбрать себе преподавателя с антиконсерваторскими, антитрадиционными взглядами. Я пойду к Дюллену.
В очередной раз моя семья переезжает. Мы будем жить в Шелл, около вокзала. Новый дом, новая фамилия, новая собака – немецкая овчарка по кличке Милый.
М.Л. приглашает меня пообедать вдвоем.
Весь в синем, костюм, галстук, рубашка, каскетка, я захожу за ним. Тот же шофер в ливрее везет нас в автомобиле марки «Обурн», черном снаружи и обитом внутри красной кожей. До меня доходит, что моя каскетка неприлична. Я снимаю ее и прячу.
– Вы хотите обедать в людном месте или где-нибудь в тихом уголке?
Мой плохо скроенный костюм вынуждает меня ответить:
– Где поменьше народу.
М.Л. что-то говорит шоферу. Машина останавливается на углу улиц Пантьевр и Камбасереса. Мы поднимаемся по лестнице и оказываемся в отдельном кабинете. Накрытый стол ясно показывает, что нас ждали. В глубине комнаты распахнута дверь: видна разобранная кровать.
Я немею, леденею. Нам подают еду. М.Л. пытается вести беседу, я отвечаю только «да» и «нет». Не смею взглянуть на него, смотрю прямо перед собой, то есть на отворенную дверь и кровать. М.Л., в свою очередь, становится очень холоден. Он требует счет, и мы вновь оказываемся на улице.
– Вот деньги на такси.
– Нет, нет, спасибо, я люблю автобусы, – говорю я весело.
– Что это на вас нашло?
– Ничего, пустяки. Спасибо за обед. До свидания.
После этого обеда всякий раз, как М.Л. собирался снимать новый фильм, он приглашал меня в контору и обещал главную роль. Проходили недели, иногда месяцы, меня приглашали статистом или на эпизодические роли. Я соглашался. Когда я встречал М.Л. на съемочной площадке, он подходил ко мне и говорил:
– Как жаль, что вы не захотели играть главную роль.
Вскоре пришло время прохождения военной службы. Я просился в Бизерту, в морскую авиацию. Меня определили в Версаль.
М.Л. сказал, чтобы я добился увольнения на месяц для участия в съемках его фильма. Я добился отпуска, объединив все увольнения за год. Фильм сняли без меня.
Чтобы чем-то занять мой ненужный отпуск, он заказал мне декоративное панно для своей столовой в псевдоиспанском стиле. Я вручил ему панно, но оно казалось мне столь ужасным, что я попросил его разрешения сделать другое, по своему вкусу. Он согласился, и я сдержал слово.
Служба окончена. Нужно на что-то жить. Мне нечем платить за уроки. Родственники настаивают, чтобы я нашел «серьезную» работу. Внезапно умирает тетя. Мы снова переезжаем, на этот раз в Париж, на улицу Пти-Отель. Во время переезда мать снова отсутствует. Я делаю все сам, почти в одиночку, поскольку бабушка совсем слаба: оборудую квартиру с любовью и… малыми средствами. Я художник, электрик, обойщик и даже краснодеревщик. Особенно тщательно я отделываю комнату Розали.
По возвращении мать просит меня сопровождать ее в магазины, точнее, идти впереди нее, торговаться в отделе мехов – короче, отвлекать продавцов. Я делаю это против воли, но делаю.
В то время мама каждый день попрекала меня тем, что я ничего не зарабатываю, ничего не делаю. «Ничего не делаю» означало учебу на курсах.
Не имея возможности оплачивать курсы, я согласился быть статистом у Дюллена: статисты имели право на бесплатные уроки. В «Юлии Цезаре» я исполнял четыре роли, одна из них с текстом. Я произносил его с гордостью: «Они не хотели бы, чтобы вы выходили сегодня; вытащив внутренности жертвы, они не нашли сердца зверя».
Из всех ролей, которые я сыграл до сих пор, это единственная, текст которой я помню слово в слово. Кроме этой маленькой роли, я изображал обнаженного бегуна, галла, несущего тело Цезаря, и солдата.

На воинской службе
Дюллен питал ко мне симпатию, потому что я работал. Я никогда не пропускал занятий, которые он давал по субботам – с пяти до семи часов. У меня всегда была готова сцена, когда он называл мою фамилию. Не так обстояли дела со многими моими товарищами, которые находили разные уважительные причины: «Господин Дюллен, я не нашел никого для подачи реплики, не нашел текста. Я был болен… был занят в фильме». И т. д.
– Маре!
Я был готов.
– Ну что ж, раз один Маре хочет работать, я прослушаю только его.
В тот раз он работал лишь со мной: игра, дикция, дыхание, постановка голоса. Обычно он обращал внимание только на игру. Сейчас я сожалею, что не делал записей. Нас всех увлекали и захватывали его указания. Мы многому учились также, когда на сцене были наши товарищи, как если мы играли сами. Мне хотелось бы еще раз услышать, например, как он объясняет «Скупого» или «Гамлета» Жану Вилару, учившемуся вместе с нами.
Он избегал указывать интонацию. Его ум, инстинкт, театральный опыт находили, придумывали, создавали, вели нас к театру, который мы открывали и любили благодаря ему. Он редко играл сцену. Он делал это иногда, чтобы доказать нам, как легко и просто войти в роль, почувствовать себя персонажем. Слушателю драматических курсов всегда хочется перевернуть горы. И Шарль Дюллен неожиданно проигрывал или, скорее, проживал перед нами сцену. И тогда мы присутствовали при том, чего никогда не видела публика: мы видели Шарля Дюллена – учителя, еще более великого актера и режиссера, чем тот, каким его видели зрители.
Для меня уроки были бесплатными, работа статиста давала заработок – десять франков в день. Я не хотел просить денег у матери, а десяти не хватало на проезд, на еду и на грим.
Я решился попросить небольшой прибавки у Дюллена.
– И сколько бы ты хотел, малыш?
– Двадцать пять франков, господин Дюллен.
Он смотрит на меня очень грустно.
– Ты хочешь разорить театр, малыш.
Теперь я знаю, что у Дюллена были серьезные финансовые затруднения. Труппа была многочисленной, он без конца шел на большие жертвы. Кроме того, он дал мне гораздо больше, чем эти двадцать пять франков, в которых он мне отказал. Он дал мне любовь к театру и средство для завоевания своего места в нем.
Как-то раз я подготовил монолог Нерона и попросил товарища, который каждый вечер изображал вместе со мной римского бегуна, подавать мне реплику. Перед уроком мы репетируем вдвоем. Мой товарищ слушает меня совершенно оторопевший:
– Ты что, собираешься вот так подать эту сцену Дюллену?
– Да, а что?
– Ты сошел с ума! Нет, ты совершенно сошел с ума! Ну и разнесет же он тебя!
Я показал сцену. Дюллен не разнес меня. Я даже почувствовал снисходительность, симпатию. За так называемые консерваторские сцены брались все слушатели курсов. Одни были лучше, другие хуже, но у всех была одна и та же манера фразировать, исполнять речитативом – один и тот же тон. В том, что показал я, было нечто необычное, безусловно, со множеством недостатков, но не традиционное. И в этот день Дюллен работал только со мной. Мне посчастливилось учиться у этого исключительного педагога. И, когда я говорил, что мой провал в Школе драматического искусства был удачей, не зная этого, я оказался прав.
Когда молодые люди спрашивают, как стать актером, я всегда советую курсы. Иногда мне отвечают:
– У меня нет денег.
У меня тоже не было денег. Но уверен, если преподаватель видит у ученика любовь к театру, он не откажет ему в уроках. Мне также говорят в ответ:
– Дюллена уже нет.
Есть другие преподаватели. И я знаю очень хороших. Не нужно забывать, что у каждого – своя философия, но при этом нужно иметь мужество быть к себе очень строгим и самокритичным. Критика необходима. Именно поэтому даже плохой преподаватель полезен.
Я никогда раньше не рассматривал свою профессию как ремесло. Если рассматривать ее как таковое, нужно браться за дело с той же серьезностью и терпением, как за любое другое ремесло. С первых же уроков я понял это. Поэтому после провала в Школе драматического искусства и поступления к Дюллену я решил, что пробуду у него три года, что бы ни случилось.
Меня обижало и задевало отрицательное отношение Розали к моей работе статиста и учебе на курсах. По правде сказать, для нее работа, которая не приносила денег, не была работой. Отсюда возникло разногласие между нами, мучившее меня. И все же, как ни странно, я еще больше любил театр.
После смерти тети вся домашняя работа легла на плечи бабушки. Я все меньше помогал ей, поскольку ложился поздно и вставал тоже поздно. Кроме того, я запирался в спальне, чтобы работать над сценами для курсов. В глазах бабушки театр был постыдным ремеслом, занятием для лентяев. Она вторила Розали.
Однажды вечером мама не вернулась домой. Когда я пришел из театра «Ателье», бабушка ждала меня. Ее покрасневшие глаза ясно говорили, что, такая одинокая в эти часы ожидания, она могла заглушить свои страдания только слезами. Я обнял ее, поцеловал в мокрые щеки. Стол был накрыт. На газовой плите стояли остывшие кастрюли. Я приготовил ей липовый отвар, она выпила его залпом. Ей было холодно. Я принес шерстяной платок. Она сидела в кресле у окна и то и дело подскакивала при малейшем звуке тормозящей машины, протирала запотевшие стекла и говорила:
– Твоя мать убьет меня, твоя мать заставит меня умереть от горя.
Я мечтал спасти Розали, спасти от нее самой. Как? Мне было двадцать два года, я зарабатывал десять франков в день, а нужно было зарабатывать достаточно, чтобы избавить ее от того, что она называла работой. Сколько времени мне понадобится для этого? Я люблю Розали больше всего на свете, а что я делаю для нее? Ничего.
Утром раздался звонок. Я открыл дверь. Какая-то женщина протянула мне письмо. Я узнал почерк Розали. «Я в больнице Ларибуазьер», – писала она. Мать сообщала отделение, палату, просила прийти к ней в часы посещения и тайком принести одежду: плиссированную юбку, свитер, туфли. Она собиралась уйти из больницы со мной. Она добавляла, что здорова.
Возбужденный, счастливый, я понял, что могу спасти Розали. Я хорошо понимал, что речь идет о побеге.
С нетерпением я дожидался часа посещений. Полученных от матери сведений было достаточно, чтобы мне не потребовались дополнительные объяснения. Я спрятал юбку и шерстяной свитер под пальто, туфли завернул в ткань и привязал к своему поясу. Как только я вошел в палату, сразу же увидел Розали. Я подбежал, чтобы поцеловать ее, и незаметно засунул под простыни юбку и свитер. Потом передал ей туфли. Пока мы разговаривали, она оделась. Одеваясь, она рассказала, что ее задержали в магазине, отвели в комиссариат. Во время допроса она схватила горсть булавок, лежавших на столе, и бросила их себе в рот. Комиссар кинулся к ней, стал звать на помощь. Силой удалось открыть ей рот и вытащить булавки. Мать сделала вид, что проглотила часть булавок. Она извивалась от боли, плевалась кровью. Ее отправили в больницу. Из больницы она передала для меня записку с женщиной, которую выписывали.
– Возьми меня под руку, и медленно выйдем, – сказала она.
Мы вышли. Пока мы дошли до такси, казалось, прошли века. Я был счастлив – я стал спасителем Розали.
Мы доехали до Елисейских полей. Взяли другое такси, чтобы доехать до вокзала Сен-Лазар. Здесь прошли через зал, вышли на улицу Амстердам, взяли третье такси и доехали до улицы Пти-Отель, где мы жили.
– Розали! Когда-нибудь я разбогатею и не позволю тебе «работать».
– Жан! Тебе нужно подумать о серьезной работе.
– Дай мне еще год. Если через год я не разбогатею и не добьюсь успеха, обещаю найти работу по твоему усмотрению. А пока, если нужно, я буду тебе помогать.
Итак, я продолжал навещать торговцев мехами, драгоценностями и другие магазины. В конце концов я стал действовать гораздо непринужденнее.
Я наблюдал, как «работает» Розали. Она всегда носила плиссированную юбку с резинкой на талии, которая позволяла делать ее растягивающейся. Под юбку надевала трикотажные брюки, сильно суженные в коленях, а пальто скрывало ее уловку. Летом пальто было из легкой ткани, оно напоминало платье. Во время «работы» Розали полнела на глазах. Мне казалось, что в моем присутствии с ней не случится ничего плохого. Я серьезно верил в свою удачу. Я не сомневался, что до конца года получу роль. Однако я хорошо понимал, что нужно помочь своей удаче.
Режиссер М.Л., узнав, что я работаю статистом у Дюллена, прислал мне записку:
«Господин Жан!
Мне кажется, что я несколько отстал (или забежал вперед) с вами. Я произвел подсчет и констатировал, что с прилагаемым чеком, маленькими ролями и большой картиной в ваш вместительный карман попали три тысячи триста франков. То есть на десять процентов больше, чем я вам обещал. Это не так уж плохо. Как бы только ваш новый возлюбленный “Господин Театр” не заставил вас перейти на черный хлеб, когда вы отказались есть белый. Но, может быть, вы предпочитаете есть черный хлеб. Тем хуже.
М.Л.».
Слово «черный» было подчеркнуто. Следовательно, на М.Л. можно было больше не рассчитывать. Я снова побывал в нескольких кинофирмах, но безрезультатно. Вскоре я узнал, что Жан Кокто собирается ставить новую пьесу. Жан-Пьер Омон должен был играть в ней главную роль. Я хотел встретиться с Жаном Кокто. Для этого мне нужен был его адрес.
У нас с Жан-Пьером Омоном примерно одинаковый тип внешности. Может быть, меня возьмут к нему дублером.
Невозможно отыскать этот адрес. Хотелось верить в свою удачу. Значит, моей удачей будет не знать Жана Кокто. Неудача становилась спасительным предупреждением, направлявшим мою судьбу на лучший путь. Думаю, именно так приходит удача. Она любит, когда ее любят, ей льстит, если ты стараешься высоко нести ее знамя. Это – мнение, которое я высказываю, и совет, который даю.
С этого момента я вновь погрузился в «Юлия Цезаря», больше не думая о Кокто и стараясь хорошо работать. Я надеялся, что Дюллен вознаградит меня за мою преданность и даст мне роли.
Однажды вечером во время антракта в «Юлии Цезаре» ко мне подошла девушка своеобразной внешности – одновременно и некрасивая, и привлекательная.
– Меня зовут Дина, – сказала она. – Я учусь на курсах Руло. Мы создали молодежную группу. Вышла такая история: Руло обещал нам пьесу «Высота 3.200», только для нас, ребят с его курсов. Постепенно вместо нас он набрал звезд. Мы решили не отступать и самим поставить спектакль. Покажем его в июле на выставке. У нас достаточно девушек, но мало ребят. Хотите войти в нашу группу?
– Мне не хотелось бы бросать «Юлия Цезаря», я надеюсь получить здесь роль в будущем году. Я не хочу вызывать недовольство Дюллена.
– Очень жаль, – сказала она, – мне бы хотелось, чтобы вы были с нами.
– Мне тоже жаль… А что это за пьеса?
– «Царь Эдип» Жана Кокто, – уточняет она, удаляясь.
– Подождите, это все меняет!
Я не воспринял всерьез историю с молодыми актерами, но это была возможность вернуться к идее дублировать Жан-Пьера Омона. Я спросил:
– Что нужно делать?
– В субботу, в четыре часа, прослушивание в студии Вакера.
– Без четверти пять я должен буду уйти. Я посещаю курсы Дюллена и никогда не пропускаю занятий.
– Вы пройдете одним из первых. У вас есть сцена?
– «С любовью не шутят».
– А кто-нибудь для реплики?
– Нет.
– Я вам подам реплику.
– До субботы.
В субботу я явился ровно в четыре часа. Кокто нет. Половина пятого, без пятнадцати пять, Кокто все еще нет.
– Я вынужден уйти. Я иду к Дюллену. Вернусь после курсов. Если Кокто захочет меня подождать…
В семь часов я возвращаюсь. Кокто здесь. Он не так молод, как я воображал, удивительно худой, очень элегантный. Его элегантность исходит от него самого, а не от его костюма, который сам по себе не слишком изыскан. Рукава его пиджака подвернуты над тонкими запястьями, несомненно, для удобства. Обшлага рубашки очень тугие, так же как воротник и галстук, кажется, они вот-вот задушат его. Странное, треугольное, удлиненное лицо, на голове беспорядочная шевелюра. Морщинки вокруг живых, умных глаз с очень маленьким зрачком в центре сине-зеленой радужной оболочки, окаймленной голубым.
Он говорит с нами просто, как равный с равными, но говорит один, поскольку никто из нас не осмеливается ввязаться в этот мнимый диалог, превращающийся в монолог.
Он ставит вопросы и дает ответы, разделяемые словечком «да?». Он продолжает: «Вы еще не показывали свою сцену, да? Я вас слушаю».
Я играю роль Пердикана. Дина, подающая мне реплики, изумительна. Она горит, искрится. Это первая великая актриса, которую я вижу перед собой. Это мне помогает. У меня такое ощущение, что я превзошел самого себя.
Жан Кокто поручил мне главную роль – роль Эдипа. Я узнаю, что помимо «Царя Эдипа» мы будем играть в этой же программе «Макбета», который поставит Жюльен Берто. Я буду играть Малкольма. Все это я слушал, как во сне.
После ухода Жана Кокто произошло замешательство, причину которого я не понял. Дина спросила мой номер телефона, обещала позвонить.
То, что Жан Кокто дал мне главную роль Эдипа, не устраивало труппу. Приглашенный сверх штата, я оказался на первом месте. Они пошли к Кокто, объяснили ему, что я с других курсов и что это несправедливо. Кокто все понял и отдал роль Эдипа Мишелю Витольду, а мне поручил роль человека из хора. Но я должен был остаться Малкольмом в «Макбете».