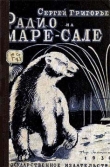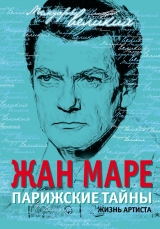
Текст книги "Парижские тайны. Жизнь артиста"
Автор книги: Жан Маре
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Жан Маре
Парижские тайны. Жизнь артиста
© Елена Турышева, перевод на русский язык, 2014
©ООО Издательство «Алгоритм», 2014
* * *
Я ложь, которая всегда говорит правду.
Жан Кокто
1
В Монтаржи Жан Кокто писал «Трудных родителей». Однажды к нам зашел Макс Жакоб. Он составил мой гороскоп: «Вы – Лорензаччо[1]1
Герой одноименной пьесы Альфреда де Мюссе. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть], бойтесь совершить убийство», – написал он; и слова «бойтесь совершить убийство» были дважды подчеркнуты синим карандашом.
В то время я думал, что он имел в виду мое амплуа в театре. Позднее я понял его правоту. Я был Лорензаччо, а синий карандаш спас меня от совершения убийства.
Этот поэт открыл мне смысл Лорензаччо в тот момент, когда я лишь недавно стал им. И все же с самого детства я бессознательно стремился к этому. Я следовал по пути, который не был моим. Мной управляла неудержимая сила, которую я считал кокетством. Желая нравиться, я старался скрыть свои недостатки и контролировать реакции. Как мне это удалось? Теперь мне это трудно объяснить. Я так старательно скрыл «чудовище» под множеством достоинств, собранных отовсюду, что оно кажется уснувшим, иногда – умершим. Я могу взглянуть в его глаза – ведь это мои глаза.
Несколько лет назад «Парижское издательство» попросило меня написать воспоминания. Я возразил, что еще слишком молод и к тому же не умею писать. Хотя и вышла моя книга «Мои признания», на четвертой стороне обложки можно было прочитать: «Я помог Жану Маре привести в порядок эти признания, собранные третьим лицом. Моя роль, следовательно, была слишком мала, чтобы я мог поставить свое имя под заглавием рядом с его именем. Но я проникся любовью к Жану Маре и еще больше восхищением: его чистотой, амбициями, желанием делать гораздо больше, чем просто нравиться… Известная газета иронически отозвалась о моей работе. Этим она отвечала на некоторые мои критические замечания, опубликованные в “Комба” и адресованные видному христианскому писателю, возглавляющему эту газету. Не вижу здесь никакой связи. Но поскольку это было сделано, скажите, чье сердце ближе к Богу, этого великого человека или Жана Маре?»
Подписано – Морис Клавель, кого я люблю и кем восхищаюсь.

Ложные положения, обман предшествовали моему рождению: Луиза Шнель, моя бабушка, была родом из Эльзаса. У нее было множество братьев и сестер. Из ее сестер я знал только трех – Евгению, Мадлен и Жозефину.
Луиза вышла замуж за Модеста Вассора, уехала в Париж и родила троих детей: Альбера, Мадлен и Мари-Алину.
Модест был игроком. Деньги улетучивались.
Жозефина вышла замуж за Анри Безона. Это был очаровательный человек, работящий, честный, вскоре он стал директором страховой компании «Ля Провиданс», в которой работал. У супругов не было детей. Жозефина и Анри вырастили Мари-Алину, младшую из детей Луизы. Мари-Алина стала называться Генриеттой, и вскоре мадемуазель Вассор превратилась в мадемуазель Безон: ложные положения начались.
Новоявленная Генриетта Безон вышла замуж за Альфреда Вилен-Маре, называвшего себя просто Альфред Маре. Альфред был студентом, будущим ветеринаром. Генриетта воспитывалась в монастыре, она хотела стать монахиней. Анри Безон уговорил ее выйти замуж. Вскоре он умер от диабета. Альфред увез Генриетту в Шербур, где обосновался. Тетя Жозефина переехала к ним. У Генриетты родились трое детей: Анри в 1909 году, Мадлен в 1911-м и я, Жан, 11 декабря 1913 года.
Ложное положение: моя мать отказалась меня видеть. Ее дочь Мадлен умерла за несколько дней до моего появления на свет; она хотела еще девочку. Я обманул ее надежды; я должен был исчезнуть.
Моя бабушка Луиза оставила мужа, чтобы жить вместе со своими сестрой и дочерью.
У меня сохранилось мало воспоминаний о Шербуре. Помню большой, немного грустный дом, стены, оклеенные обоями под сафьян, кузницу… В самом деле к дому примыкали кузница и двор, в котором мы с братом играли. И сейчас еще я ощущаю запах горелой кожи. В моей памяти сохранились лошадка-качалка, детский автомобиль, подарок крестного Эжена (он не был моим настоящим крестным, настоящим был мой брат). Перед домом площадь д’Иветт, казавшаяся мне, ребенку, огромной (нам запрещалось выходить на нее), гора Руль – небольшой серый холм, который в моем воображении был полон тайн. В памяти встают также осколки бутылок на плохоньком пляже, мой бархатный костюмчик темно-синего цвета с отложным воротником и весь сопутствующий церемониал: завивка волос щипцами, обожженные уши, тросточка, которую я ронял через каждые два метра…
А как забыть внушения мамы по дороге в кинематограф, когда мы отправлялись смотреть Пирл Уайт?
Тогда, конечно, и родилась моя мечта стать актером. Я был влюблен в великолепную блондинку Пирл Уайт. Множество моих кукол, носивших имя Пирл Уайт, служили мне партнершами, так же как и оловянные солдатики, для того чтобы разыгрывать эпизоды из «Тайн Нью-Йорка», которые я перекраивал соответственно размерам моей детской.
В Шербуре моя мать слыла «парижанкой». Ее косметика, даже очень легкая, поражала их. Ее платья, пошитые по последней моде, высокие каблуки, духи, даже то, что она заставляла детей принимать ванну, – все удивляло окружающих. Это, конечно, воспоминания не мои, а матери, которыми она делилась с братом и со мной.
С 1914 по 1918 год я переболел всеми болезнями, которые может подхватить ребенок: коклюш, корь, скарлатина, абсцессы в ушах, бронхит и, ко всему прочему, испанка. Этот грипп называли «испанский», чтобы не произносить слово «чума», которое могло всполошить людей. Врачи объявили меня безнадежным, к моим губам подносили зеркальце, чтобы узнать, дышу ли я еще. Мать потребовала, чтобы мне сделали какой-то укол.
– Это его убьет, – ответил врач.
– Раз он все равно должен умереть, я сделаю этот укол сама.
Она потребовала рецепт, врач дал ей его, и мать сделала мне укол.
Она взяла на себя всю ответственность. С 41° температура упала до 36°.
– Я убила его, – сказала мать, обливаясь слезами.
– Вы его спасли, – ответил врач.
Я рассказал этот эпизод, чтобы объяснить характер моей матери. Эта женщина страстно любила своих двоих детей.
Еще она рассказывала о чудовищной поездке из Шербура в Гавр, которую мы проделали вместе, чтобы посоветоваться со специалистом: я страдал абсцессами в ушах. Шла война, и достать машину было просто немыслимо.
Моя мать была одновременно строгой и справедливой, нежной и суровой, веселой и серьезной, элегантной и красивой, красивее Пирл Уайт. Что касается моего отца, я почти не знал его, поскольку он ушел на войну в 1914 году. Мне было пять лет, когда он вернулся. В день его приезда я, по словам матери, сидел верхом на сенбернаре. «Отец хотел спустить тебя на землю, а ты сказал: “Кто этот здоровый дуралей, который мне мешает?” Он дал тебе пощечину. Тогда я решила уехать с тобой и твоим братом Анри. Моя тетя и твоя бабушка поехали с нами».
В день отъезда мать решила с блеском отпраздновать разрыв. Весь дом был ярко освещен. Ее отъезд превратился для меня в оперную феерию. Феерия продолжалась в вагоне-салоне поезда, увозившего нас в Париж.
Мой мнимый дядя, мой ненастоящий крестный, офицер, прикомандированный к морскому порту в Шербуре, занимался организацией президентских поездок. Благодаря ему мы бесплатно путешествовали в роскоши, которая существует сейчас, кажется, только для президентов Республики. Ехали все вместе: мать, бабушка, двоюродная бабушка, мой брат и я.
Для меня все это закончилось в комнатенке консьержки, мадам Бульмье: консьержка была подругой Берты Колло, а Берта Колло – подругой матери; подругой и ее козлом отпущения. Мама, бабушка и тетя Жозефина остановились в отеле до того времени, пока будет найден дом. Нас с братом поручили подруге Берте, которая, не имея у себя места для двоих, перепоручила меня консьержке. Я подружился с мадам Бульмье, с ее собакой по кличке Мальчик и влюбился в ее дочку Фернанду, которая была на девять лет старше меня. Я решил, что женюсь на ней, и был верен ей до пятнадцати лет. Я забыл о Робере, ее ровеснике; их обручение носило куда более серьезный характер, и это приводило меня в ярость. «Ну и пусть, – успокаивал я себя, – я женюсь на маме».
Мама навещала меня. Эти славные люди принимали ее с такой же теплотой и почтением, с каким крестьяне-роялисты встречали Марию-Антуанетту во время ее бегства в Варенн.
Мое восхищение и любовь к матери росли с каждым днем. Для меня не было ничего прекраснее, чудеснее этого блестящего, надушенного существа. Мать была нежной. Я любил обнимать ее, целовать ее белоснежную шею, аромат которой, смешанный с запахом пудры, потрясал меня. Я любил обнимать подол ее платья, из-под которого выглядывали маленькие ножки в кожаных туфельках под цвет платья.
Когда она уходила, мир рушился. Даже Фернанда не могла заставить меня улыбнуться.
Наконец мать приехала, чтобы забрать меня окончательно. Мысль о том, что я покину Фернанду, мадам Бульмье, Берту, ее сына Робера, вызвала поток слез. Но зато я уезжал с мамой, держа ее под руку, в такси! Мои слезы быстро высохли. Мы поедем на поезде! Вот это жизнь!
2
Мать сняла в Везине ужасный дом из грубого камня. Его башенка приводила меня в восторг. Бассейн в саду, величиной не более трех метров, окруженный декоративными скалами, казался мне огромным, как море. Замок! Мы живем в замке. Моя мать была принцессой. Жизнь постепенно налаживалась. Бабушки разделили между собой обязанности. Никаких слуг. Это было странно для замка Бога. Тетя Жозефина убирала первый этаж, стирала, готовила завтрак, ходила на рынок и присматривала за моим братом Анри, бабушке достались второй и третий этажи, обед, глажка белья, шитье и я.
С пяти до семи часов вечера они играли в жаке[2]2
Настольная игра с костями и фишками.
[Закрыть]. Для меня игра в жаке была сигналом, что уже недолго осталось ждать возвращения матери. Я жил этим ожиданием, продолжая играть, как обычно играют дети. Но с пяти до семи мои игры несколько менялись; сидя под большой скатертью в столовой или зимой на корточках перед камином, я погружался в мир, в который я один мог проникать. Там я встречался с друзьями и врагами, известными только мне. Так я оставался недвижим до того момента, когда, казалось, тело мое стало настолько бесплотным, что, если я попытаюсь зажать запястье между большим и указательным пальцами, они соприкоснутся сквозь тело. Это было мучительное и одновременно блаженное чувство. В то же время я прислушивался к разговору, который велся за игрой. Я угадывал смутное беспокойство по поводу матери, и это беспокойство постепенно овладевало мной. Я не старался от него избавиться, наоборот, я держался до тех пор, пока оно становилось почти нестерпимым. Сидя под столом, я плакал и в то же время наблюдал за собой плачущим. И мои горькие слезы доставляли мне наслаждение.
Появлялась мама. Я слышал: «Как ты поздно! Мы так беспокоились. Зачем ты заставляешь нас так волноваться?» Тогда я появлялся из-под скатерти.
Это была ни с чем не сравнимая радость, праздник. И каждый вечер, когда мать возвращалась, я обнимал ее так, будто она, наподобие Пирл Уайт в «Тайнах Нью-Йорка», прошла через тысячу опасностей, преодолела непреодолимые препятствия, чтобы вернуться к нам.
Всякий раз, возвращаясь с кучей свертков в руках, мать создавала атмосферу Рождества. Иногда нам с братом разрешалось открывать пакеты. Какое великолепие! Десерты и ранние овощи, одежда для нас и двух наших милых старушек. Были еще и другие вещи, которые мать уносила в свою комнату. В ее комнате все было голубым: занавеси, кресла, ковры, покрывало, обои. Обивка на мебели 1900 года, подделка под стиль Людовика XV.
Мама спускалась ужинать. Моя принцесса была похожа на Золушку перед балом: старый пеньюар, дырявый, выцветший, весь в разноцветных заплатках. Ужин, всегда превосходный, состоял из одного блюда и множества десертов.
– Была у Эжена, сказала, что он должен сделать это для детей… (Эжен – мой ненастоящий крестный.)
Эта фраза навсегда врезалась мне в память. Мать рассказывала о событиях дня, вернее, о том, что она могла рассказать.
На почте:
– Мошенница!
– Что вы сказали?
Служащий высовывает голову из окошка и повторяет:
– Мошенница!
Я даю ему пощечину. Дело заканчивается комиссариатом. Эжен все уладил.
Или еще:
– Я опаздывала на поезд, бегу и налетаю на какого-то типа, который мне кричит: «Грязная шлюха!» Я ему ответила: «Шлюха – может быть, но не грязная».
– Мама, что такое шлюха?
Мама объясняет:
– Это такая птица, очень красивая и элегантная[3]3
Игра слов: la grue – 1) журавль; 2) шлюха (фр.).
[Закрыть].
– О? В таком случае ты должна быть довольна!
Огромным счастьем было для меня спать в маминой кровати, как и для всех детей, я думаю. По-моему, ей это тоже нравилось. Но самой большой радостью для меня было получить допуск в ванную утром, перед ее уходом.
Эта ванная комната была единственной в своем роде. Она находилась напротив голубой комнаты, с другой стороны коридора, ведущего к тетиной комнате, над кабинетом, служившим нам иногда для занятий, но больше всего для хранения игрушек. Единственное окно ванной, до которого трудно было добраться из-за тесноты, выходило в сад. Огромный шкаф XIX века занимал очень много места. В его ящиках можно было найти железные и картонные коробки, наполненные вуалетками, лоскутками, кусочками пемзы, заколками для волос, разного рода тесемками всех цветов и размеров, газетами для опробования температуры щипцов разной величины для завивки волос, купальными шапочками, краской для ресниц, пудрой и тысячью других вещей. Кроме того, он был забит разнообразными странными предметами: там находились таз, кувшин к которому был давно разбит, мыльницы всех видов с мылом разного цвета и разных сортов, палочки губной помады, стаканчики для чистки зубов, десятки использованных и новых зубных щеток, щетки для волос и т. д.
Посреди комнаты стоял круглый стол с керосинкой, от которого исходил чарующий запах: там постоянно подогревались чайники с водой, наготове стояли побелевшие от извести кастрюли. На газовой плитке, помещавшейся на деревянной этажерке, нагревались другие щипцы для завивки. Там была еще серая ванна без облицовки, на полу растрескавшийся, дырявый линолеум. На полинявших стенах на бесчисленных кнопках держались веревочки, к которым были прицеплены разномастные полотенца. От всего этого хлама шел странный запах – смесь керосиновой копоти, жженой бумаги и волос, пудры и духов фирмы Герлен. Да, я забыл про флаконы всех фирм и размеров. Еще я забыл упомянуть о больших этажерках, к которым гвоздями были приколочены старые занавески, скрывающие выцветшие купальные халаты.
Сидя под этими занавесками прямо на старом линолеуме, я присутствовал при волшебстве.
Мрачная ванная комната превращалась в лабораторию красоты. Это было моей великой привилегией, наполнявшей меня какой-то странной радостью.
Покончив с косметикой и прической, мать приступала к выбору украшений. Она превращалась в кумира – мне хотелось самому вдеть ей серьги в уши, надеть колье, браслеты, кольца. Иногда мне разрешалось выбрать платье, и я был счастлив и горд, если с моим выбором соглашались. Наконец, наступал черед шляпы, вуалетки, перчаток.
Золушка была готова к балу. Я провожал ее до садовой калитки. Каждый ее уход был для меня потрясением. Она садилась в поезд на станции Пек. Это еще одна маленькая деталь, говорящая о ложности нашего положения, поскольку жили мы тогда в Везине.
Иногда мама брала нас с собой, обычно по четвергам. Для меня все было радостью: поездка на пригородном поезде, вокзал Сен-Лазар, такси и особенно кино!
Больше всего я любил фильмы ужасов и приключенческие; моими любимыми актерами были Пирл Уайт, Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Нита Нальди. Но наивысшим счастьем для меня было сидеть рядом с матерью. Я был счастлив, и меня переполняла гордость из-за обращенных на нее взглядов – все головы поворачивались в ее сторону, когда она входила, – и ни капельки не ревновал.
Часто мы ходили в гости к моему мнимому крестному в его контору на вокзале Сен-Лазар, где он занимал теперь должность начальника.
Иногда наши посещения не имели никакой определенной цели; чаще они были вынужденными: нас силой приводили в комиссариат, например, когда моя героиня путешествовала без билета или отказывалась предъявить его по той простой причине, что у контролера не было белых перчаток; или еще потому, что мать дала пощечину какому-нибудь бедняге, настолько неудачливому, что ему же приходилось приносить ей свои извинения в присутствии комиссара.
Брат не находил себе места от смущения. А я ликовал. Мне казалось, что все права на стороне мамы; она не была похожа ни на одну другую мать. Почему? Потому, что моя мать была подругой Бога, может быть, его женой, может быть, его матерью… Его матерью… но тогда, может быть, я, ну, конечно же, я был Богом. Иначе почему бы я был я?
Я представлял себе, как вхожу в кинотеатр в будний день, но не в четверг; в зале, очевидно, никого нет, потому что меня не ждут; мысленно я даю пощечину кондуктору в автобусе, и на мой взгляд, взгляд ребенка, возомнившего себя Богом, кондуктор неминуемо должен обратиться в пепел.
«Если бы ты был Богом, ты бы знал об этом, – говорил я себе. – А ты захотел устроить себе каникулы, прожив человеческую жизнь, и поставил условие – никто не должен тебе этого говорить. Это игра Бога; я забавляюсь, представляясь ребенком человека. Дата моего возвращения назначена заранее».
Меня приняли учиться экстерном в церковную школу в Везине, а брата – в коллеж Сен-Жермен-ан-Ле. Тетя Жозефина, усердно посещавшая церковь, пустила в ход интриги и добилась, чтобы я стал служкой. Я был там самым младшим, подстриженным под Жанну д’Арк. Эта должность нравилась мне в основном из-за одеяния, но мне казалось странным, что приходится прислуживать священнику, который, не подозревая этого, служил мне же, поскольку я был Богом.
Вскоре я понял, что однажды уже спускался на землю. Не удивительно, что мне захотелось закончить свою первую жизнь драмой. И в этот раз я, как всегда, отдал предпочтение историям с плохим концом и фильмам ужасов.
Мои родные не любили, когда я приводил в дом сверстников. Посещения дяди Эжена (моего ненастоящего крестного) становились все более редкими. Зато время от времени приходил другой человек, ненастоящий дядя по имени Жак де Баланси. Высокий, темноволосый, элегантный, он называл себя двоюродным братом Сен-Гранье. Когда его спрашивали, чем он занимается, он отвечал, как моя мать: «Делами». Был здесь еще один нюанс: во время его посещений я не имел права заходить в голубую комнату.
Приходила также Берта Колло с сыном и Фернандой Бульмье, моей «невестой» из Порт де Лиля. Мы играли в крокет, и в этой игре мать не имела равных. Она надевала не будничную бедную одежду, а очаровательное голубое платье, так называемое домашнее, обшитое по подолу маленькими деревянными шариками, обтянутыми таким же атласом, как и платье.
Она любила устраивать розыгрыши. Чтобы испугать Берту, она переодевалась грабителем; чтобы поставить ее в затруднительное положение, наряжалась тетей Мадлен, прибывшей из Страсбура. Сама Берта тоже участвовала в этих проделках: она, например, позволяла привязать себя к соломенному матрацу и скатывалась на спине вниз по лестнице, ставшей аттракционной горкой, или давала отвезти себя в связанном виде на тачке до самого вокзала.
В своих проделках мать не знала никакой меры. Чего тут только не было: привидения, дождь в комнате Берты, устроенный с помощью шлангов для полива; покрашенное в желтый цвет белое белье Берты, которое она только что постирала. Бедная Берта дрожала, кричала, плакала, а мы смеялись, смеялись вовсю! Берта говорила: «Что она еще выкинет? Ноги моей здесь не будет!» Но всякий раз она возвращалась, ждала и надеялась.
Маленькая, тощая, почти уродливая, лицо в морщинах, с добрыми и нежными глазами, она обожала мою мать, которая была полной ее противоположностью. Мать дарила ей платья, шляпы, сумки, пояса, дешевые украшения. По-моему, она любила Берту столь же нежно, но развлекалась ею, как игрушкой. Иногда игры эти были довольно жестокими: однажды мать загримировала ее сына Робера под мертвеца и уложила в кровать Берты, оставив на ночном столике бутылку с надписью «яд».

Жан Маре на руках у матери. Шербург. 1914 г.
Эти примеры оказались для меня пагубными. Я тоже хотел сыграть «свою» шутку. Как-то раз я проник в тетину комнату и отыскал ее драгоценности. Я отправился в беседку и молотком расколол все камни, весь жемчуг, затем положил расплющенные оправы на прежнее место. Все решили, что я сделал это из мести, и даже через много лет, когда, будучи взрослым, я рассказывал эту историю в присутствии матери, она не хотела верить, что это была только шутка.
Вскоре мы переехали из Везине в Шату. Теперь мы жили под фамилией Морель. На мои вопросы мать отвечала, что нас разыскивает отец и нам необходимо скрываться. Смена фамилии, местожительства – все приводило меня в восторг. Я совсем не сожалел о башенке и бассейне. К тому же меня отдали на полупансион в Сен-Жерменский коллеж, где учился мой брат. Я становился взрослым.
Дом в Шату был менее уродлив, но оригинальностью не отличался. Квадратный, подделка под стиль Людовика XIII, окруженный садом. Внутри были гостиная, столовая, где мы чаще всего находились, кухня, небольшой кабинет. На втором этаже, у входа на лестницу, была комната бабушки; рядом – комната мамы, неизменно голубая. Напротив – ванная, затем комната тети. На третьем этаже – наша с братом комната (теперь мы спали в одной постели). Два чердачных помещения, маленькое и большое. Та же мебель, те же обои, что и в предыдущем доме; те же уходы утром, те же возвращения, сопровождающиеся привычными волнениями.
Кроме нас, появились еще двое – черный кот и немецкая овчарка по кличке Каргэ.
Мать была суровой, но справедливой.
Мы с братом не понимали, кого из нас она любит больше.
Она научила нас побеждать страх. Мы оба, Анри и я, действительно были трусливыми. Я боялся спускаться в погреб. Бывало, я ревел от страха, когда скрипел пол на чердаке над нашей спальней. Прежде чем лечь спать, мы заглядывали под кровать, в шкафы, боясь, что там кто-то прячется.
Мать научила нас быть справедливыми и мужественными: не стонать от раны, сохранять невозмутимость даже при жестоком обращении, например при прикладывании припарок, с помощью которых она боролась с нашими бронхитами. Наконец, не выдавать другого, дать наказать себя по ошибке, не назвав настоящего виновного. Случалось, что я недостойно пользовался этим: когда меня наказывали в коллеже, я утверждал, что это вместо товарища. В эту ложь не всегда верили, но мать делала вид, что верит. Я не часто прибегал к этому средству, только в самых серьезных случаях. Мать учила нас быть солидарными. Если брата лишали десерта, я должен был отдать ему половину своего, и наоборот.
Не знающий страха, подлости, не боящийся боли, я был главарем банды, о котором можно было только мечтать. Я стал им в коллеже. Настоящее «маленькое чудовище» с лицом ангела. Я врал, воровал, воровал все, что попадалось на глаза, и везде. Из карманов, из портфелей, из столов, в раздевалках. Даже из сумок бабушки и тети. Из сумок матери – никогда. Чаще всего украденные вещи были мне не нужны, и я выбрасывал их, чтобы избежать расспросов дома.
Однажды, украв коробку с красками, не нужную мне, поскольку я не рисовал, я начал рисовать.
Я организовывал банды и возглавлял их. Я платил своим наемникам лакрицей, леденцами и другими товарами, которые покупал у привратника коллежа. Я тратил на это огромные суммы, которые черпал, в основном, из тетиной сумки, почти всегда висевшей на вешалке при входе в столовую. Проходя мимо, я запускал руку в сумку и брал одну купюру. Я никогда заранее не знал, что вытащу. Это была своего рода лотерея. Увы! Когда там бывало мало денег, тетя замечала пропажу. Опасаясь, что вором может оказаться мой брат, она молчала. Анри был ее любимцем, тогда как я был любимцем бабушки. Тетя просто прятала сумку. Мы всегда находили ее. Я говорю «мы», потому что узнал, что Анри действовал так же. Не зная, куда еще ее спрятать, тетя положила ее в кухонную плиту. Она забыла о ней и сожгла сумку вместе с деньгами.
Тетя была «богатой» родственницей, бабушка – бедной. Будучи рантье, тетя работала по дому, как служанка.
Мать приносила деньги, которые получала от своих «дел». Судя по нашей одежде, игрушкам, платьям, мехам, драгоценностям моей матери, мы, казалось, жили в достатке. И в то же время не было никаких слуг, никаких гостей, приходили только старые друзья, о которых я уже говорил.
Учился я плохо. Меня забрали из коллежа Сен-Жермен и поместили в лицей «Кондорсе»[4]4
Бывший монастырь, с 1804 г. один из известнейших парижских лицеев.
[Закрыть]. Каждый день я ездил на поезде в Париж. Здесь я встретил свою третью любовь. Я забыл рассказать о второй. Первой была Фернанда, второй – дочь сторожа газового завода, расположенного неподалеку от нашего дома в Везине. Она была на два года старше меня и звалась Кармен.
Третью мою любовь, из поезда, тоже звали Кармен. Мне было двенадцать лет, ей – пятнадцать. Я был робким влюбленным – осмеливался только прижиматься к ней, когда в вагоне было полно народу, сопровождать ее или писать записки, которые я засовывал ей в сумку. Однажды к нам домой пришли полицейские. Кармен арестовали на бульваре Клиши. Они разыскивали ее сутенера, нашли письмо с моим адресом. Они пришли меня арестовать. Меня показали. Наверное, они до сих пор смеются!
В «Кондорсе» я вел себя не лучше, чем в Сен-Жермене. У меня возникла гениальная идея завести два дневника: один с настоящими оценками, то есть с очень плохими, который я подписывал вместо родителей, другой – с оценками от 18 до 20, в котором я расписывался вместо преподавателей и который показывал матери.
Все шло прекрасно до того дня, когда меня отчислили за плохую учебу. Возмущенная мать решила устроить скандал.
Поскольку я не мог больше поступить ни в один лицей, раз меня выгнали из «Кондорсе», мой ненастоящий дядя Жак де Баланси достал справку, по которой он значился моим наставником, и где утверждалось, что я никогда вообще не посещал школу!
Так я был определен на полный пансион в Жансон де Сайи в качестве наказания. На самом деле это было для меня наградой, ведь эта справка льстила моему самолюбию.
Единственное, что меня огорчало, это возможность видеть мать только по четвергам и воскресеньям. Мне исполнилось тринадцать лет. Поскольку я очень отстал, меня определили в шестой класс, где различные предметы вели разные учителя. В первый день я представился им под разными фамилиями. Разумеется, это очень скоро обнаружилось. Меня наказали, но я стал героем среди товарищей, потакавших лентяю и бузотеру. Среда Жансона, где учились дети богачей, была хорошей почвой для развития у меня патологического вранья и привычки обманывать.
Брат Анри остался в коллеже Сен-Жермен. Проверить мою ложь было невозможно. Для всех я был сыном очень богатых родителей, родственников Кассаньяков, то есть потомственных аристократов. У нас четыре замка, десять автомобилей, множество слуг. Однажды мать, забиравшая меня по четвергам, позвонила директору лицея, сообщив, что не может приехать за мной. Ее такси попало в аварию. Директор сказал мне об этом при всем классе: он произнес слово «автомобиль». Это разом подтверждало все мои истории, мои «испано», «делажи», «делаэ» и «вуазены»[5]5
Названия марок автомобилей и самолета.
[Закрыть].
Я нисколько не волновался за мать. Мать Господа – неуязвима.
Я сочинил также, что она актриса. Меня спрашивали:
– Где она играет?
Я отвечал:
– В «Комеди Франсез».
Я не знал ни одного актера этого театра и был уверен, что мои товарищи знали не больше моего.
Преподаватели и классные наставники очень любили меня и лишь того и желали, чтобы сделать своим любимцем. Но, став «любимчиком», я потерял бы уважение товарищей. Поэтому я бузил, как бешеный, чтобы отбить у преподавателей всякую симпатию к себе.
Однажды я доверился преподавателю французского языка, расспрашивавшему меня с приветливостью, которую я принял за дружбу. Я признался ему, что хочу стать киноактером. На следующий день при всем классе он обратился ко мне:
– Месье Маре, пока вы еще не стали звездой…
Я встал и молча вышел. В течение года я ни разу не присутствовал на его уроках.
Время, отведенное на уроки французского языка, я проводил, играя в прятки с главным наставником. Я придумал игру. Она заключалась в том, чтобы учитель удалил меня и моих товарищей из класса и мы все вместе убегали от главного наставника, в обязанности которого входило следить, чтобы ученики не болтались по коридорам. Выгнанные из класса должны были находиться в дежурном помещении или множество раз переписывать заданные строчки, как в дни, когда их оставляли после уроков. Мы кричали классному наставнику «Эй, ты!», затем все разбегались по лестницам, дортуарам или туалетным комнатам, где курили сигареты. Я боялся только быть оставленным после уроков по четвергам и воскресеньям, так как в этом случае не смог бы видеться с матерью.
В один из четвергов вместо мамы за мной пришел мой ненастоящий дядя.
– Твоя мать в отъезде, она не хочет, чтобы ты лишился похода в кино, поэтому я ее заменяю, – сказал он.
Кино! Я любил кино, но только чтобы при этом рядом сидела мама и я держал ее руку в темноте зала.
– Она мне не говорила об этой поездке.
– Твоя мать еще вчера ничего не знала, она недолго будет в отъезде.
– А где она?
– В Босолей, на юге Франции.
Мне было тяжело. Я старался не показать Жаку своего огорчения. Она меня не предупредила. Впервые она не сдержала слова. Мать обожала нас с братом. Что заставило ее уехать? Я не знал ни одного родственника, кроме наших милых старушек.
– Она уехала по делам… Ну конечно же, по делам.
– Но чем же мама занимается? Она никогда не говорила мне об этом.
– Делами. Она посредница по продаже мехов.
Жак повел меня в кино, потом покормил и проводил обратно в Жансон.
Он был великолепен, нежнее, чем мог бы быть отец. В лицее ни единой весточки от матери. В субботу вечером за мной пришла тетя Жозефина. (Несколько дней спустя мне пришлось сказать, что это моя гувернантка, поскольку, на мой взгляд, милая старушка выглядела недостаточно представительной.) Я вел себя почти примерно, чтобы не попасть в карцер на случай приезда матери. Но дома не было даже письма!
Мне разрешили написать ей, тетя взялась сама отнести письмо на почту.
Воскресенье потеряло всякий смысл. Я был одинок, растерян. В Жансон я вернулся с тяжелым сердцем. Поведение мое было безупречным, так как я боялся, что меня накажут в четверг или в воскресенье, когда вернется мама.
Но в следующее воскресенье за мной опять пришел Жак.
– От мамы что-нибудь есть?