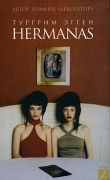Текст книги "Чистые руки"
Автор книги: Жан-Луи Байи
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
– Погоди-ка, а ты не тот, кого мой младший брат называл Мух…
Хватило одного только взгляда, молнии, мелькнувшей за стеклами очков, чтобы наглец прервался на полуслове.
– Вы ничего не сделаете старику, и я рекомендую даже не думать об этом.
– Это не аргумент. Те, кто хочет поспать сегодня ночью, пусть заткнут уши ватой, потому что…
– У меня нет с собой ваты, да и заснуть мне с ней не удастся. Ты, случайно, не малыш Кост? Разве не твой отец подрабатывает иногда у человека, которому ты решил помешать спать этой ночью? Думаю, твой старик обрадуется, когда узнает о ваших планах. Еще больше его осчастливит новость об увольнении из-за скотины, которую он считает за сына.
– Так вы отговорите Коста, но не нас. Пойдем, не слушайте его, расходимся по домам до…
– Судя по всему, я неясно выразился, тогда повторяю каждому из вас, почему нужно отказаться от этого отвратительного замысла. Вы не станете давить на клаксоны и бить по треснутым котлам под окнами у Розы, потому что в глубине души прекрасно знаете: она слишком красивая, благородная и утонченная для вас; и никогда – даже если она не вышла бы замуж сегодня днем, – никогда Роза и взгляда бы не бросила ни на одного из вас; а тот, кому в голову пришла бы мысль хоть пальцем к ней притронуться, тут же получил бы по заслугам.
– А я все равно считаю, что Роза – та еще шлюха, – прошептал неизвестный, спрятавшийся за дымом трубки. Не обратив внимания, Эрнест продолжил:
– Но больше всего на свете вы не захотите превратиться в глазах общественности – не только здешней, но как минимум до самой префектуры – в кучку неотесанных, грязных и невежественных деревенщин, которые грубо насмехались над самым известным в наших краях ученым: молва о нем дошла до Парижа, Лондона, Москвы, Нью-Йорка, Токио – все это благодаря трудам, из которых вы не поймете и слова. Что ж, воплощайте в жизнь свой замысел, и через пару дней весь мир узнает о вашей глупости и возненавидит ее. Вас возненавидит весь мир за то, какие вы узколобые, уродливые, завистливые и злые.
– Как такое возможно? Ребята, вы же понимаете, что все это пустые угрозы.
– Я из этих краев, пусть и возвращаюсь лишь на выходные и каникулы. Я вас всех знаю поименно: Кост, Уге, Мартин, Кабре, Фаре, Давид… Сейчас я пишу статью для журнала «Депеша» – так получилось, что я временный корреспондент нашего кантона, – и кто мне помешает назвать фамилии отважных молодых людей, ответственных за подобные бесчинства? Поверьте, ничего хорошего моя статья вам не сулит…
– Этот тип шуток не понимает. За кого он себя вообще принимает? Вот есть такие люди, с которыми и повеселиться нельзя.
Заговорщики разочаровались, что их замысел был убит еще в зародыше, и разошлись по домам. Эрнест заказал еще бокал белого вина с сахарным сиропом. Секунду назад он говорил твердым голосом, словно человек с особым весом или школьный учитель. Однако ему всего восемнадцать, и теперь, когда хулиганы ушли прочь, он почувствовал дрожь в руках.
Гость
Давно пора: Антельм перестал быть Антельмом. Сперва его начали подводить суставы. В какой-то момент он уже не мог присесть на корточки, чтобы понаблюдать за жизнью личинок, за крылатыми или ползучими насекомыми, за товарищами всей его жизни – после суставов и все остальное уже не годилось ни к черту. Так деградация, овладев коленом или бедром, дошла до мозга. Изможденные бесконечными наблюдениями и палящим солнцем глаза тоже угасли. Теперь Антельму хватало зрения лишь на чтение и письмо в свете недавно проведенного электричества, но насекомые – и уж тем более их восхитительные крылья, очаровательные лапки, пестрая раскраска, золотистые отражения – все это постепенно исчезало из мира Антельма.
Дольше всех продержались слова. Погружаясь в воспоминания и давние записи, Антельм какое-то время продолжал писать, всей душой отдаваясь этому занятию, поскольку фразы, выходившие из-под его пера, были гораздо умнее самого ученого: он становился уродливей, но предложения выглядели прекраснее, чем Антельм в лучшие времена. Он терял силы, но слова плясали на страницах. Он не мог говорить в голос, однако интонация его записей не теряла и капли выразительности: она громыхала, воодушевлялась, гневалась или жаловалась.
Вокруг все говорили, что с головой у старика «все в порядке» – очень удобное выражение, которое скрывает, что остальное поддается гниению, и будто радуется, что есть еще повод не отчаиваться окончательно при виде собственного распада.
Однако с головой у Антельма было не все в порядке. Он повторялся. Каждому гостю ученый твердил, что сам Дарвин нарек его Неподражаемым Наблюдателем, – в этот момент он дрожащей рукой доставал письмо и размахивал им в воздухе. Понемногу Дарвин перестал быть учителем и главным оппонентом, Антельм забыл даже о теории эволюции, и англичанин остался в его памяти лишь тем, кто заметил в никому не известном французе Неподражаемого Наблюдателя. При упоминании об этом на глаза энтомолога наворачивались слезы.
Роза осталась преданной мужу и достаточно крепкой, чтобы схватить его под грудки и пересадить из кровати в кресло-каталку. Их малолетние дети каждое утро заходили к отцу, целовали его в пергаментную щеку и не вспоминали об Антельме до вечерних лобызаний.
Однажды верный Ларивуа принес добрую весть: к ним обещал заехать гость, да еще какой! Давно пора.
– На меня возложена великая честь, дорогой Антельм, сообщить вам почти официальную новость. Я хотел, чтобы вам сообщила Роза, но она настояла, чтобы я сам справился с этой задачей, поскольку считает, будто я приложил руку к этому делу.
Деревенские улицы выложили брусчаткой. Местные ожидали драгоценного гостя.
Президент должен был остаться на пару часов. Гордо водрузив фетровую шляпу и самостоятельно надев скверно отполированные крестьянские туфли, Антельм сидел в кресле на колесиках и показывал свои конструкции, которые уже ни на что не годились, свой стол, за которым он написал лучшие произведения, а также своих преданных жену и собаку.
Затем под звук фанфар чиновники отправились на площадь, где стояла наспех сооруженная сцена, на которую подняли Антельма. Трубы играли фальшиво, как это часто бывает в деревнях, и местные разделились во мнении: одни говорили, будто музыканты находятся под впечатлением от Президента и играют хуже обычного, другие – что бедняги прониклись атмосферой и выжали из себя в тот день все самое лучшее.
Толпа волной хлынула и поглотила деревню. Кортеж проехал под украшенной цветами триумфальной аркой. Энтомолога иногда посещали мысли о смерти: в тот момент он представлял, как Жакети, который возвел это сооружение за одну ночь, на следующий день заколачивает гвозди в крышку его, Антельма, гроба.
Первую речь произносил ректор Академии – сам ректор Академии! Антельм метался между гордостью, что он наконец показал университетам, считавшим его за пустое место, этой системе образования, приговорившей его к нищете и выбросившей прочь, словно извлеченную из-под кожи занозу, и едва сдерживаемой яростью при виде представителя этого мира, который посмел петь хвалу Антельму. В качестве друга доктор Ларивуа был также приглашен произнести речь: она оказалась простой и сердечной, взволнованной и полной восхищения. Врач не брезговал анекдотами и сентиментальными признаниями. В последние несколько месяцев Антельма легко было пробить на слезу – и он всплакнул. Наконец мэр коммуны дрожащим, возбужденным голосом, который не долетал и до второго ряда, признался, какой честью для их деревни стало принимать первого из французов – такого еще никогда не бывало, – и предоставил слово важному гостю.
Со всей значимостью, которой наделяла его занимаемая должность, Президент прочел заранее заготовленную кем-то речь. В ней он назвал Антельма Гомером насекомых – так ученого окрестил Виктор Гюго, в Авиньоне до сих пор висит мемориальная табличка с этими словами на улице, которую назвали в честь ученого. И, конечно же, Неподражаемым Наблюдателем. По мере перечисления у Антельма перед глазами промелькнула вся его долгая жизнь: ребенок-самоучка, иллюстрированный бестиарий, благодаря которому он научился читать, годы, когда он, молодой учитель, делился дровами и постным супом с такими же нищими учениками, как и он сам, корсиканский период с его буйной флорой, поэмы, книги, учебники, репутация, переросшая наконец в славу, и великая дань почтения, в течение долгих лет сыпавшаяся на него от академиков, знаменитых писателей, ученых со всех концов света. Голова пошла кругом: университет, Гюго, Дарвин, Президент, Супруга, Роза, Ларивуа, великие мертвые или живые люди толпились вокруг скрипящего кресла-каталки под звуки фальшивящих фанфар в самом сердце крошечной деревеньки, которая так и не поняла, каким образом Папаша Червь превратился в Гомера насекомых – и сам Президент склонялся перед ним.
Затем представители власти сели на поезд, трубы умолкли, и в тот же вечер глухой шум разбираемой сцены донесся до уставших ушей покоившегося на широкой груди своей супруги Гомера червей, потонувшего в пара́х собственного триумфа.
Покои
Достигнуть апофеоза при жизни – проклятие редкое, но тем не менее проклятие, особенно когда вам перевалило за девяносто и горизонт сужается. Больше ничто не могло вывести Антельма из этого странного, уже ставшего привычным состояния.
Гости приходили один за другим, но разве кто-то мог сравниться с самим Президентом? Например, Ростан посвятил ученому стихотворение, полное восхищения. Антельм хотел бы отплатить ему той же монетой, и, конечно, «Сирано» его весьма позабавил, однако стихосложение, пожалуй, оставляет желать лучшего; вот фелибры отличаются от подобных акробатов, которые в честь старого энтомолога не гнушаются глагольными рифмами. А от «Шантеклера»[4] Антельма бросило в дрожь: поэт ничего не смыслит в животных, зачем вообще о них писать? Пришлось даже целое письмо сочинить и опротестовать гений Ростана – какая мука.
К пятидесяти годам Роза стала еще прекраснее: несмотря на троих детей, ее тело больше походило на скульптуру, вылепленную божественными руками, однако Антельм понял, что жене не нравится чувствовать на себе полный вожделения взгляд старика. Еще меньше ей приятны его руки, больше похожие на когти.
Темы для разговоров с Ларивуа иссякли уже много лет назад, и долгие часы друзья проводили, болтая о каких-то пустяках.
Оставался еще молодой кюре, с которым Антельм любил продолжать споры, начатые давным-давно с его предшественником. Готовый к погребению или встрече на небесах с покойными детьми и Супругой, старик больше не злился на милосердного Бога за то, что тот их украл: Антельм все чаще и чаще задумывался о примирении. Теперь, когда его горизонт обзора сузился, энтомолог угадывал в молодом проповеднике черты любимого сына Жюля. Он с удовольствием отправился бы послушать мессу, однако совсем не мог ходить. Однажды в воскресенье деревенский врач отвез его в церковь на машине – первой во всем кантоне. Событие прогремело на всю округу.
«Вы будете смеяться, месье Кюре, – поделился однажды Антельм, – когда узнаете, по какой причине министерство образования отказалось от моих услуг. Я рассказывал о размножении цветов публике, среди которой присутствовали совсем юные девушки. Такую наглость сочли неуместной, и мне пришлось с позором покинуть лицей. Долгое время за мной влачилась репутация аморалиста и даже распутника. Какое-то время спустя туманная комиссия министерства запретила использовать мои учебники, в которых я намеренно иногда писал об идеях духовности. Сегодня – блудник, завтра – святоша: признайте, месье Кюре, цветы и насекомые достойно мне отплатили за оказанные им услуги…»
К концу тысяча девятьсот тринадцатого года над деревней пролетел аэроплан – первая птица, на свой лад возвестившая о наступлении двадцатого века.
Однако окончательно новое столетие пришло с войной. Она, конечно, долго не продлится: самые большие пессимисты предвещали, что все закончится в пятнадцатом или шестнадцатом году. Деревня находилась далеко от фронта, но уже почувствовала на себе последствия: новые письма иногда провоцировали в семьях ужасные сцены. Поначалу торжественная атмосфера сменилась мраком, и скатерть беспокойства и горечи расстелилась уже по всей округе – вплоть до отшельнического жилища Антельма, куда события редко пробивались сквозь царящую безмятежность.
Старик задумался, что, может быть, на этот раз придется слечь навсегда. После пережитого триумфа смирение станет самым разумным выбором в жизни, уже довольно скупой на подарки.
Однако Антельм не смирился со смирением: конечно, теперь он почти не выходит из дома, остается в тепле, когда холодает, но еще лет десять назад он гулял подолгу и в любую погоду. Он помнил ледяную воду в кувшинах в той ужасной школе, где приходилось преподавать, укутавшись в пальто. С каким наслаждением, не подхватив даже насморка, Антельм следил за личинками в уже скованном льдом пруду, а теперь в теплом доме его настигла пневмония. Во всем происходящем можно разглядеть злую иронию, а может, и несправедливость: в последний раз поговорить с другом Ларивуа, произнести кюре слова, которых тот ждал, подержать Розу за руку – и вот пора умирать.
На подушке лежит его прекрасная голова, похожая на череп хищной птицы, заострившаяся и осунувшаяся со временем, которое превратило Антельма в великолепного покойника. Разговор с духовником вышел не из легких. Прилежная прихожанка Роза обсудила с кюре лишь самое необходимое. Обернуть четки вокруг костистых пальцев показалось им лишним. Однако на прикроватном столике рядом лежали Новый Завет и томик «Энтомологических воспоминаний» – счастливый компромисс.
Бывший ученик Антельма, верный последователь и непревзойденный химик Шарль Майу сделал посмертную фотографию. Несмотря на закрытые веки, энтомолог на снимке окружен светом, словно догорающим огнем, который все эти годы царил в его незабываемом взгляде.
Пришел еще один мужчина, едва переваливший за возраст, в котором отправляют на фронт. Роза его узнала, но не посмела назвать по прозвищу, а имя Эрнест забыла. Он постоял какое-то время у тела Антельма и затем отправился со вдовой на кухню поделиться одной мыслью.
У могилы
Десять лет спустя, приступая к жизнеописанию Антельма, которое должно было завершать сборник воспоминаний, доктор Ларивуа по-прежнему дивился произошедшему.
У могилы одна речь сменяла другую. Люди стояли густой толпой; некоторые из них приехали издалека, несмотря на сложности из-за войны. О ней даже почти забыли на короткое время похорон, если не принимать во внимание нескольких намеков, воспевающих гениального француза. Некоторые представители власти подчеркивали, какой славой прогремело имя Антельма по всему земному шару, и напомнили, какой великий гражданин покинул нас в тот день. Также пришли поэты: они с вибрацией в голосе болтали между собой на провансальском. Ученые воспели вклад Антельма в копилку знаний человечества и горизонт его исследований. Церемония несколько затянулась, как вдруг произошло чудо.
Кто-то заметил, как по гробу ползет божья коровка. На светлое дерево опустился рой сверчков. Затем кузнечик в компании нескольких богомолов, чью свирепость Антельм описал в своих трудах, и все та же божья коровка столпились на гробовой крышке человека, до которого никто о них не рассказывал в таких подробностях.
Ларивуа ошеломленно озирался по сторонам в надежде, что все стали свидетелями этой сцены. Люди перешептывались и, несмотря на скорбный повод, обменивались улыбками. С того момента Ларивуа начал думать над достойной фразой, которой можно было бы завершить биографию великого ученого.
Слепень и Роза смотрели в тот момент лишь друг на друга. Можно было подумать, будто они единственные ничего не заметили. Но в момент соболезнований рука вдовы сжала чуть сильнее ладонь достойного Эрнеста, и хватило одного лишь взгляда.
«Ваш супруг, – сказал он накануне Розе на кухне, – повторял, что меня переполняют потрясающие идеи – кстати, именно от него я узнал это слово. Мне в голову только что пришла, пожалуй, самая блестящая мысль. Только выслушайте, не сердитесь. В тот момент, когда покойника уложат в гроб, мне нужно будет остаться ненадолго – буквально на минутку – в погребальной комнате. Вы выведете людей, словно забыв обо мне, и тут же вернетесь напомнить, чтобы я покинул помещение. После придут гробовщики и положат крышку». Роза заверила Эрнеста, что может так сделать. Она вдова и хозяйка дома – ее послушаются. Эрнест продолжил: «Мне понадобится несколько секунд, чтобы намазать крышку смесью из тонко перемолотых яблок и семян, которая привлечет осенних насекомых. Я знаю, каких именно и что им нравится, – угадайте, кто меня всему этому научил. Смесь получится немного клейкая, поэтому останется на гробе и будет выглядеть как легкий дефект лакировки. Люди не заметят, а вот насекомые учуют».
Сначала Роза рассердилась и ответила Эрнесту, что он сошел с ума и момент совсем неподходящий для подобных шуточек. Да и вообще дурачить покойника казалось ей сомнительной затеей – бедный супруг вряд ли оценил бы подобные выходки. Эрнест возразил, что многие будут обращаться к Антельму у могилы, но он этих речей все равно не услышит, а своим поступком юноша воздаст ученому почести – никаких насмешек над усопшим. Что вы на это скажете?
Роза согласилась.
Могила
Другая могила Антельма находится не в Провансе, а в Брюсселе.
Действительно ли речь идет о дальнем родственнике, как нам хотелось бы верить? Неважно. Человек с такой же фамилией настолько восхищался энтомологом, что сложил тысячи панцирей скарабеев в величественную скульптуру на потолке в королевском дворце.
Это элемент декора в форме полусферы или свода из бесчисленных деталей, где каждое насекомое переливается своим оттенком – достаточно сдвинуться на одну десятую градуса, и цвета изменятся от синего к зеленому или от изумрудного к золотому. Так все смотрят на один и тот же потолок, но даже рядом стоящие люди не могут сказать, что видят одни и те же переливы.
Великолепие этой скульптуры невозможно описать, поскольку слова растворяются перед ослепительной красотой: то небольшое впечатление, пусть и отдаленно поддающееся словам, напоминает, как ребенок завороженно наблюдает за скарабеем в солнечный день.
Этот монумент хранит память об Антельме: о чистом восхищении перед гением природы или ее великим управителем, перед невероятной роскошью, доверенной самым ничтожным из существ, – золотой скарабей словно кричит о том, что прошепчет любая мошка, если мы умели бы ее выслушать. Этот монумент хранит память о бесконечном терпении, педантичности и строгости при сборе подобной коллекции, и даже память о языке, на котором писал Антельм, таком же переливающемся и непредсказуемом с каждой новой строкой. Кто знает, может, в этих золотых, мерцающих то тут, то там осколках, без конца застигающих врасплох наблюдателя, еще теплятся отблески диких взглядов, которые завоевали сердце великого ученого?
Кажется, эти панцири никогда не померкнут и не узнают о тлении, которое за двести лет превратило сухое тело Антельма в кучку костей. Прожившие всего неделю насекомые сохраняют благородство, словно владеют тайной смиренной вечности. Провансальский надгробный камень раскрошится быстрее, чем эти королевские доспехи потеряют хоть каплю своей ослепительности и деликатности в ярком отражении.
Вот она, настоящая могила Антельма.
Послесловие
Люди не писали бы романов, если бы жили в мире, который полностью их устраивает. Некоторые пытаются его осудить, надеясь, что их протест поменяет ход вещей, и иногда им это удается. Другие переписывают мир таким, каким его видят, и анализируют, стараясь сделать его понятнее в глазах тех, кто стремится его улучшить (или же стать его хозяевами). Есть и третьи: они изобретают новые вселенные из простого недовольства ограниченностью уже существующей реальности. Однако я хотел бы принадлежать к другой группе: тех, кто вдыхает жизнь в организм, сделанный из слов, а не из атомов, оказавшийся в этом мире впервые. Странность, красота или жестокость этого существа лишь пополнят бездну безжалостности, великолепия или безумия, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
Я не стремлюсь утаить, какую именно реальность пытался изменить в этом кратком опусе. Век спустя после своей смерти мой персонаж все еще пользуется обожанием бесчисленного количества людей. Главная проблема состоит в том, что его жизнь сама по себе уже является романом: признанный во всем мире ученый, мастер пера, отличающийся оригинальностью, вышедший из низов и добравшийся, как говорится, до вершины славы, – он жил удивительной и насыщенной жизнью. Зачем добавлять что-то к настолько самодостаточной судьбе?
Наивный вопрос. Хотя бы потому, что самодостаточная судьба никогда не удовлетворит писателя. Если настоящий человек настолько похож на героя романа, автор никогда до конца им не доволен, иначе он будет не писателем, биографом. Он ищет щели или бреши, которые возникают между реальной жизнью прототипа и существованием героя. Если прообраз позволил думать, будто его бытие стало романом, писателю придется доказать, насколько тот ошибался.
Без всяких угрызений совести я вдохновился жизнью Жана-Анри Фабра (1823–1915), чтобы описать своего Антельма. Я сохранил лишь обрывки того, что биограф назвал бы реальностью: привел точные цитаты из «Энтомологических воспоминаний», оперся на некоторые ключевые моменты из жизни прообраза (утрата сына, вдовство, вторая женитьба на молодой, приезд президента Пуанкаре, восхищение ученых и поэтов). Однако я оставил в стороне провансальские особенности, позволив персонажу изъясняться на французском – языке его книг, которым он наверняка пользовался и в быту. Я исправил природную несправедливость, поскольку вторая супруга Фабра была младше его на сорок лет, но умерла раньше своего мужа, поэтому я решил, что героиня (в реальности ее не звали Розой, она была дочерью деревенского торговца и отличалась любознательностью) переживет Антельма, который на самом деле дважды примерил роль вдовца. Я приумножил некоторые заблуждения, начиная с самого большого: ничто не доказывает и не позволяет моему читателю подозревать, будто месье Фабр желал смерти своей первой супруге и уж тем более приложил к этому руку. Больше всего мне не нравилось в биографии ученого то, что она похожа на житие святого – настолько она оказалась во всех отношениях примерной. Смена имени позволила мне бросить тень сомнения на его достойную жизнь, посвященную труду, запятнать эту чистую судьбу и придать ей извращенную странность, родившуюся из постоянного соседства с насекомыми – тем самым превратившую Антельма в одно из них.
Также я выдумал Слепня.
Выходные данные
Литературно-художественное издание
Жан-Луи Байи
ЧИСТЫЕ РУКИ
Ответственный редактор Юлия Надпорожская
Литературный редактор Мария Выбурская
Художественный редактор Ольга Явич
Дизайнер Татьяна Перминова
Корректор Людмила Виноградова
Верстка Елены Падалки
Подписано в печать 12.05.2023.
Формат издания 60 × 84 1/16. Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ № 01855/23.
ООО «Поляндрия Ноу Эйдж».
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, лит. А, офис 422.
www.polyandria.ru, e-mail: noage@polyandria.ru
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № ЗА, www.pareto-print.ru
notes
Примечания
1
Фабр Ж.-А. Энтомологические воспоминания. Т. VII. Гл. 4.
2
Марциал. Эпиграммы. V, 34. Пер. Ф. А. Петровского.
3
Фелибры – представители литературного движения фелибриж, созданного в XIX веке во Франции с целью возрождения провансальской литературы.
4
Главным героем пьесы Эдмона Ростана «Шантеклер» является галльский петух, символ смелости, юмора и жизнелюбия.