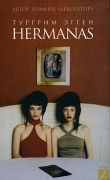Текст книги "Чистые руки"
Автор книги: Жан-Луи Байи
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Оса
Все началось с тайны закрытой комнаты.
Дано: мать откладывает яйцо, а затем тщательно опечатывает помещение. Из этого яйца появится личинка, которая должна питаться, расти и превратиться в полноценное насекомое, способное выломать дверь комнаты и отправиться жить своей короткой жизнью.
Личинка кормится исключительно плотью другого насекомого. За время, пока детеныш вылупится из яйца и родится на свет, это насекомое умрет, если не успеет сбежать. Конечно, и речи быть не может о том, чтобы оставить в комнате уже мертвую добычу, которая сначала сгниет, а затем превратится в пыль – новорожденный так и не успеет полакомиться ею. Нужно, чтобы жертва оставалась живой, тогда личинка будет способна питаться ее телом. И вот тут никто ничего не понимает. Никто – это кучка псевдоученых, признанных в университетах и академиях, прячущих за высокими формулировками собственные страхи. Описывая подобные процессы, они приукрашивают природу, стремятся приписать ей очередное чудо, выдумать очередное спонтанное зарождение – тот самый феномен, с начала времен непостижимый для человеческого ума.
Но не для Антельма, который входит в эту крошечную комнату ровно в тот момент, когда там отложили яйцо, разглядывает мать и ее движения со стороны, размышляет, изначально прогоняя мысль о чуде, и находит ответ.
Оса бросается на жертву, производит своеобразный захват и жалит. Она знает, куда ввести яд. И точную дозу. Никогда не ошибается и на десятую долю миллиметра, никогда не превышает порцию и на десятую долю миллиграмма – она же не хочет отравить собственное потомство. Затем оса запирает одурманенную жертву в комнате с яйцом.
Вылупившись из яйца, крошечный червячок появляется на свет и сразу же впивается в кладовую со вкусной плотью – еще живой, что лучше свежеубитой. День за днем детеныш проедает туннель в этой плоти, которая по-прежнему не умирает, потому что личинка инстинктивно знает: нельзя сразу все сожрать, иначе она убьет источник пищи. Жертва начинает гнить только в тот момент, когда с нее больше нечего взять, а пожиратель вырос достаточно, чтобы выбраться из комнаты и взлететь к небу.
Антельм любуется. Его поражает точность жала, методичное распределение парализующего, но не убивающего яда. Он завидует осе-хирургу, восхищается ее способностями анестезиста, удивляется диете детеныша – и это у существ, лишенных и атома разума, малейшей возможности к обучению, любви к появившемуся на свет после их смерти ребенку, которого они даже и вообразить себе не могут. Тогда ученый задается нескончаемыми вопросами о том, кто организовал все это, кто наделил этих примитивных существ мастерством, какого нам, высшим созданиям, никогда не достичь. Антельм представляет себе этот высший разум, который когда-то сам себе загадал загадку с закрытой комнатой, придумал к ней решение и вставил этот бесконечно крошечный кусочек мозаики в бесконечно огромный пазл творения.
В этот момент Антельм всегда злится на англичанина, который обозвал этот высший разум Временем.
– Но время, – вскрикивает ученый, – время ничего не меняет, черт подери! Время имеет значение лишь для нас, для тех, кто умеет его экономить, передавать от поколения к поколению, чтобы учиться и становиться лучше. Но для них! От кого они могут перенять опыт, если рождаются уже сиротами? Как они поймут, что становятся лучше или хуже, если понятия не имеют ни об отправной точке, ни о процессе, в котором участвуют? Вы можете хоть стопкой накидать поколения одно на другое, и ни на дюйм не возвыситесь над самым первым!
В такие моменты Неподражаемый Наблюдатель, обычно раздувающийся от гордости, стремящийся показать каждому встречному письмо с комплиментами англичанина, сам понять не может, что его переполняет: восхищение Гением или же бешенство и презрение при констатации таких очевидных просчетов. Ах! Если бы тот прожил чуть дольше, какие бы письма Антельм ему написал: страстные, гневные, полные рвения, с которым ученик переубеждает учителя, и торжества, если вдруг это удается!
Ни Антельм, ни Дарвин не представляли, что такое гены, ДНК, случайности, способные потревожить эти комбинации и стать причинами прогресса. Они не знали об интимных механизмах, объясняющих примерно все на свете. Но Антельм думает в правильном направлении, он не ошибается: ученый обнаружил, что насекомое, полностью оторванное от своего потомства, как и от предков, неспособное к обучению, не может сделать выводы о каком бы то ни было опыте и будет проводить всю свою короткую жизнь за воспроизведением одних и тех же действий в течение тысячелетий. Однако разум Антельма, как и его наблюдения, заводит в ловушку. Что касается Дарвина, чьи рассуждения менее ясные, а опыты не такие длительные, то именно он пришел к правильному ответу. Дарвин привел человечество к торжеству разума, этой упрямой и суверенной интуиции. Куда бы Антельм ни направился, он всюду натыкается на этот разум, что его раздражает; тогда он предполагает, что существует некий творческий разум, чьи мотивы непонятны человеку.
Но, наспорившись вдоволь с великим покойником, поддавшись неизведанному томлению в поздний час, когда природа умеряет свой пыл и спускает на землю тихую благоухающую ночь, Антельм откладывает шпагу и позволяет своим мыслям принять опасный, пусть и предвиденный ход.
Вот он, Антельм, застыл во мгновении головокружения – мы уже видели его в этом состоянии, когда он не знает, какому миру принадлежит. Вот он, способный, словно насекомое, не оставляя следов, погрузить человека в летаргический сон, от которого жертву спасет лишь смерть. Он знает, какое вещество нужно вводить, в какое место вонзить иглу шприца. Антельм не колеблется: ему все это известно с начала времен, однако единственное, на что он не может решиться, – это обмануть самого себя. И он, как человек, находится не в темной пещере, а в постели, где лежит Супруга: ни живая, ни мертвая, без движения, словно в безразличии, ожидающая своего последнего вздоха. Антельм бежит из этой кровати в другую, давно опустевшую, где раньше спал его сын. Все это лишь мечты.
Очень настырные мечты, принимающие форму, развивающиеся, словно сюжет романа. Люди проходят мимо, они не знают по-настоящему Супругу, которая молчит не из гордости, нет, – просто не любит разговаривать. Они приходят к Антельму и к ней обращаются из вежливости или, по большому счету, из любопытства. Она просто легла бы спать однажды вечером, а утром ее нашли бы вот так. Некоторые говорили бы, будто она сама довела себя до смерти, постепенно угасала, чахла – с того самого момента, как умер ее старший сын. Она не могла открыть рот, чтобы принять пищу. Еще чуть-чуть – и ей грозила бы голодная смерть. Самое худшее: она могла умереть от жажды. Кажется, к ней приходили великие врачи, но не понимали причины ее недуга. «Мой муж смеется, но видно же, что со мной: меня прокляли, кто-то околдовал! Но врачи ведут себя так же, как и мой супруг, не хотят верить в подобные вещи, хотя вполне правдивые, вполне». Приходится повторять себе: это бредни.
А когда Супруга сама сожрет себя изнутри, чтобы унять этот голод, и умрет, Антельм, оплакав жену, вместо иссохшего тела положит в эту кровать пышное и мускулистое тело малышки Розы, которая заменит давно увядшее лоно своим, нетерпеливым, пышущим здоровьем молодой крестьянки; тогда Антельм сможет выполнить работу насекомого, озабоченного выживанием своего вида, своего рода.
В эти мечты Антельм погружался все глубже и глубже с наступлением ночи, перед сном. Его человеческая сущность испытывала к Супруге остатки нежности, однако насекомое внутри изводилось от нетерпеливого бешенства, желания воспроизводиться, подчиниться законам, которым противился ее увядший живот. И Антельм чувствовал: понемногу эти законы возьмут верх над всеми моральными принципами, что должны их сдерживать.
Шприц
Однажды утром перо Антельма повисло в воздухе над листом. Он описывал для своего фельетона линьку перелетной саранчи. Слова лились свободно в этот непорочный час, когда сонный мир еще колебался, когда темные ночные мысли отмылись от грязи, словно небо очистилось от последних облаков, как вдруг предложение оборвалось на полуслове. Представьте источник, который вдруг пересох, хотя ничто не предвещало, или музыкальный инструмент, резко умолкший под пальцами или дыханием исполнителя, или разбитую мраморную статую, к которой никто не прикасался: во всем этом есть что-то неестественное, отрицание порядка вещей, разразившаяся молния в чистом небе – вот именно об этом идет речь, о молнии.
А произошло вот что: пока Антельм с воодушевлением излагал на страницах последнюю линьку личинки перелетной саранчи, из самых темных глубин его души резко поднялся столп света, и ученого осенило: теперь он был во всеоружии. Он знал, куда вводить яд и каким шприцем. Все необходимые приспособления, рецепт, методика – все здесь. Больше ничто не помешает воплотиться этой убийственной мечте, зревшей последние несколько недель. Насекомое и человек внутри Антельма помирились и решились на идеальное преступление (или можно выразиться по-другому: мораль умолкла в присутствии жадного насекомого, желающего воспроизводиться, природа величественно торжествовала над пустыми сомнениями; или другая версия, более тривиальная: нервное, чувственное, молодое тело требовало сорвать корону с черепа измученной Супруги).
Куда же вводить яд? Конечно же, в сердце, но не туда, куда покажут анатомы, а в сокровищницу тайных мыслей, грез и любви.
Наконец, сам яд. Им могут стать и ненависть, и презрение. Но лучше всего – безразличие.
Что же касается шприца, тут Антельму нет равных, – его взгляд. Именно из-за глаз – блестящих сфер в глубоких орбитах – местные нередко принимали ученого за волшебника или колдуна. Его взгляд – это игла, и вводимое с ее помощью вещество всегда разит свою цель. При встрече с ним кажется, будто он вас пронзает, проникает сквозь толстые слои общественных приличий, лжи и притворств, выводит на свет божий вашу суть и сжигает в черном пламени сокровенные тайны. Если вы ученик, взгляд вас убеждает. Если вы объект желания – раздевает. Если вы супруга – подчиняет. Но если вдруг он пробегает мимо, словно вас вовсе не существует, то вы чувствуете себя недостойным жить и сдаетесь, – это сущий яд.
Странно, что молния пронзила его ровно в тот момент, когда Антельм описывал линьку перелетной саранчи: нет ничего более далекого от смерти, чем этот процесс. Антельм только что изложил чудо, на которое способна жизнь: превратить за несколько минут тряпичную, оборванную личинку, едва избавившуюся от кокона, в летающее совершенство. Еще раз можно подивиться гению Архитектора, который, вероятно, стоит у истоков подобной фантасмагории. Эту главу, воспевающую могущество творения в самых невидимых уголках вселенной, вдруг прервала ее противоположность – смертельное истощение чьей-то жизни, некогда фонтанировавшей энергией. Антельм писал сосредоточенно, с воодушевлением, которое, казалось, не допустило бы подобных мыслей о смерти: достаточно было только взглянуть на свежие наброски и тщательные записи, как вся мысль обращалась к переводу этих начинаний в главу, благодаря отточенному перу описывающую великолепие спектакля, когда сформировавшееся насекомое окончательно сбрасывает доспехи личинки. Ровно в этот момент, когда ночь подходит к концу, вспыхивает молния – и смерть Супруги предстает ясно, до последней детали.
Антельм удивился: получается, светлой, дневной мысли, которая, казалось, занимала его полностью, всегда вторила другая – ночная, тайная, о чем он даже не подозревал, но чья завершенность вдруг поразила его всей своей ясностью и жестокостью.
Затем Антельм вернулся к чуду перелетной саранчи. Обратная линька Супруги подождет до завтра.
И перо снова заскрипело.
Слухи
Довольно скоро поползли слухи.
Жена чудака с насекомыми умирает.
Как это часто бывает, никто не знает, откуда пошла молва. Антельм не жил в затворничестве: садовник, работник или белошвейка могли увидеть в окно лежащую на кровати Супругу с восковым лицом.
Общественные связи завершили свое дело. В прачечной или кафе у людей появилась тема для разговоров, пусть и довольно банальная. Один шепот сливался с другим и превращался в новую сплетню.
Разве в округе не видели старика в компании молодухи? Эта Роза еще ребенком была странной, а в ее взгляде мерцал огонь (грязные языки болтали, будто пламя горит у девушки и в других местах – попробуйте остановить грубиянов). И что? Неужели вы думаете, будто старик… Нет, конечно, но что-то здесь нечисто.
Женщины могут развить подобный слух в целый роман, если имеют привычку читать, или в песню, если иногда слушают музыку: они-то знают, что от любви, ревности или печали действительно можно умереть. Те, кто не берет в руки книг и не любит романсов, напрасно посмеиваются над сплетницами, поскольку они не так уж далеки от истины.
Доктор Ларивуа навещал больную: «А чего еще ожидать, Антельм, у нее нет никаких недугов, но женщина истощена – вот и все. Она поправится, ей нужен отдых. Однако, если говорить совсем откровенно, я не уверен, что этого будет достаточно…» И в ответ на его откровенность невозмутимый Антельм изображал, как стойко противостоит горю.
Среди первых слух добрался до хитреца Слепня. У него была несколько другая версия происходящего: «Я называл или нет ей имя? Но она и так столько всего знает, а об остальном может догадаться. К тому же я плохо помню, наверное, у меня вырвалось имя месье Антельма, а дальше она сама поняла. А вдруг это просто воля случая и я тут ни при чем? Как и колдунья? Бедная старушка умирает, потому что слишком долго прожила, вот и все».
Так слухи порождали друг друга. Из объятий черной магии и медицины родились необъяснимые чудовища, в которые, однако, хотелось поверить, пусть и ненадолго. Казалось бы, несуществующие на свете слова вдруг зазвучали в несколько дней: «томление», «чахотка», «кахексия». Однако шепотом за ними твердили об обрезках ногтей, прядях волос, совах, жабах и неупокоенных душах. Одна женщина поделилась тайной: «Достаточно положить под тарелку бедняжки иглу, которой шили саван, чтобы приговорить к долгому угасанию – вот прямо такому же, какое мы сейчас наблюдаем».
Приходилось переводить сложные слова для несведущих: она очень ослабела с тех пор, как перестала есть, ее как будто изнутри пожирал огонь. Эти фразы повторялись шепотом – все их понимали.
К слухам примешивалась клевета: судя по всему, он ее бьет (Антельм никогда и руки не поднимал на Супругу, даже в шутку); он настолько скупой, что детям едва доставалась еда, а жена стала жертвой суровых лишений (в доме всегда было всего вдоволь); по-моему, малышка Роза знает больше, чем говорит (ее волновало лишьто, что Антельм решил не видеться какое-то время, и девушка боялась окончательного расставания).
На все эти подозрения изредка отвечали защитники Антельма, для которых он был великим, известным на весь мир ученым, и не кучке безмозглых крестьян порочить его имя по незнанию. В семейном кругу к нему относятся с почтением, пусть кажется, будто иногда он забывает о близких, посвящая своим исследованиям дни и ночи, но, как говорят, лучший друг энтомолога – знаменитый врач, и он сможет излечить его жену.
Однако ей не стоит затягивать. Какой бы интересной ни была тема для слухов, она истощится быстрее самой Супруги.
Оса (2)
На следующий после описания линьки перелетной саранчи день Антельм-оса перешел к действию.
Он поступил ровно так, как и задумал, по примеру перепончатокрылого насекомого: без колебаний, без душевных переживаний, не оставляя и малейшего местечка угрызениям совести, способным все испортить.
Антельм решил больше не смотреть на Супругу. Повстречавшись с ней в коридоре, он отходил в сторону, уступая дорогу к кухне. Вместо жены он представлял себе прекрасную Розу, ее плодородное тело: он мысленно следил за превращением яйца в личинку в ее утробе, за выживанием своего вида, когда на смену мертвым детям Супруги придут новые, живые и здоровые. В тот момент еще располагающая какими-то силами, блуждающая по дому жена уже не существовала для Антельма.
Когда она заговаривала с мужем, тот отвечал вежливо, интонацией, заготовленной для первых встречных, и голос его превращался в дополнительную порцию яда, уже введенного взглядом. Чаще всего Антельм смотрел на Супругу для того, чтобы дать понять: он ее не видит; глаза пронзали ее тело, и взгляд падал позади, на мебель, на окно, а за окном взору ученого представал мир, в котором ее не существовало. Антельм отрицал ее.
Поняла ли это Супруга? Неужели она смирилась с заготовленной судьбой, этой мнимой жизнью, полной покорности? Или же, словно жертва осы, она позволила яду овладеть собой и, после недолгого сопротивления, решила сама шагнуть в пропасть? Разве она перестала искать этот взгляд, смотрящий сквозь нее, чтобы лишний раз обжечься, раствориться и найти в нем покой – лишь бы больше о ней не болтали?
Через пару дней, обнаружив, что каждая попытка завязать разговор заканчивается неудачей, Супруга смирилась и перестала обращаться к Антельму – тот все равно бы не услышал. Еще некоторое время спустя она слегла. Доктор Ларивуа осмотрел женщину: она покорно позволила ему, не сказав ни слова, как и любому другому знакомому. К ней приходили дети: казалось, она их узнавала, улыбалась, однако на разговор у Супруги не хватало сил, поэтому она отворачивалась к стене и притворялась спящей.
Когда она наконец угасла, что не заняло много времени, бедняжка больше ничего не весила и словно растворилась в простынях, действительно превратившись в то прозрачное существо, уничтоженное взглядом Антельма.
Только в тот момент, когда Супруга умерла, ученый увидел ее. К нему вернулись воспоминания о всех годах, что они провели вместе: в памяти воскресла чувствительная веселая девушка, которую он когда-то знал, ее храбрость в самые суровые и практически нищенские годы, ее терпение, когда работа полностью занимала мужа, ее тихая радость, когда тот наконец вспоминал о Супруге, ее гордость за его первые успехи, их тихое причастие в трауре, в конце концов их жизнь с самого начала в деревне, мирные привычки и постепенно сложившиеся ритуалы. Лишь тогда Антельм почувствовал скорбь.
Наивный
Когда все закончилось и Супруга упокоилась на кладбище, куда Антельм отвез ее тело под наблюдением сотни подозрительных и боязливых взглядов, он собрал всех детей вместе.
«Вот ты, Жозеф, – обратился он, – уже давно покинул дом, теперь работаешь клерком у нотариуса. Поговаривают, будто ты собираешься жениться на дочери своего начальника и, возможно, однажды унаследуешь его дело. Пусть я не желал бы себе подобной судьбы, в твоем случае она мне кажется вполне достойной… Мне не о чем беспокоиться. А ты, Августина, помолвлена с парнем, который вызывает уважение. Очень жаль, что ваша мать не дожила до свадьбы, не смогла побаюкать будущих внуков. Знаю, насколько тебе не терпится примерить на себя роль жены и матери, особенно теперь, когда траур и правила приличия обязали отложить празднество. Но это дело лишь пары-тройки недель, и скоро ты тоже меня покинешь. Что же касается тебя, мой малыш Шарль, ты приезжаешь домой из интерната лишь на каникулы. Скоро я останусь совсем один в этом доме, не смогу должным образом поддерживать здесь порядок и уйду с головой в работу. Ваша мать прекрасно умела вести хозяйство, отдавать приказы служанке, планировать стирку, регулярно пополнять кладовую. Теперь мне придется найти расторопную помощницу, которая возьмет на себя эти обязанности и не позволит дому погрязнуть в хаосе. Я уже присмотрел кое-кого: она, конечно, молодая, но, думаю, очень способная. Эта девушка уже трудилась на разных фермах с почасовой оплатой, но скромный заработок не устраивал ни ее, ни ее семью, которая, ко всему прочему, живет очень далеко. Иногда эта девушка помогала мне в исследованиях: она терпелива, проницательна, послушна. Когда я просил о помощи, ее простые наблюдения – вроде тех, какие ты делала малышкой, Августина, – лишний раз подтвердили, что она блестяще справится с работой, которую я хочу ей доверить. Я думаю нанять ее немедленно, поскольку у тебя, Августина, и так полно хлопот с приданым».
Что подумают дети об этих изворотливых объяснениях? Улыбнутся ли? Разозлятся ли? Осмелятся ли посмотреть друг на друга с пониманием или же побоятся отцовского взгляда, полного ожиданий и подозрений? Они и пальцем не пошевелили. Тогда их отец продолжил: «Только вот, дети мои, вы знаете, что жизнь в деревне жадна до клеветы. Девушка, о которой я говорю, отличается добрым нравом, и иногда одного этого достаточно, чтобы люди себе навоображали черт-те что и отвратительные сплетни пошли по округе. Если так произойдет, не обращайте внимания: никого не слушайте, не опускайтесь до того, чтобы отвечать на подобные россказни, иначе они станут реальностью и будет непросто от них избавиться. В остальном, пока что я нанимаю эту девушку временно: вполне возможно, через две недели она сама от меня сбежит».
Наивный!
Прошло два года. Собравшись снова, дети выслушали очередную речь Антельма, которая, к его великому удивлению, не ошеломила их. «Роза, – объяснял он, – оказалась потрясающей служанкой, но понемногу ее преданность, как бы это сказать, превратилась в…»
Короче, он женится. Это, конечно, ничего не меняет: Антельм по-прежнему испытывает глубокую нежность к их покойной матери, но…
В этот раз снова не стоит обращать внимания на насмешки болтунов и болтовню насмешников, если вдруг начнет свирепствовать общественное коварство, поскольку…
Дети уже всё знали. Они изобразили удивление, чтобы доставить удовольствие отцу, однако, казалось, благосклонно приняли ситуацию и поздравили ученого, разменявшего шестой десяток. В конце концов, это его дело: не перечили они отцу и его воле прежде и сегодня не станут. Жозеф, конечно, читал «Федру», и в его голове промелькнула мысль, что новоиспеченной мачехе больше подойдет его кровать, нежели отцовская. Шарль представил, с каким бы удовольствием доверил юной красавице собственную невинность. Однако оба достаточно дорожили жизнью, чтобы подобные мысли не развивались в нечто большее.
«Затягивать не будем, – добавил Антельм. – Поженимся в течение недели».
«К чему такая спешка?» – задумался самый старший отпрыск, увидев, как дробится предполагаемое наследство. Однако состояние Антельма было не столь велико, и, честное слово, ни один из троих не рассчитывал, что оно способно в корне изменить его жизнь.
В остальном дети были абсолютно бессильны, поскольку, да, Антельм, как достойное насекомое, приступил к производству второй партии потомков.
Свадьба
– Я вам не даю покоя, – пошутил кюре. – Вы скоро станете моим самым рьяным прихожанином.
– Вам повезло, месье Кюре, что я сегодня не против послушать ваши остроты, – холодно заметил Антельм.
– А разве это лишь пустые шутки? – спросил священник. – В последний раз обстоятельства были прискорбные. Прошло два года, и вот сегодня мы встречаемся по счастливому поводу. Видеть вас так скоро и так часто в моей церкви давненько не приходилось, не правда ли? И тем не менее… Лишнее доказательство того, что мы ничего не решаем, а жизнь наша вверена Господу Богу. Хотите узнать о моих предчувствиях?
– В любое время, месье Кюре.
– Я думаю – и надеюсь, что не ошибаюсь, – вы вернетесь меньше чем через год, чтобы пополнить нашу христианскую общину еще одной юной душой. Или я не прав?
Антельм ответил, что ни черта об этом не знает.
– Оставим черта там, где ему и место. Вот вы снова придете через несколько месяцев крестить своего младенца, а через год – еще одного, кто знает? Вы пышете здоровьем, не так ли? Мне даже интересно, а что, если…
– Если?..
– А что, если Роза, прекрасная прихожанка, которую я держал над купелью не так давно…
– Не заостряйте внимание на разнице в возрасте, месье Кюре, а то я подумаю, будто вы нарочно пошли на эту хитрость.
– Как я говорил, а что, если вы последуете примеру супруги и присоединитесь к нашей большой семье, которая по-прежнему остается вашей… Сначала вы придете на службу в воскресенье, чтобы просто порадовать жену… А через несколько недель вернетесь, потому что она вас попросит тем самым убедительным тоном, на который способны только женщины. А затем вы станете возвращаться все чаще и чаще, даже не задумываясь, притягиваемый красотой наших песнопений, сладким ароматом ладана под сводами и всеми теми ухищрениями, которые сами по себе не представляют никакой ценности, но помогают Церкви мудро напоминать самой себе и заблудшим душам путь к слову Божьему – именно они приведут вас обратно. Любящая женщина не раз становилась орудием в руках Господа, чтобы…
– Даже не рассчитывайте, месье Кюре, даже не рассчитывайте.
– Я счастлив женить вас, Антельм. Помните наш давний разговор: и я, и вы – мы оба знаем, что спасение вашей души не пустая трата времени…
Представьте себе простую церемонию. В церкви два застывших, словно медных, лица – это родители невесты. Отец слегка задыхается в воскресном костюме, а мать растолстела с тех пор, как в последний раз надевала свое самое красивое платье. Четверо братьев и сестер также разрываются между желанием расхохотаться и стыдом. Пришли и дети Антельма – вот и почти все гости. Со стороны крестьян: прапрабабка, брат матери, которого нельзя было не пригласить, потому что он немного дурачок, кузен одних с невестой лет, кажущийся довольно расторопным, и, наконец, крестный отец Розы – он же и свидетель. Со стороны Антельма в журнале регистрации расписывался доктор Ларивуа.
Августина показала на отца Шарлю и прошептала ему на ухо:
– Посмотри, как раздулся от гордости.
Шарль ответил:
– Неужели кичится своим трофеем?
И правда: Роза была очаровательна, свежа, словно дитя, и величава, как и ее имя.
Даже через два года считалось, что раны от траура еще не залечились и молодожены не могут показаться на людях: любопытные насмешники поджидали снаружи любую неловкость – ничто не осталось бы незамеченным.
Банкет прошел в доме Антельма и оказался непродолжительным: гости сами намекнули на обстоятельства и правила приличия, чтобы положить конец празднеству. Семья невесты быстро удалилась – если не сказать, сбежала. Лишь доктор Ларивуа остался с Антельмом выкурить сигару.
– Дорогой мой, поздравляю. Вы бы вряд ли отыскали жемчужину лучше этой. Я вам как врач говорю: одиночество – яд для человека, а вам в руки только что попал секрет долголетия. Позвольте, я сделаю также комплимент вашей… бодрости, поскольку, как мне кажется… В общем, мой медицинский взгляд тут вряд ли ошибается: вы ведь поняли, о чем я? Действительно, подобная юная природная красота способна и мертвого разбудить.
– Но я не покойник, доктор. Давайте остановимся на этом в ваших рассуждениях. Можно подумать, вы решили в одиночку высказать мне все скабрезности, порожденные обстоятельствами. Докурим сигару и отправимся к моим насекомым. Я недавно оборудовал для них еще один вольер – клетку новой модели, позволяющую совершать незаурядные наблюдения. Я хотел бы услышать ваше мнение по одному делу, поскольку, мне кажется, на этот раз нашелся достойный аргумент, способный заткнуть за пояс этих эволюционистов…
Так мужчины продолжили давно начатую беседу, а со свадьбой было покончено.
Заговор
Одни возмущаются по-настоящему или за компанию, другие поднимают на смех. Иногда эти же шутники выходят из себя, и, кажется, разгневанные собеседники вот-вот ввяжутся в драку, однако царит общая убежденность: алкоголь всем вскружил голову. Кое-кто курит сигареты, некоторые – трубку, но дымят все, и их слова тонут в густом тумане, сотканном из горьких запахов самокруток и скаферлати. За хозяином заведения закрепилась репутация проныры, однако сегодня он изо всех сил пытается изобразить безразличие: настолько наигранно, что посетители стараются, как бы этот таракан за барной стойкой их не расслышал. Однако из гневного шепота и галдежа вполголоса вырываются несколько отчетливых слов, и становится ясно: речь идет об утренней свадьбе.
Юноши примерно одного с Розой возраста возмущаются. Спрашивают друг друга: что же такая прекрасная девушка нашла в сумасшедшем старике вроде Антельма? Помнишь, когда он просил нас собирать рогачей – мы еще называем их воздушными змеями, – так вот, голову на отсечение готов дать, что совсем скоро он сам будет походить на жука-оленя со свеженаставленными рогами.
Согласившись со сказанным и отпустив еще парочку шуток, посетители перешли к планам едва ли более оригинальным, чем тема, объединившая всех сегодня в заведении. У тебя еще остался барабан, Кабре? У меня вот залежался клаксон в форме груши, от него шуму как в преисподней. Я могу стащить у брата свисток. Крышку от кастрюли. Коровий колокольчик. Громкоговоритель. Отцовский горн. Но тебе же так и не удалось из него выдавить ни звука! Что? Мне-то? Да я вам покажу, как надо трубить! Трещотку. Котелок. Эй, Батист, если не найдешь никакой тарахтелки, приводи сестру, с ее-то голосом! Сковороду. Бубенцы.
Больше никто не сдерживался: в кафе поднялся такой гам, словно началась генеральная репетиция запланированного на ночь выступления. Ох, не по нутру старику придется наша серенада, однако вряд ли он сможет нас перекричать, со всеми-то инструментами! Будет знать, как людей с толку сбивать.
В царившей вокруг суете никто не заметил молодого человека, который вошел в кафе, оперся на барную стойку и заказал стакан белого вина с сахарным сиропом. Конечно же, он поджидал первого проблеска тишины, поскольку, воспользовавшись секундой молчания заговорщиков, тут же бросил:
– Нет.
– Что значит «нет»? – удивился Кабре.
– Нет, вы ничего ему не сделаете. Вы благоразумно отправитесь спать, а ваши фанфары останутся немы. Этой ночью мы услышим лишь потрескиванье сверчков.
– Ах вот как… Хотел бы я посмотреть на храбреца, который нам помешает…
– Замолчи, Кабре. Месье наверняка изложит нам свои аргументы.
Эту фразу произнес Видаль. Возможно, он узнал молодого человека по скромной, но достойной манере держаться. Возможно, он узнал того, кого родители назвали Эрнес, а остальные окрестили Слепнем, пусть парень и сменил наспех подобранные стекла на идеально откалиброванную пару очков в тонкой оправе. Даже если никто его не узнал, внешний вид месье – шляпа вместо кепки, подержанное, но чистое пальто – впечатлил заговорщиков. Те, кому его лицо было знакомо, говорили, будто молодой человек учился в городе и скоро станет учителем – самая неожиданная судьба для мальчика, которого долгое время считали за деревенского дурачка. Местные еще много лет говорили об этой истории.