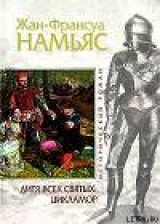
Текст книги "Дитя Всех святых. Цикламор"
Автор книги: Жан-Франсуа Намьяс
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Перед прощанием, в присутствии Дианы и Сабины, державшей на руках свою крестницу Маргариту, старый сеньор знаком потребовал молчания и сказал:
– Анн, приказываю тебе больше не думать обо мне. Освободив Париж, ты уже выполнил свой долг по отношению ко мне. Выполняй же теперь свой долг по отношению к королю. Освобождай страну. Я передам тебе перстень с волком и перстень со львом и уверен, что ты будешь носить их с честью. Прошу лишь вспомнить обо мне в следующий День всех святых!
Когда Анн скрылся за поворотом, все, кроме Франсуа, плакали…
Старый сеньор сделал все возможное, чтобы печаль не поселилась в Вивре. И обе женщины следовали его примеру, как могли, словно этот 1437 год ничем не отличался от всех прочих, словно никакое особенное событие не отметит его окончание.
Однако одна новость изменила все.
В начале мая Диана заметила, что снова беременна. Она объявила об этом Франсуа с радостью и сильным волнением, поскольку, вероятнее всего, роды должны прийтись как раз на День всех святых!
– Монсеньор, это будет новый Франсуа! Он тоже родится в День всех святых, через век после вас…
Франсуа де Вивре был ошеломлен: новое дитя Всех святых появится в день его смерти! Круг замкнется… А если это произойдет в последний час ночи, ребенку будет уготована такая же невероятная судьба, какая была у него самого.
Ход его мыслей прервала Диана:
– Но если все случится на следующий день, в первый час Дня мертвых… это правда, что ребенок проживет всего день?
– Таково здешнее поверье.
– Ведь этого же не произойдет, монсеньор?
– Тут уж как Бог рассудит. Я этого уже не узнаю. И все же я уйду от вас с верой. Уверен: Господь не разочарует нас!
***
Беременность Дианы ускорила отъезд Франсуа в Париж. Молодая женщина не хотела оставаться одна в замке и надеялась родить в столице. Сабина предложила ей поселиться у нее. Там Диане будет спокойнее – среди большого сада, на берегу Сены. Только надо отправляться в путь, пока состояние беременной еще позволяет это, не стоит слишком тянуть.
Франсуа назначил отъезд на Троицу, выпавшую на последний день мая. Он решил пуститься в дорогу сразу же по окончании мессы, надеясь, что Святой Дух придаст силы для самого тяжкого испытания, которое предстояло ему пройти.
Едва отзвучали последние слова службы, произнесенные братом Тифанием, Франсуа опустил глаза и поспешно удалился, даже не бросив взгляда на витражи, посвященные Людовику Святому. Он ни с кем не попрощался, ни с братом Тифанием, ни со слугами, поскольку сделал это накануне.
Сразу направился к приготовленному для него экипажу: повозке на воловьей тяге, наглухо закрытой кожаными ставнями. Франсуа устроился там и велел трогать.
Диана и Сабина ехали верхом, под охраной части солдат замкового гарнизона.
Франсуа был согласен на все, что надлежало принять. Он разделял общий удел, он решился прожить оставшиеся ему дни как Господню милость. Он был готов на что угодно – но только не на это! Видеть, как удаляются и исчезают навсегда башня, в которой он родился, часовня и построенный им лабиринт, – такое было выше его сил… Пусть Вивре исчезнет за закрытыми занавесями, в скрипе тяжелых колес, – Вивре, чье имя он носит, Вивре его детства, его юности, его зрелости…
В своей наглухо закрытой повозке Франсуа де Вивре не сдерживал слез, которых никто не видел. Заливаясь ими, старик поклялся: эти – последние…
***
Поскольку путешествие по дорогам было бы слишком долгим и утомительным, предполагалось добраться до Сены и плыть в Париж на корабле.
Франсуа, Диана и Сабина в сопровождении стражников замка Вивре, которые обеспечивали их безопасность, направились в Танкарвиль, к устью реки. Там их поджидали уже давно нанятое широкое плоскодонное судно, а также одна непредвиденная встреча. Когда Франсуа уже собирался подняться на борт вместе с обеими женщинами, к нему приблизился какой-то человек лет тридцати.
Внешность незнакомца никак нельзя было назвать заурядной. Длинный, тощий как жердь, с худым и выразительным лицом, на котором лихорадочно блестели черные глаза, он отвесил Франсуа очень низкий поклон:
– Монсеньор, позвольте представиться! Меня зовут Робен Левер. У вас довольно красивый корабль. Вы случайно не в сторону Парижа?
– Мы как раз туда. Я охотно приму вас.
Робен Левер растянул в улыбке свой огромный рот – буквально от уха до уха. При этом он показал рукой на группу мужчин и женщин, стоявших чуть поодаль. Рядом с ними высилась огромная груда сундуков и тюков.
– Я не один, монсеньор. Но мы можем заплатить…
– Я не требую никакой платы. Просто предлагаю вам гостеприимство во имя Божьего милосердия.
Робен поклонился невероятно низко, согнувшись, как это умеют делать только акробаты.
– Мы вам все-таки заплатим, монсеньор, но на свой лад – обезьяньей монетой.
– Как это?
– Мы, комедианты, проходим таким манером через заставы и таможни. Вместо денег расплачиваемся всякими трюками, либо нашими, либо наших животных. Будем забавлять вас и ваших благородных дам до самого Парижа.
– А что вы умеете играть?
Робен Левер изобразил еще одну из своих безразмерных улыбок, от которых невольно становилось не по себе.
– Смерть или жизнь. По вашему выбору. Это как мое имя. Написать его с t на конце – будет Le vert, зеленый, значит жизнь, а если es – Le vers, червяк, значит смерть.
– Тогда пусть будет жизнь…
Труппа Левера, помимо него самого, состояла еще из восьми человек: четырех мужчин и четырех женщин. И с ними – ученые обезьяна и пес.
Барка отчалила, публика – старец в сером одеянии и две молодые женщины, белокурая во вдовьем платье и темноволосая в черно-белом, – заняла места. А Робен со своими комедиантами сыграл фарс о жизни.
Едва корабль развернул квадратный парус и покинул Танкарвиль, артисты тоже развернули собственный занавес, который служил им декорацией. Он был примитивен и наивен. На нем была изображена большая яблоня, узнаваемая по круглым, красным плодам, растущая на лугу, усеянном цветочками. Робен показал на картину рукой и напыщенно вскричал:
– Мир!
Комизм пьески был немного кощунственным, как это частенько случалось в подобного рода представлениях. Устав раздавать людские судьбы, Бог-Отец заснул. «Судьбы» в виде маленьких лепешек все падали и падали на землю. Их подбирала обезьяна и подсовывала людям, завернутым в простыни, будто младенцы в пеленки. Каждый съедал свою лепешку, либо с удовольствием, либо с отвращением. Затем «младенцы» исчезали за занавесом с яблоней – и возвращались оттуда уже в одежде, соответствующей полученному званию.
Так появлялись по очереди, напыщенно объявленные Робеном Левером: коннетабль, студент, разбойник, принцесса, красавица-служанка, шлюха и сарацинка. Последнюю лепешку слопала сама обезьяна, которая сделалась папой римским.
Тут появился пес на задних лапах и перед каждым выделывал разные трюки и только на папу он яростно лаял и даже задрал на него заднюю лапу, потому что видел: это всего лишь обезьяна…
Затем начался танец. Усевшись за переносной органчик, Робен Левер заиграл какую-то томную мелодию, и люди, невзирая на свое положение в обществе и даже пол, разбились на пары, такие же случайные, как и их судьбы. Коннетабль нежно обнялся с разбойником, папа с сарацинкой, принцесса со шлюхой, студент с хорошенькой служанкой.
Содержание пьески и ее декорации были грубоваты, чего нельзя сказать о костюмах. Одежды актеров отличались удивительным богатством, которое резко контрастировало со всем остальным. Коннетабль красовался в роскошном синем одеянии и держал в руке усеянный лилиями жезл того же цвета – знак своей власти; на папе было белое облачение и золоченая тиара; лицо сарацинки наполовину закрывала традиционная вуаль, а шелковое платье переливалось разными цветами; наряд принцессы был оторочен горностаем, а восхитительный головной убор поражал своей высотой. Студенту немного мешал танцевать письменный прибор на шее; разбойник с топором щеголял разномастным платьем, содранным со всякого люда; потаскуха с чрезмерно накрашенным лицом куталась в рыжий лисий мех; красотка-служанка кокетливо смотрелась в зеркало искусной работы… Труппа производила захватывающее впечатление.
Франсуа тем больше заворожило зрелище, что каждый из персонажей соответствовал какому-нибудь воспоминанию из его собственной жизни. Коннетабль – это, конечно, дю Геклен, с которым он написал самые славные страницы своей судьбы… Римского Папу он тоже знавал, даже двух – одного в Риме, другого в Авиньоне. Студент – его брат Жан. А еще когда-то Франсуа ограбил разбойник по имени Сивобородый… Служанка могла бы зваться Марион, как та, что приобщила его к секретам любви. Была у него связь и с сарацинкой по имени Зулейка – в те дни, когда сам Франсуа жил пленником в тех краях.
Что касается шлюхи, то это самое грустное воспоминание в его жизни: одна несчастная девица, которую звали Жилеттой из Берси, безнадежно в него влюбленная, повесилась в его парижском доме, том самом, где он решил умереть. Франсуа поклялся вспомнить о ней, когда настанет его собственный черед.
Оставалась принцесса. Но сколько Франсуа ни старался, ничего такого так и не вспомнил. Он прожил сто лет и много постранствовал по свету, но вот принцессы не знал. В эту картину, так хорошо изображавшую его жизнь, ее образ вносил некую незавершенность и тайну…
По просьбе Франсуа Робен Левер и его комедианты оставались в своих костюмах все время плавания. Они подняли холст с декорацией над парусом, и корабль поплыл по Сене с надувшейся ветром яблоней вместо штандарта и со странными, будто вышедшими из сказки пассажирами, которые временами принимались танцевать на палубе под звуки органа.
Франсуа был задумчив… Если рассудить, этот корабль – погребальная барка, несущая его, как в древних сказаниях, от берегов жизни к берегам смерти. Но где же тут прячется смерть – среди этих танцоров с их роскошными костюмами и музыкой? И к смерти ли они все плывут?
Франсуа де Вивре не остановился в Париже. Он высадил там Робена и его комедиантов, которые на прощание рассыпались в тысяче благодарностей и с последней ужимкой обезьяны и прыжком ученого пса исчезли под звуки своих музыкальных инструментов. Корабль же продолжил свое плавание.
Он миновал Париж и проследовал дальше, до Шарантона, потом стал подниматься вверх по Марне. Франсуа предстояло навестить кое-кого немного выше города Mo, на маленьком островке посреди реки, окруженном плакучими ивами и тополями. Давным-давно он похоронил здесь своего первого оруженосца, Туссена, погибшего во время Жакерии. Туссен был его единственным товарищем, настоящим другом.
Воздавая почести Туссену, Франсуа хотел отдать долг всем погибшим, чьи останки по прихоти войн и народных бедствий оказались в недоступных или неведомых местах: в братских могилах, выкопанных на другой день после битвы, в дремучих лесах, в безымянных склепах. Он помянет их всех в одной молитве.
Франсуа узнал место без труда. Корабль пристал к острову, и старик сошел на берег; Диана и Сабина последовали за ним. За стеной деревьев посреди небольшого луга на обомшелом постаменте возвышался крест из кованого железа. Здесь!
Франсуа стоял в неподвижности. Душистый июньский ветерок пригибал к земле высокие травы. Обе женщины держались за его спиной.
Когда-то это место называли островом Роз из-за розового куста, который Франсуа посадил на могиле друга. Этот куст так разросся, что, в конце концов, розы покрыли весь островок.
Но не было больше роз на Розовом острове, только шиповник. Чему же удивляться? Любой розовый куст, если перестать за ним ухаживать, возвращается к своей дикой форме. А ведь Туссен был похоронен здесь семьдесят девять лет назад!
Семьдесят девять лет… У Франсуа закружилась голова. Его воспоминания древнее, чем жизнь почти любого из ныне живущих смертных! Что ему делать с такими воспоминаниями? Окунуться в них – все равно, что броситься в пропасть, пытаться управлять ими – все равно, что двигать горы. Сам Франсуа был огромной, толстой книгой, открытой на предпоследней странице: с одной стороны очень тяжелой, с другой – бесконечно легкой. Да, он был книгой, которую нужно удерживать в руках, чтобы она не закрылась сама собой.
Как вернуться к ее первым строкам? У него больше недоставало на это сил. Франсуа знал, что любил Туссена всей душой, и сказал ему об этом… И попросил прощения за то, что не в силах сказать большего. И ту же мысль, ту же просьбу о прощении обратил ко всем прочим умершим…
Он уже собирался уходить, когда его взгляд невольно упал на брошь. И все внезапно переменилось.
Роза де Флёрен тоже связана с этими местами. Это ее розовый куст Франсуа посадил здесь – розовый куст Уарда для избранных, который она подарила ему ради своей великой любви. Роза де Флёрен незримо присутствовала здесь, и теперь Франсуа думал только о ней.
Он понял вдруг, что любил эту женщину больше всех остальных, даже больше, чем Ариетту, свою жену. Быть может, потому что у них было всего две короткие, волнующие встречи; женись он на Розе, и эти воспоминания ушли бы. Но они остались. Дня не проходило, чтобы он не вспомнил о ней, пристегивая ее брошь к своему сердцу, хотя уже давно забыл ту, с которой делил свою жизнь и которая подарила ему детей.
Франсуа чувствовал огромную растерянность. Его стали мучить угрызения совести. Видимо, его слабость сделалась заметна, поскольку Диана и Сабина – обе подбежали к старику. Однако Франсуа смог совладать с собой и успокоился. Все хорошо; завтра они будут в Париже.
***
Они приплыли туда утром и высадились в гавани на правом берегу, напротив Гревской площади. Сабина не могла скрыть волнения и смахнула слезу. Диану, которая никогда прежде не была здесь, город ошеломил. Она и помыслить не могла, что возможно подобное столпотворение. В какую бы сторону она ни бросала взгляд, везде царила кипучая, бьющая через край активность.
Как и каждое утро, работники чистили городские стойла, куда скот загоняли на ночь, и вывозили навоз на носилках, чтобы удобрять поля; один пастух гнал своих быков, другой – свиней. Чуть дальше, сидя прямо на проезжей части, мостильщик вбивал камни в мостовую. Тут лакей в ливрее выгуливал пару борзых, там, в портшезе, проплывала знатная дама, демонстрируя нескромное декольте, но закрыв вуалеткой лицо. Проводник через лужи устанавливал свою доску на залитом водой перекрестке, сборщик битых бутылок копался в грязи и помете…
Но больше всего поражали воображение крики – крики парижских торговцев, раздававшиеся отовсюду: «Свежие бобы! Чемерица! Камедь! Свежее мясо с добрым чесноком! Пикардийский сыр! Горячие лепешки и горячие вафли! Отлично высушенные мальтийские фиги! Свежая селедка! Только что выловленная морская свинья! Хворост, кому хворост! Оловянные горшки, кувшинчики! Зеркала, которые делают женщин красивее! Образы Пресвятой Девы и всех святых!»
Продавщица венков из роз подошла к Диане и надела один из них на ее темные волосы:
– Купите веночек, вы в нем прямо королева!
Подскочил продавец отвара со своим сосудом на спине.
– Отведайте меня! Я лечу от всех недугов!
А потом пошли торговцы крысомором, мылом, метлами, свечами, сарацинскими коврами – многоцветными чудесами, каких она никогда не видывала.
Диана повернулась к Франсуа и сверкнула улыбкой.
– Как это прекрасно! Это сама жизнь!
Франсуа серьезно кивнул… Да, Париж – это сама жизнь. Ради этого, а также в надежде увидеть свет Севера он и решил умереть здесь…
Нигде люди не собрали больше чудес: в Париже – самые прекрасные памятники, самые священные реликвии, самый почитаемый Университет. Париж, по преимуществу, обиталище духа, и именно здесь должен просиять внутренний свет…
Франсуа направился к дому Вивре. Своих стражников он разместил на первом этаже, а сам устроился на третьем. Несмотря на возраст, Франсуа выбрал именно эту комнату, потому что жил в ней когда-то. Если подниматься по лестнице станет слишком тяжело, он велит слугам нести себя.
Диане и Сабине досталась комната на втором этаже; они собирались ночевать попеременно то здесь, то в доме Сабины. С позволения Франсуа дамы захотели тотчас отправиться туда. Старому сеньору тоже не терпелось снова выйти на улицы.
Он попросил стражников следовать за ним на расстоянии – так он решил передвигаться по Парижу. Он хотел быть один, но при этом уберечь себя от грабежа, поскольку на его драгоценности, особенно на брошь, могли позариться. Впрочем, эта прекрасная вещь ненадолго задержится в его собственности. Франсуа решил отделаться от нее как можно скорее. После вчерашних размышлений она стала ему в тягость.
Как он уже решил, эта драгоценность должна достаться какому-нибудь алхимику. Франсуа знал, где их можно найти: в харчевне, которую построил для них Никола Фламель, величайший из всех адептов. Она находилась на перекрестке улицы Мариво и улицы Писарей. Старика даже удивила уверенность, с какой он отыскал к ней дорогу. Столько лет прошло, а он ничего не забыл в лабиринте парижских улиц.
Перейдя по Богородичному мосту, заменившему прежние мостки Мильбре, которые находились тут в его время, Франсуа поравнялся с группой каких-то людей, возбуждавшей насмешки прохожих. Это оказались слепцы из приюта Трехсот, узнаваемые по своим серым балахонам с нашитыми на них медными цветками лилий. Они двигались цепочкой, держа друг друга за плечо, и, несмотря на обитые железом посохи, поминутно спотыкались, будто пьяные. При этом бедняги безостановочно бубнили традиционный призыв своего братства:
– Смилуйтесь над тремя сотнями убогих, что не видят ни зги!
У Франсуа не было ни малейшего желания подшучивать над ними. Эти люди были его братьями. Ведь он сам ослеп в юности и никогда не забывал этого. Пришла пора отдать долг Господу, который даровал ему прозрение. Франсуа подошел к первому слепцу в цепочке и сунул ему в руку кошелек, шепнув на ухо:
– Спрячь. Здесь одно золото.
Старый алхимик сразу же узнал харчевню мастера Фламеля. В качестве вывески у нее был усеянный лилиями щит, а на фасаде красовалась надпись: «Мы, пахари, мужчины и женщины, пребывающие под сенью дома сего, построенного в год Господень тысяча четыреста седьмой, обязаны читать каждый день по разу Отче наш и Богородицу, моля Бога о милосердии и прощении бедным грешникам усопшим. Аминь».
Внутри царило величайшее оживление, доносились жаркие споры и веселые возгласы, ибо, вопреки расхожему мнению, алхимики вовсе не были людьми мрачными, но напротив – влюбленными в жизнь…
Франсуа обвел помещение взглядом. Он задумал отдать свою брошь женщине. Такое было вполне возможно. Ведь среди алхимиков попадаются и дамы: они помогают своим супругам или тем мужчинам, которые им дороги, как госпожа Пернелла – супруга Никола Фламеля, или Юдифь из Гренады, помогавшая ему самому в преодолении черной, красной и белой ступеней.
Действительно, среди мужчин, как духовных, так и мирян, составлявших подавляющее большинство посетителей, обнаружилось и несколько супружеских пар. Франсуа уже собрался направиться к одной из них, но вдруг замер. Ему подумалось, что из-за преклонного возраста у него начались видения.
За столом сидела в одиночестве какая-то женщина. Женщина, занимающаяся алхимией самостоятельно, а не вместе с мужчиной! Само по себе это уже было необычайным. Но еще невероятнее показалось Франсуа то обстоятельство, что он ее, кажется, узнал!
Он подошел поближе… Нет, он не ошибся: это Софи де Понверже, вместе с которой он преодолел белую ступень Великого Деяния на пути в Компостелу! Конечно, она постарела. Должно быть, сейчас ей лет сорок пять. Время пощадило и прекрасные белокурые волосы, и белую кожу, и блеск светло-серых глаз. Даже одета она была как прежде, в простое белое платье, наподобие тех, что носят послушницы.
– Софи, Мудрость Юга!
Она смотрела в другую сторону, поэтому не видела приближающегося Франсуа. Однако, услышав имя, которым тот величал ее во время паломничества, женщина так и подскочила на месте.
– Вы? Но разве вы не?..
– Не умер? Нет. Провидению было угодно, чтобы я, хоть и ненадолго, повидал вас.
– Прошу прощения. Это от неожиданности, от волнения!
– Кто привел вас сюда, к этим людям?
– Вы.
Франсуа де Вивре уселся рядом.
– Расскажите…
И Софи де Понверже принялась рассказывать…
Вернувшись из Компостелы, она вышла замуж за довольно богатого буржуа из Реймса, старше ее годами, который взял титул рода Понверже, в противном случае обреченный исчезнуть. У нее родился сын. Сейчас он уже женат, и у него тоже есть сын. Ее муж давно умер, а она, обеспечив продолжение рода, решила пуститься в приключение, которое непреодолимо влекло ее еще с того времени, как Франсуа впервые о нем заговорил. Она посвятила себя алхимии.
Не зная, с чего начать, Софи услышала о харчевне Никола Фламеля и явилась сюда…
Она улыбнулась чуть робко.
– Как вы считаете, что мне теперь делать?
– Надеть вот это.
Франсуа отстегнул брошь и протянул ей. Она живо отвела его руку.
– Никогда! Я не посмею!
– Наденьте. Это будет одной из последних радостей в моей жизни.
Франсуа пришлось долго настаивать, и Софи, в конце концов, уступила. В шумной и дымной харчевне Никола Фламеля роза Розы де Флёрен в первый раз засверкала на груди Софи де Понверже.
Старый сеньор улыбнулся.
– Благодаря этой драгоценности вы добьетесь успеха, Софи. Не из-за ее ценности, конечно, ни даже потому, что она символически представляет собой две последних ступени Деяния, но потому, что в ней заключено много любви, море любви. А в алхимии главное – любовь. Как и во всем прочем…
***
Софи де Понверже не захотела расстаться с Франсуа. Она поселилась вместе с Сабиной и Дианой, и три женщины поделили свое время между домом Вивре, откуда Франсуа почти не выходил, и домом Сабины у гавани Сент-Поль.
Диана, беременность которой стала заметнее, теперь знала о парижской жизни все. И даже час определяла не по колоколам церквей, а по уличным крикам. Первым, сразу по пробуждении, всегда проходил разносчик умывания:
– Теплое умывание, без обмана!
Предпоследним, уже в сумерках, кричал винный зазывала, а последним, перед наступлением темноты, – вафельник, продавец «беспамяток». Правда, потом подавал голос еще один, единственный, кого она не любила, – звонарь по усопшим.
Звонарь по усопшим был, наверное, самым любопытным персонажем во всем Париже. Он пускался в путь среди ночи, неся в правой руке фонарь, позволяющий видеть дорогу на неосвещенных улицах. На нем была длинная черная риза, украшенная черепом, скрещенными костями и серебряными слезами. В левой руке он держал колокольчик. И через каждые двадцать—тридцать шагов кричал:
Проснитесь, люди спящие!
Молитесь за навек усопших!
Так обходил он за ночь всю столицу и удалялся только поутру…
Диана обожала дом у гавани Сент-Поль, который из-за своего состояния предпочитала дому на слишком шумной паперти. Долгими часами она сидела в саду, наслаждаясь особым очарованием этого островка спокойствия в самом сердце огромного города. Много думала о быстро приближавшемся Дне всех святых и об обоих Франсуа: о том, кому предстояло умереть, и о том, кого носила в себе, готовом скоро родиться.
Сабина каждый день ходила молиться на могилу Изидора, на кладбище дворца Сент-Поль. Прибыв в Париж, она хотела удалиться в ближайший монастырь бегинок, но Диана умолила подругу не делать этого. Раз уж она не собирается снова выходить замуж, то почему бы не остаться рядом и не помочь ей воспитывать детей? Разве это не ее долг? Она же крестная мать Маргариты! И, в конце концов, Сабина согласилась.
Поскольку после Дня всех святых ей все равно предстояло покинуть Париж, Сабина Ланфан хотела сперва передать свой дом у гавани Сент-Поль Церкви. Но потом решила подарить его Памфилу Леблону. Так у нее останется чувство, будто в ее доме поселился юный Изидор. Ведь Памфил, несмотря на свое геройство при освобождении Парижа, опять стал простым поваром во дворце, и никто даже не подумал отблагодарить его. Дом и сад будут ему самой большой и самой прекрасной наградой…
С приходом осени Диана де Вивре уже не покидала дом у гавани Сент-Поль. Ей приходилось беречь себя, и Сабина большую часть времени оставалась в ее обществе. А Софи де Понверже почти неотлучно находилась с Франсуа, которого не хотела оставлять в одиночестве. Диана попросила ее стать крестной матерью, когда родится дитя Всех святых, и та с радостью согласилась. Что касается крестного отца, то Анн, регулярно писавший супруге, определил на эту почетную роль Мышонка.
***
Со времени своего возвращения во французскую армию Анн не переставал воевать. Французы уже оправились от неожиданного зимнего нападения англичан. Анн участвовал во взятии Шато-Ландона и Немура, где сыграл заметную роль.
Многие причины заставляли его пытаться превзойти самого себя. Прежде всего, он хотел показать себя достойным прадеда, о котором не переставал думать. Анн де Вивре мечтал покрыть славой его имя, поскольку, хоть он тоже считался Вивре, именно Франсуа, и никто другой, оставался носителем титула.
А затем он узнал от Дианы невероятную, сказочную новость: она носит под сердцем дитя Всех святых! И Диана вместе с Франсуа в Париже! Каждый день Анн молил Бога о том, чтобы тот позволил французскому королю и армии войти в столицу до назначенного срока, и почти каждый день рисковал собой в бою, чтобы ускорить это событие.
Однако, несмотря на многочисленные воинские подвиги, Анн выделился совсем по другой причине. После своей свадьбы он, крестник Бастарда Орлеанского, верный сподвижник короля еще с тех пор, когда тот был всего лишь дофином, стал бургундским сеньором. Вначале Анн находил это обстоятельство всего лишь приятным, но вскоре убедился в том, что его новый статус повлек за собой и более серьезные последствия.
После Аррасского договора бургундские дворяне получили дозволение присоединиться к французской армии – и стали прибывать во все большем количестве. Но зачастую, попав в чужое, а то и враждебное окружение, они чувствовали себя неуютно. И Анн, будучи сиром де Куланжем, бургундским дворянином, счел своим долгом сблизиться с ними. Вскоре он сделался незаменимым посредником между бургундцами и французами.
От вновь прибывших бургундцев Анн узнал новости о Мышонке. Выздоровев, тот покинул Париж и оказался при дворе Филиппа Доброго, который взял его под свое покровительство. Тогда-то Анн де Вивре и написал своему товарищу, попросив того стать крестным своего ожидаемого ребенка…
Большим событием кампании 1437 года стала осада Монтро. Во время ее произошло одно беспрецедентное событие. 10 октября после яростной пушечной пальбы в стене образовалась брешь, и король впервые решил рискнуть своей особой. Все увидели, как робкий Карл VII вдруг высоко воздел меч и первым бросился на приступ. Это произвело должное впечатление: французы устремились за королем с неудержимой силой, и через час крепость была взята.
В какой-то момент король оказался в настоящей опасности. Когда он карабкался вверх по обломкам обрушившейся стены, один из защитников чуть не опрокинул его. По счастью, какой-то французский рыцарь, оказавшийся рядом, сразил нападавшего. Когда схватка закончилась, Карл VII велел разыскать своего спасителя.
Тот был найден и приведен пред королевские очи. У него был герб, раскроенный на «пасти и песок» с золотым цикламором посредине. Другой его особенностью были два меча, по одному в каждой руке.
– Кто вы, рыцарь?
– Анн де Вивре, сир де Невиль и де Куланж, к вашим услугам, государь.
Король, еще весь в поту от предпринятых усилий, рассматривал этого рыцаря с любопытством и симпатией. Он слышал о франко-бургундце бретонского происхождения, живом символе обретенного единства страны.
– Я знаю, кто вы, и хочу видеть вас подле себя. Вы будете в моей свите при нашем вступлении в Париж.
Анн глубоко поклонился, вне себя от радости. Однако не смог удержаться и спросил:
– А когда мы вступим в Париж, ваше величество?
– Как только будет возможно.
– Ко Дню всех святых?
– Не исключено.
Король посмотрел на него с некоторым удивлением. Анн отвесил еще более низкий поклон и удалился. Делать нечего. Он должен повиноваться приказам своего короля, оказавшего ему эту великую честь, а также воле Франсуа. Остается только молить Бога, чтобы Он позволил Карлу VII, французскому войску и самому Анну оказаться в Париже ко Дню всех святых.
***
Когда колокола собора Богоматери призвали верующих на праздничную мессу в честь Дня всех святых 1437 года, Карл VII и его армия все еще не вошли в столицу.
Проснувшись в то утро, Франсуа первым делом поздравил себя с хорошей погодой. Светило солнце, что редко случается в День всех святых. Подойдя к окну, Франсуа увидел, что собор залит ярким светом. Значит, скоро свет Севера может вспыхнуть в витражной розе. И тут он вспомнил, что этот день – последний, что сегодня вечером он умрет…
Свет Севера! Входя в собор, чтобы присутствовать на богослужении, Франсуа де Вивре думал только о нем. Ему удалось встать в первом ряду, в самом центре креста, который образовывало пересечение центрального нефа и трансепта, точно между двумя розами, лицом к алтарю. Он стал ждать.
Франсуа чувствовал себя превосходно. Вообще, с тех пор, как он оказался в Париже, у него не было ни малейшего недомогания, ни малейшего признака, предвещавшего неизбежное событие. И все же он не надеялся ни на какую отсрочку: это должно произойти сегодня.
Но старика это больше не заботило. Преградой между ним и смертью оставался свет Севера. Франсуа не помышлял ни о чем другом: ни об отсутствующем Анне, который лишь повиновался его же приказу, ни о том, что сегодня ночью родится дитя Всех святых.
Диана была уже на сносях, Сабина осталась, чтобы помогать ей. В собор с Франсуа пошла только Софи де Понверже. Когда появился епископ в окружении своих священников, старый сеньор улыбнулся своей спутнице. И получил в ответ растроганный взгляд. Софи восхищалась его мужеством.
Ах, при чем тут мужество! То, чего Франсуа ждал всю свою жизнь, должно, наконец, свершиться. Он чувствовал себя жадным, нетерпеливым, как ребенок!
Сегодняшняя служба была исключительной. Изредка – отнюдь не каждый год, – по случаю какого-нибудь большого праздника капитул собора Парижской Богоматери решал достать на свет бесценные реликвии, которыми владел Париж. Вот и сейчас под торжественные песнопения, воскурив ладан, к алтарю принесли в украшенных драгоценными каменьями золотых раках только что доставленные из Сен-Шапель сокровища: частицу Истинного Креста, терновый венец, одеяние и покровы Христовы, губку, пропитанную уксусом на Голгофе, наконечник убившего Его копья и главу Людовика Святого.








