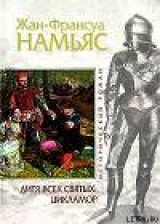
Текст книги "Дитя Всех святых. Цикламор"
Автор книги: Жан-Франсуа Намьяс
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
А главное, тут было море…
Именно Сезар открыл ему силу моря. Это произошло во второй день плавания, когда они шли вдоль берегов Прованса. После радостного открытия, которым стало для него грубоватое простосердечие паломника-ворчуна, Анна вновь обуяла тоска, и он, сидя на палубе, мучительно размышлял о последних событиях своей жизни. Капитан корабля по-приятельски подсел рядом.
– О чем печалитесь, сир Англичанин?
Анн вздохнул.
– О своих грехах. Я великий грешник…
Сезар Кабриес улыбнулся широченной улыбкой снисходительного жизнелюбца.
– Ну, этим вы меня не удивите. У меня тут, на борту, сплошь великие грешники. Но такого молодого, как вы, везу впервые. Если вы и не самый великий, то наверняка самый скороспелый, вот уж точно!
– Не обращайте все в шутку. Мне вовсе не до смеха.
– Вот и ошибаетесь, посмеяться никогда не грех.
Смех… Анн поразмыслил над словом, которое прежде слышал так редко. Можно сказать, он никогда в своей жизни не смеялся по-настоящему.
– Так вы мне советуете смеяться, сир капитан?
– Ну, сейчас, может, и рановато. Я вам пока посоветую надеяться. Ведь как раз для ободрения великих грешников, которых вожу, я и назвал свою посудину «Надеждой». А в придачу к этому я вам рекомендую еще и море…
Анну нравился его певучий выговор, так не похожий на тот, что он слышал при Орлеанском дворе или в бретонских замках.
– Как это – море?
– А нет ничего сильнее моря, разве что Господь Бог, чтобы узнать его силу, надо только смотреть да слушать. Но не несколько минут, а целыми часами. И тогда вдруг настает миг, когда оно уносит вас с собой. Этот миг – благословенный. Какими бы ни были твои несчастья, возвращаешься ты всегда счастливым…
Анн начал следовать этому совету буквально. И все оказалось правдой: при долгом созерцании море, в конце концов, вызывало своего рода оцепенение тела и ума. Возникало впечатление, что Анн уже не на палубе, но глядит на волны откуда-то сверху, с большой высоты, подобно крикливым чайкам, или, наоборот, с самой близи, как это делали сопровождавшие корабль летучие рыбы и дельфины. Когда этот сон наяву кончался, никакого чуда не происходило: боль и горе по-прежнему оставались при нем, но все же Анн чувствовал, что сам стал спокойнее, сильнее.
Новая жизнь заставила его совсем забыть Альенору, которая, со своей стороны, вела себя совершенно незаметно: ела в одиночестве и почти никогда не выходила из-под своего навеса. Как-то ночью, почти через месяц плавания, Анн смог осознать, насколько изменилось его отношение к ней.
После того как вечно недовольный паломник опять заявил, что он ему мешает, Анн выбрался на палубу. Он уселся, свесив ноги за борт, и стал смотреть на полумесяц, отражавшийся в пологих волнах. Молодой человек слышал внизу плеск воды о форштевень, а совсем рядом – равномерное поскрипывание какого-то блока.
И вот тогда чуть поодаль раздалось едва различимое песнопение. Анн и не заметил, что оказался совсем рядом с жилищем Альеноры. Это она молилась, и впервые за все время плавания он стал думать о ней.
Он вдруг осознал, что она была вовсе не так виновна, как он считал вначале, и что он сам в значительной мере несет ответственность за случившееся… Конечно, Альенора старалась соблазнить его, повинуясь приказу. Но ведь только от него одного зависело, удастся ли ей задуманное. Все произошло оттого, что он сам в нее влюбился той ночью, на Страстную пятницу, на стене замка… Да, он влюбился в эту женщину, хотя думал, что все еще любит Перрину. Вот что послужило причиной драмы.
Никто не может быть осужден без обжалования, а ведь Альенора кается в своем грехе, как и он сам. Ее вина велика, но она уже начала искупать ее. Доказательством тому служит серый шерстяной платок на его шее.
***
Они провели в плавании около двух месяцев. Лето было уже самом в разгаре, когда Сезар Кабриес подошел к Анну. Тот по своей привычке грезил, опершись о борт и блуждая взглядом по поверхности моря.
Между ними сложились доверительные отношения. Анн даже рассказал капитану свою историю, что сильно облегчило ему душу. Капитан выслушал, никак не проявляя удивления. За то время, что он плавал этим путем, ему уже не раз доводилось принимать самые разные исповеди своих паломников.
Сезар Кабриес был, как обычно, настроен весьма добродушно. Он дружески положил руку на плечо молодого пассажира.
– Опять коротаете время с морем за компанию, сир Англичанин?
– Благодаря вам, сир капитан.
– Мы доберемся до Святой земли в конце августа, может, в начале сентября. Рановато!
– Почему?
– Для вас было бы лучше оказаться в Иерусалиме на Страстной неделе. Настоящий паломник молится у Гроба Господня со Страстной пятницы по Пасхальное воскресенье.
– Это я знаю, но что тут поделаешь?
– Вам надо всего лишь подождать. На вашем месте я бы так и поступил. Вы молоды, у вас вся жизнь впереди.
– Но где ждать? В Святой земле, у сарацин?
– Завтра я делаю остановку в Ларнаке, на острове Кипр, в христианской стране. Ежели хотите, могу развести вас с супругой по двум монастырям. Проведете там осень и зиму, а весной, когда снова сюда приплыву, опять возьму вас на борт.
– Вы полагаете, сир капитан?
– Я ведь частенько разговариваю с людьми и малость в них разбираюсь… Что вам нужно, так это время. Вы ждете Божьего прощения, но ведь это прощение само по себе есть в некотором смысле испытание. Надобны силы, чтобы вынести его.
***
На следующее утро Анн высадился в Ларнаке вместе с Альенорой, которая покорно согласилась следовать за ним. Это был их первый разговор со времени отплытия из Марселя.
Сезар Кабриес знал в Ларнаке всех – или почти всех. Среди говорливой и пестрой толпы, так мало походившей на христианский люд, капитан поминутно приветствовал то одного, то другого. Он оставил Альенору в женской обители в центре города и проводил Анна чуть дальше, в бенедиктинский монастырь на берегу.
Анна поселили в тесной келейке, которую он нашел совершенно прелестной. Из нее открывался великолепный вид на море – яркого, густого синего цвета. Солнце заглядывало к нему через узкое, вытянутое окошко. Продолговатое световое пятно в течение дня перемещалось по белым стенам.
Прямо под окном рос жасмин, постоянно источая нежный, сладкий аромат, особенно по ночам.
Анн проводил в этом месте долгие часы, ничего не делая, даже не думая. Сезар Кабриес оказался прав: хоть Анн и пребывал в бездействии, все в нем непрестанно изменялось – уже из-за одного того, что шло время. Ибо только время стягивает и сглаживает края ран – и тела, и души.
Однако Анн все же регулярно выходил из монастыря и прогуливался по окрестностям верхом на Безотрадном. С восхищением он открывал для себя пышные пейзажи, незнакомые растения, белоснежные домики, смуглых от загара мужчин и женщин.
Однако больше всего в этой удивительной стране его поражало полное отсутствие зимы. Проходили месяцы – ноябрь, потом декабрь, жара немого спадала, – но это было и все. Деревья по-прежнему зеленели, море и небо синели. Солнце сияло и на Рождество, когда ему исполнилось шестнадцать. И Анн недоумевал: какими молитвами, какими дарами сумели обитатели здешней страны снискать такую Божью благодать – вечное лето?
В начале февраля 1428 года Анн решился, наконец, возобновить свои благочестивые размышления. Как сказал Сезар Кабриес, Божье прощение – это в некотором смысле тоже испытание, и отныне молодой человек чувствовал себя готовым к нему. Но в чем именно состоит Божье прощение? Чего же на самом-то деле Анн ожидает от Бога?
И как-то ночью, когда он стоял, облокотившись о подоконник своего окна, вдыхая аромат жасмина, к нему вдруг пришел ответ: он ждет от Бога нового имени. Ведь он больше не Вивре. Он назвался «Англичанином» только в насмешку над самим собой, из самоуничижения, и надеется теперь обрести настоящее имя. Если Бог простит его, то Он прямо в Иерусалиме дарует Анну новое имя…
Отныне юноша был готов. Сезар Кабриес и «Надежда» могли приходить и брать его на борт. Сиру Англичанину не терпелось оказаться в Святой земле!
***
Сезар Кабриес вернулся в конце зимы, этого удивительного времени года, в котором не было ничего зимнего, кроме названия. С искренним удовольствием Анн увидел, как этот человек, вызывавший у него столько симпатии, входит в его келью.
— Сир капитан, какая радость увидеть вас снова!
Сезар Кабриес пристально посмотрел на юношу своими проницательными глазками, и его толстые губы растянулись в улыбке.
– Вижу, время сделало свое дело! Идемте, «Надежда» ждет вас.
– Мы поспеем в Иерусалим к Пасхе?
– Поспеете.
Они зашли за Альенорой в ее обитель, и, к своему удивлению, Анн вновь испытал прилив радости. Прошлое забылось. Он ощущал некое сообщничество с той, чья судьба, хотел он того или нет, была связана с его собственной. Анн больше не противился этому чувству. Впрочем, Альенора тоже изменилась и уже не выглядела столь трагически подавленной. Как и он сам, она, похоже, была готова возродиться к жизни.
Однако по дороге в гавань они не говорили между собой, а, оказавшись на корабле, вновь разделились, как и раньше: Альенора устроилась одна в шалаше на носу, а Анн – в трюме с прочими паломниками.
Плавание затянулось дольше, чем они предполагали. Все шло хорошо, и уже показался берег, но тут корабль попал в полосу штиля и перестал двигаться. Не было ни малейшего дуновения ветерка, море стало гладким, как зеркало, и парус уныло обвис. Для Анна, Альеноры и всех прочих паломников это ожидание, когда Святая земля уже виднелась вдали, было невыносимо. Все задавались одним и тем же мучительным вопросом: попадут ли они в Иерусалим к пасхальным праздникам? Сезар Кабриес, знавший, что подобное безветрие может длиться неделями, ободрял своих пассажиров, как только мог, но в душе полностью разделял их опасения.
Наконец, в один из дней, около полудня, они вдруг испытали уже забытое ощущение, исторгнувшее у всех крик радости: мореплаватели почувствовали на лицах дуновение воздуха. Они бросились на колени, дабы возблагодарить Бога, а парус тем временем надувался ветром, и судно постепенно набирало ход…
«Надежда» прибыла в порт Яффа в Страстной понедельник. Сезар Кабриес их успокоил: до Иерусалима отсюда всего три дня пути, они поспеют вовремя. Но не мешало поторопиться, и Анн лишь коротко попрощался с этим человеком, которому, как он сам сознавал, был обязан столь многим.
Анн и Альенора оказались среди довольно внушительной толпы, поскольку к паломникам с «Надежды» вскоре присоединились и другие. Но они вдвоем двигались немного поодаль: Альенора – на Безотрадном, Анн – пешком, уже без своих дубинок, отныне ставших ненужными. Как и прежде, они посыпали себе головы прахом земным, но то была совсем другая земля. Она перестала быть символом боли и унижения. Она была мягка, как бальзам, и благотворна, как летний дождь: то была Святая земля, обещание искупления!..
Сезар Кабриес не солгал: они поспели в Иерусалим как раз к Страстной пятнице. Паломники оказались там даже накануне вечером. И пали на колени при виде зрелища, в котором действительно было что-то божественное. Святой город возник перед ними, словно по волшебству: посреди сухой, бесплодной земли внезапно выросли высокие стены, состоявшие, казалось, из одних прямых линий. Из-за мощных стен виднелись причудливые купола и башни сарацинских культовых сооружений, но как раз это Анна не удивило. Он знал, что со времен Саладина город находился во власти магометан. Молодой человек поневоле отдал мусульманам безмолвную дань уважения за то, что они беспрепятственно впускают сюда христиан.
Анн и Альенора не стали входить в город немедленно. Прочие паломники продолжили путь, и в лучах заходящего солнца молодые супруги увидели, как за вошедшими затворились ворота. Сами же они намеревались вступить в Святой город в Страстную пятницу, ровно через год – день в день – после своего грехопадения. Они провели ночь в молитвах на горке поблизости от ворот, и оба не спали до самого утра. С рассветом они снова двинулись вперед.
Когда они проходили через величественные ворота, сердце Анна колотилось так отчаянно, что готово было выскочить из груди. Однако внутри Иерусалим оказался таким же городом, как и другие. Дома здесь стояли самые разнообразные: некоторые – из хорошего камня, другие – глинобитные, крытые тростником. На иных улочках с трудом расходились два ослика; иные, напротив, были достаточно просторными и широкими, но и там продвигаться приходилось ничуть не быстрее – из-за густой толпы. Здесь было немало христианских паломников, явившихся к Страстной пятнице, но больше всего – торговцев. Просто несметное количество!
Несмотря на важность момента, Анн не смог удержаться и не поглазеть на все эти не виданные им доселе товары. Были там светильники из цветного стекла, кривые сарацинские сабли, украшения из позолоченной меди; разноцветные, с серебряным узором кожаные туфли без задника; сарацинские ковры, по сравнению с которыми те, что имелись при Орлеанском дворе – знаменитые на всю Францию! – выглядели лишь бледным подобием; благовония с пьянящим ароматом в граненых стеклянных флаконах; сласти всех форм и цветов; полные корзины странных плодов, о которых Анн слышал от Соломона Франсеса: фисташки, финики, бананы… А еще – певчие птицы с несравненным оперением и голосом… Юного паломника толкали, тянули в разные стороны, его несло и укачивало толпой в невероятном смешении криков, запахов и красок, круживших голову!
Тем большим оказался контраст с благоговейной тишиной, ожидавшей его в храме Гроба Господня. Вокруг не было людных улиц. Церковь, построенная на горе Голгофе, на ток самом месте, где была найдена Христова гробница, возвышалась посреди открытого пространства. Ее фасад разделяли полукруглые арки; в центре помещался клирос; три придела примыкали к центральному. Самое священное здание христианского мира не обладало величественной статью соборов Франции, но могло ли быть иначе в самом сердце сарацинской страны? Впрочем, глубину и жар молитвы порождает отнюдь не красота резного камня и витражей…
Анн и Альенора вместе участвовали в ночном бдении на паперти, стоя на коленях среди прочих паломников, и духовных и мирян вперемешку. В три часа на колокольне зазвонил колокол, призывая на богослужение, и они вошли в церковь.
С детских лет, с тех самых пор, как научился он молиться, Анн каждую Страстную пятницу пытался возвысить свой дух, причащаясь мук Христовых. Но в те блаженные годы он еще не ведал, что такое муки. И теперь ему казалось, что его молитва впервые обрела истинное значение.
Впервые также ему было о чем попросить Бога; вожделенное Анном заключалось в единственном слове: «Прощение». В этот миг, на том самом месте и в тот самый час, когда умер Спаситель, Анн от всей души молил Создателя о прощении…
После службы священники устроились на паперти и стали исповедовать паломников под открытым небом. Тот, что достался Анну, был молодым человеком скромного вида. Худой и темноволосый, тщедушный, внешне он выглядел полной противоположностью Берзениусу. Анн был рад этому обстоятельству. У него появилась уверенность, что злые чары нантской исповеди, наконец-то, развеются.
Священник внимательно выслушал молодого человека, а после заговорил сам. Но не для того, чтобы произнести обычное внушение и наложить епитимью. Наоборот, с его уст сошли слова любви и надежды.
– Сын мой, вы первый в вашем роду пришли помолиться ко Гробу Господню. Вы стяжали славу более великую, нежели все ваши предки, ибо слава эта – неземная.
Анн почувствовал, как его охватывает несказанная радость. Молодой исповедник осенил его крестным знамением.
– Даю вам отпущение. Я не налагаю на вас покаяние, вы каялись уже достаточно. В день Своего Воскресения сам Господь решит вашу участь. Если Он прощает вас, то даст вам имя, которого вы ожидаете. И каким бы оно ни оказалось, оно будет более великим, нежели любое, что вы носили до сих пор, ибо исходит оно от Самого Спасителя.
– Но что мне делать, святой отец?
– После пасхальной службы ступайте на Масличную гору. Там, на Масличной горе, Иисус был схвачен, там он оплакивал Иерусалим, глядя на город. Но там же Он восходил на небеса в день Преображения. И если будет на то воля Его, это место станет для вас также знамением радости и победы. Новая жизнь явится на смену боли и поражению. Ступайте же с миром…
И Анн удалился, погрузившись в самого себя, ссутулившись, скрестив на груди руки. Он даже не видел, что Альенора, желавшая исповедаться у того же священника, заняла его место.
Паломники молились на паперти весь день, здесь же провели они и ночь. Занялось утро субботы. В Страстную субботу, в день самой большой скорби, службы не было. Алтарь стоял пустым. В вечерню пели одни псалмы.
Все это время небольшая группа мужчин и женщин, сподобившихся ценой великих опасностей и тягот молиться у Гроба Господня, пребывала в полном молчании. Каждый замкнулся в себе, сосредоточившись на тайне своего сердца.
После новой короткой ночи, когда почти никто не спал, наконец, настал день Пасхи. Занялось розовое утро, дружно приветствуемое всеми петухами Иерусалима. Легкий воздух благоухал.
Первой заботой Альеноры и Анна было умыться. На паперти нашелся маленький источник с тонкой струйкой; к нему они и направились. Конечно, это было не настоящим мытьем, которое они изредка позволяли себе в некоторых монастырях да в ручьях и родниках, попадавшихся по дороге. То было символическое омовение, очищение. Они освежили водой лишь руки и лица. Кроме того, Анн тщательно отмыл свой серый шерстяной лоскут, после чего снова повязал себе на шею.
Было около десяти часов, когда колокола церкви Гроба Господня зазвонили во всю мочь, призывая на богослужение.
За ночь церковь украсили белыми расшитыми драпировками и гирляндами из всевозможных цветов – из садовых роз и скромных полевых растений. По прибытии паломников хор монахов грянул приветственное песнопение, припев которого подхватили все присутствующие. Пасхальная служба началась…
Никогда еще Анн не испытывал такого блаженства. Он вспомнил прошлогоднюю пасхальную службу, привкус пепла во рту и рану, которую ему растравляли слова о радости, надежде и победе. Те же самые слова следовали друг за другом, повинуясь нерушимому порядку литургии, но теперь они находили в нем глубокий отклик. Каждое новое слово стирало то, что было услышано во время ужасной службы прошлого года в соборе Святого Петра. Невыносимое бремя вины по отношению к Перрине больше не подавляло Анна. Речь шла не о забвении греха, но о том, чтобы научиться достойно жить с этим воспоминанием. И Анн понял, с невыразимой радостью понял, что как раз это и называется прощением.
«Аллилуйя! Христос воскрес!» Анн возрождался, хотя, сам того не желая, слушал мессу все более и более рассеянно. Значит, он будет жить, но в ожидании своего нового имени. А в том, что оно будет ему открыто, он более не сомневался, ибо только что получил прощение – ему пора задуматься над тем, на что он употребит свою жизнь.
И вскоре Анн понял, что должен просто применить дарованные ему Богом способности. В том, как он разделался с наемными убийцами Берзениуса, заключался ясный ответ: он – воин, исключительный боец. Раз во Франции идет война, он обязан поставить свое боевое искусство ей на службу. Конечно, Анн никогда не будет рыцарем, но сражаются ведь не одни только рыцари. Голодранцы, вроде него, тоже кое на что годны, и он это докажет!
***
По обычаю церкви Гроба Господня причастие совершалось после мессы. Паломники перед уходом подходили к столу, украшенному пальмовыми и оливковыми ветвями, и брали кусочки освященного хлеба.
Анн тоже направился туда вслед за Альенорой. Теперь-то он точно знал, как будет участвовать в освобождении французского королевства, и это открытие поглотило его настолько, что он чуть не забыл про пасхальную мессу в церкви Гроба Господня! И только прикосновение к губам благословенного хлеба вернуло его к действительности.
Выйдя наружу, Анн решил немедленно отправиться на Масличную гору. Заметив молодого священника, который его исповедовал, юноша справился у того о дороге.
– Вам надо выйти через восточные ворота и перейти через речку, которая называется Кедрон. Там увидите вытянутый холм: это и есть Масличная гора.
Его голос зазвучал весело и при этом торжественно:
– Ступайте, сын мой. Внемлите гласу Божию!
Священник повернулся к Альеноре, стоявшей рядом с Анном.
– И вы тоже, дочь моя. Господь ответит и на ваш вопрос.
Священник благословил супругов. Анн удивленно посмотрел на Альенору. Какой же вопрос она желает задать Богу? Но его удивление длилось недолго. Он уже спускался по склону Голгофы, чтобы углубиться в людные улочки Иерусалима…
Анн и Альенора покинули город через восточные ворота, названные Золотыми, перешли за Кедрон по мосту, ведущему к Иерихонской дороге, и поднялись по склону Масличной горы. Анн был удивлен и немного разочарован увиденным. Он-то ожидал, что на этом холме, как сказано в Евангелии, раскинулся, возвышаясь над городом, большой сад, а наделе это оказалось всего лишь предместьем Иерусалима. Повсюду стояли дома. Взобравшись на вершину, Анн все же обнаружил довольно широкое незастроенное пространство с несколькими оливковыми деревьями. Под одним из них он и остановился.
Юный паломник посмотрел на Иерусалим. С того места, где он стоял, церковь Гроба Господня была не видна. Зато на первый план выступили сарацинские мечети. Высокий купол одной из них возвышался из-за ближайшего участка стены, другой, поменьше, торчал левее. За ними простирался город со своими улочками, площадями и домами в охристых и белых тонах.
Анн почувствовал, как у него перехватывает горло, а сердце вдруг забилось быстрее. Время пришло. Здесь и сейчас он получит свое новое имя!
Он попытался дышать ровнее, чтобы обрести спокойствие. Торопиться некуда. У него достаточно времени, чтобы решить, как действовать. Для уверенности в том, что имя дано божественным соизволением, ему следует закрыть глаза, а потом открыть их через какое-то время. Первое, на что наткнется его взгляд, будь то предмет или существо, и станет его новым прозванием. Если это окажется камень, муха, червяк, то он так и назовется: «Анн Камень», «Анн Муха» или «Анн Червяк»!
Чтобы крепче утвердиться в своем решении, Анн произнес вслух:
– Клянусь!
Жребий был брошен. Он закрыл глаза. Пошел наугад. Он вполне мог наткнуться на что-нибудь или упасть, но это не имело значения: удар заставит его открыть глаза, и он увидит… Втайне молодой человек надеялся наткнуться на ствол оливкового дерева: «Анн Олива» – такое имя ему нравилось. Но напрасно он кружил, ходил туда-сюда. Ему не попалось никакого препятствия, никакой рытвины или ухаба.
Какое-то время спустя пришлось, наконец, решиться. Анн остановился, открыл глаза…
И застыл в смущении, почти в растерянности. Перед ним не было ничего, по крайней мере, ничего близкого. Он стоял на краю холма и непременно свалился бы под откос, если бы сделал еще один шаг. Его взгляд был устремлен на распростертый внизу город, такой прекрасный пасхальным утром… Что бы это значило?
Анн видел не что-то конкретное, определенное, но тысячу разных вещей одновременно: крепостные стены, сарацинские купола, скопище улиц и домов… Ничто из всего этого не выделялось, не навязывало себя. Так какое же имя ему взять?
И вдруг он содрогнулся всем своим естеством: невероятно, но все же это так! Имя было здесь, перед ним. Его имя – весь этот бело-охристый город, озаренный солнцем Востока, его имя – сам Иерусалим!
Он был готов взять себе самое смиренное, самое убогое прозвище, а получил величайшее!
Анн отрицательно покачал головой. Нет, не может он назвать себя «Анн Иерусалимский», это было бы больше, чем гордыня, это было бы святотатство. Надо все начать сначала. Следует вновь закрыть глаза.
Однако Анн отказался от этого. Он должен покориться Божьей воле. А тем, кого подобное имя покоробит, он ответит просто, что получил его на Пасху, на Масличной горе. Так что вопрошающим ничего другого не останется, кроме как понять…
Тут Анн очнулся от размышлений и заметил Альенору, смотревшую на него с приоткрытым ртом. Должно быть, она решила, что ее муж потерял рассудок, коль скоро он расхаживает вот так, с зажмуренными глазами, проявляя все признаки сильнейшего возбуждения.
Анн подошел к ней, собираясь объяснить все. Он хотел, чтобы Альенора поняла и разделила с ним его радость.
И рассказал ей – все. Альенора выслушала его в молчании. Он заключил пылко:
– Анна де Вивре больше нет. Только что родился Анн Иерусалимский, и он будет сражаться за освобождение Франции! У меня такое впечатление, будто несчастья никогда и не было – оно попросту стерлось!
– Так оно и есть…
Альенора Заморская говорила, не повышая голоса. Он взглянул на нее так, словно видел впервые. Потом продолжил, чуть увереннее:
– Я хотел сказать, что… я больше не испытываю к вам никакой злобы, никакого гнева…
– Все это неважно. Теперь и вы послушайте. Мне тоже есть что сказать.
И поведение Альеноры, и ее голос были уже не те. Несмотря на истрепавшееся платье и нечесаные волосы, она вдруг перестала походить на смиренную паломницу, удрученную своей судьбой. Казалось, она снова стала той величавой всадницей, какой была в Куссоне.
– Вы правы: прошлое стерто. Этого года больше нет. Мы вернемся к тому, с чего начали.
– Не совсем вас понимаю…
– Я отвечу на ваш вопрос.
– На какой вопрос? У меня их тысяча.
– На самый важный из всех.
– И вы знаете, какой именно?
– Разумеется. Я знаю о вас даже больше, чем вы сами. Я ведь уже говорила.
Анн смотрел на нее со все возрастающим удивлением. Он еще не понимал. Чувствовал только, как что-то происходит.
– И… что это за вопрос?
– Теодора я или нет.
Он отшатнулся, прислонившись спиной к стволу оливы. Открыл рот, но ни единого звука не слетело с его губ. Его спутница продолжала говорить, пристально глядя ему прямо в глаза:
– Мне сейчас Бог тоже дал имя. Или, скорее, дал право назвать его. Так что слушайте: я – «волчья дама», былая хозяйка замка Куссон. Я – Теодора…
Воцарилось мертвое молчание. Анн был так потрясен, что буквально онемел. Его же спутница не сводила с него серых глаз, таких светлых, таких пронзительных.
Наконец, он обрел дар речи. Ему казалось, что он вынужден отдирать от нёба каждое слово.
– Я думал, что… Вы сами говорили… Разве вы не английская шпионка?
– Это мое земное воплощение. Ведь для того, чтобы вернуться на землю, душа Теодоры должна была вселиться в какое-нибудь тело.
– Я не в силах поверить вам.
– Присмотритесь ко мне, и сами увидите…
Анн с величайшим трудом оторвался от серых глаз, чтобы окинуть взглядом ее всю, целиком. И почувствовал, как земля уходит у него из-под ног… Это невозможно – прежнее волнение вновь охватило его! Он же видел Альенору совершенно нагой в монастырской бане, и это зрелище оставило его совершенно бесстрастным. А теперь, в своем истрепанном сером платье, похожем на драный мешок, она производит на него то же самое впечатление, что и тогда, на крепостной стене Куссона! Альенора влекла, притягивала его к себе, и это притяжение было почти сверхъестественным. В этом влечении не было ничего человеческого…
Анн отступил на шаг.
– Если вы – та, о ком говорите, то вы – зло.
– Теодора – зло лишь для того, кто видит в ней зло. И добро для того, кто умеет ее любить.
Не слишком сознавая, что делает, Анн побежал прочь. Добежав до края холма, он остановился перед невысоким склоном, там, где ему было даровано имя. Обратив взор к Иерусалиму, он попытался собраться с мыслями.
Нечто подобное произошло с ним почти год назад, когда Альенора догнала его на паломническом пути, чтобы сообщить о своем предательстве и о решении его прадеда. Тогда Анну мнилось, что он испытал уже все потрясения, какие способно выдержать человеческое существо. И все же Альенора потрясла его еще сильнее.
Сегодня случилось то же самое. Он только что получил самое ошеломляющее из откровений: его зовут Анн Иерусалимский, и вот эта женщина заявляет, что она – Теодора! Для одного раза чересчур.
Анн опустился на колени, сложил руки и воззвал к Духу Святому. Молодой человек не сомневался в признании, которое только что обрушилось на него: его спутница по паломничеству, его жена – поскольку он, увы, женат на ней – воистину Теодора.
Но как же ему быть? Он долго размышлял и рассудил, что у него нет другого выхода, кроме бегства. Ему надо немедленно вскочить на Безотрадного и оставить здесь это создание. Ибо Теодора – зло, даже сам дьявол. Разве дьявол – не искуситель по преимуществу? А эта женщина – искусительница, суккуб. Если он поддастся ей, то станет недостоин своего нового имени, вновь сделается таким же несчастным, как прежде!
Анн направился было к коню, когда его остановило одно воспоминание. Его глазам вновь предстала пасхальная служба, окончившаяся всего два часа назад, но уже такая далекая. Он стоял как раз за молодой женщиной, своей супругой, когда та взяла благословенный хлеб с праздничного стола. Если бы Альенора на самом деле была посланницей дьявола, то простое прикосновение к освященному хлебу обратило бы ее в дым.
Теодора… Много раз Анн повторил про себя это имя – и вдруг что-то случилось. Он начал куда-то падать – падать стремительно, бесконечно. Он даже не знал, чудесно это или ужасно. Знал только, что падает, и открытия следовали одно за другим.
Конечно, Теодора от Бога, а не от дьявола, ведь само имя «Теодора» по-гречески означает «дар Божий». И если Бог решил послать ее к нему, то просто потому, что она – женщина, которую он любит!
Он любит Теодору, всегда любил… Влюбился в нее с того самого мига, как узнал о ее существовании, когда прадед впервые произнес это имя в алхимической лаборатории. Анн любил ее так сильно, как только может любить человеческое существо! Именно любовь к Теодоре обожгла его той ночью, когда он различил ее голос в хоре волков, завывающих в темноте.
Да, Анн любил Теодору и всегда любил только ее. Вопреки тому, что он сам считал, ни минуты он не был влюблен в Альенору д'Утремер, Альенору Заморскую. Познакомившись с этой дамой, Анн испытал лишь смутную симпатию. А интересоваться ею начал лишь в тот день, когда предположил, что она может оказаться Теодорой. Если она так заворожила его в ту ночь Страстной пятницы на стене замка, то лишь потому, что он тогда уже был уверен: зимняя гостья Куссона и есть «волчья дама».
Оставалось самое трудное, самое страшное: теперь, когда он знает все, ему предстоит приблизиться к ней. Анн сделал шаг, потом другой, и невыносимое волнение охватило его с новой силой. Во рту и горле пересохло, в висках бешено застучало, ноги подгибались. Ему показалось, что он опять в своей комнате, на самом верху Юговой башни. И снова слышит волчий вой…








