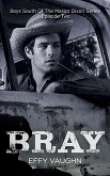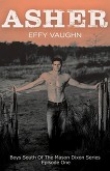Текст книги "Спаси меня, вальс"
Автор книги: Зельда Фицджеральд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Будет война.
– Но их же предупредили, чтобы они не плыли на «Лузитании» [17]17
7 мая 1915 г. немцы потопили британский пассажирский лайнер «Лузитания», что вызвало бурю протестов в США и послужило одной из причин вступления США в Первую мировую войну.
[Закрыть], – сказала Милли.
Остин раздраженно откинул назад голову.
– Как можно? – отозвался он. – Они не имеют права предупреждать граждан нейтральных стран.
Автомобиль с мальчишками затормозил на обочине. В темноте раздался долгий пронзительный свист, но ни один из мальчишек не вышел из машины.
– Ты не покинешь дом, пока они сами не изволят за тобой зайти, – строго произнес Судья.
Освещенный лампой в холле, он казался очень красивым и серьезным – таким же серьезным, как предполагаемая война. Алабаме стало стыдно за своих приятелей, как только она сравнила их с отцом. Один из мальчиков вылез из автомобиля и открыл калитку; и Алабама и отец назвали бы это компромиссом.
«Война! Будет война!» – думала она.
От возбуждения сердце едва не выпрыгивало у нее из груди, и она так высоко поднимала ноги, что, казалось, летела над лестницей, устремившись к ожидавшему ее автомобилю.
– Будет война, – сказала Алабама.
– Вот и повеселимся на танцах, – отозвался ее эскорт.
Весь вечер Алабама думала о войне. Теперь начнется другая жизнь, и будут другие удовольствия. С юношеским ницшеанством Алабама уже предвкушала, что благодаря мировому катаклизму избавится от ощущения удушья, и новые ощущения затмят и семью, и сестру, и мать. Алабама говорила себе, что будет с улыбкой шагать по высотам, останавливаясь, чтобы нарушать правила, грешить и любить, а если цена будет слишком высока… ну, не стоит жадничать заранее. Переполненная подобными самонадеянными заключениями, Алабама обещала себе, что если в будущем ее душа изголодается и будет молить о хлебе, пусть ест камень, который она предложит ей без сожалений и раскаяния. Она без устали убеждала себя в том, что главное – при первой же возможности взять желаемое. И она старалась добиться своего.
III
– Эта оказалась самой неукротимой, но и самой стоящей из девочек Беггс, – говорили в округе.
Алабаме было известно все, что о ней говорили, – рядом с ней было так много юношей, жаждавших «защитить» ее, что избежать сплетен оказалось невозможно. Она откидывалась назад, раскачивая качели, и старалась представить себя такой, какой ее представляли другие.
«Стоящая, – думала она, – означает, что я никогда не обману их ожиданий, я и правда жутко способная – мои шоу чертовски хороши».
«Он очень похож на чистопородного пса, – думала она о высоком офицере, который стоял рядом с ней, – на гончую, благородную гончую! Интересно, он может достать ушами до кончика носа?» Она уже не воспринимала его как мужчину, увлекшись сравнением.
У офицера было длинное печально-сентиментальное лицо, наиболее выдающаяся точка которого находилась на кончике чувствительного носа. Время от времени офицер яростно себя ругал, просто разрывал в клочья и обрушивал эти клочья ей на голову. Несомненно, его терзали муки любви.
– Маленькая леди, как вы думаете, вам хватило бы пяти тысяч в год? – спросил он, открывая свою душу. – Для начала, – подумав, добавил он.
– Хватило бы, но я не хочу жить на пять тысяч.
– Тогда почему вы поцеловали меня?
– Никогда еще не целовалась с усатым мужчиной.
– Вряд ли это может служить объяснением…
– Вы правы. Но это объяснение ничем не хуже тех, которыми многие прикрывают свой уход в монастырь.
– Тогда мне нет смысла оставаться дольше, – печально проговорил офицер.
– Наверно, нет. Уже половина двенадцатого.
– Алабама, вы совершенно невыносимы. Вам известно, какая у вас репутация? А я все равно предлагаю вам руку и сердце…
– И сердитесь, потому что я не делаю из вас жертву, честного мужчину.
Молодой человек тут же стушевался и словно бы спрятался за обезличивающим всех военным мундиром.
– Вы пожалеете, – недовольно проговорил он.
– Надеюсь, – ответила Алабама. – Мне нравится платить за то, что я делаю, – тогда я чувствую себя в расчете со всем миром.
– Вы похожи на диких команчей. Зачем вам нужно притворяться злой и жестокосердной?
– Может быть, вы правы – в любом случае, в тот день, когда я раскаюсь, напишу «простите» в уголке приглашений на свадьбу.
– А я пришлю вам свою фотографию, чтобы вы не забыли меня.
– Хорошо – если хотите.
Алабама закрыла дверь на щеколду и выключила свет. Стоя в непроглядной темноте, она ждала, когда глаза начнут различать контуры лестницы. «Может быть, следовало бы выйти за него замуж, ведь мне скоро восемнадцать, – попыталась она размышлять здраво, – и он бы неплохо заботился обо мне. Пора подумать о будущем». С этими мыслями Алабама поднялась по лестнице.
– Алабама, – услыхала она тихий, едва различимый голос матери, донесшийся к ней из потока темноты, – утром с тобой хочет поговорить твой отец. Не опаздывай на завтрак.
Сидевший за столом с серебряными приборами судья Остин Беггс выглядел человеком уверенным, трезво мыслящим и глубоко погруженным в свои мысли. Он был похожим на выдающегося спортсмена, замершего в неподвижности, – перед тем моментом, когда ему надо выложиться до конца.
Он сразу постарался взять верх над Алабамой.
– Имей в виду, я не позволю, чтобы из-за тебя мое имя трепали на всех углах.
– Остин! Да она же только что окончила школу, – Милли попробовала урезонить мужа.
– Тем более. Что тебе известно об этих офицерах?
– По-жа-луй-ста…
– Джо Ингхэм рассказал мне, что его дочь привезли домой неприлично пьяной, и она созналась, что это ты напоила ее.
– Она сама пила. Мы праздновали новый набор в офицерской школе, и я налила джин в медицинскую фляжку.
– И заставила девчонку выпить?
– Ну уж нет! Когда она увидела, как все смеются, то решила присоседиться к моей шутке, ведь самой ей ни за что ничего путного не придумать, – спесиво произнесла Алабама.
– Отныне тебе придется вести себя более осмотрительно.
– Да, сэр. Ох, папа! До чего же я устала сидеть на крылечке, ходить на свидания и смотреть, как все погано.
– Мне кажется, у тебя и так хватает дел, и необязательно развращать окружающих.
«Какие дела, кроме как пить и любить?» – мысленно откликнулась Алабама.
Она остро ощущала собственную никчемность, бессмысленность такой вот жизни, когда июньские насекомые обсыпа́ли липкие плоды на фиговом дереве и тучи неподвижных мух – всякую гниль. Скудная сухая трава под пеканами [18]18
Разновидность орехового дерева.
[Закрыть]кишела рыжевато-коричневыми гусеницами, стоило только к ней присмотреться. Спутанный в колтуны горошек высох на осенней жаре, и, как пустые раковины, свисали с перекладин на доме затвердевшие стручки. Солнечные лучи красили газон ровными желтыми мазками и ломались о спекшиеся хлопковые поля. Жирная земля, богато родившая в другое время, теперь лежала плоскими пластами по обе стороны дороги, изредка морщась в обескураживающей усмешке. Невпопад пели птицы. Ни мул в поле, ни человек на песчаной дороге не могли вынести жару, клубящуюся между впалыми глинистыми берегами и негромко шелестящими кипарисами, которые отделяли военные лагеря от города – многие умирали от солнечного удара.
Вечернее солнце, запахнувшись в розовые небесные одеяния, следовало в город за автобусом с офицерами: юными лейтенантами, старыми лейтенантами, и те и другие получали увольнительные и отправлялись искать то объяснение мировой войны, которое мог им предложить маленький алабамский городок. Алабама знала их всех, но относилась к ним по-разному.
– Ваша жена в городе, капитан Фаррелей? – раздался голос в подпрыгивающем автобусе. – У вас как будто прекрасное настроение.
– Она здесь… Но я собираюсь повидать свою девушку. Вот и радуюсь, – коротко ответил капитан и начал тихонько что-то насвистывать.
– А…
Юный лейтенант не знал, что еще сказать, опасаясь, как бы это не прозвучало глупо – как поздравление с рождением мертвого ребенка. Не скажешь же: «Вот здорово!» Или: «Очень мило!» Но он мог бы сказать: «Знаете, капитан, это неприлично», – если бы хотел разыграть из себя блюстителя нравов.
– Что ж, удачи вам. У меня сегодня тоже свидание, – в конце концов проговорил лейтенант. – Удачи, – повторил он, желая показать, что свободен от моральных предрассудков.
– Вы все еще обхаживаете Беггс-стрит? – внезапно спросил капитан.
– Да, – ответил лейтенант и неловко засмеялся.
Автобус доставил военных в центр города, на притихшую площадь. На огромном пространстве, окруженном невысокими зданиями, он казался таким же крохотным, как карета на дворцовом дворе со старой гравюры. Приезд автобуса никак не сказался на сонном городке. Старая колымага избавилась от своего груза – пользующихся успехом у дам и едва сдерживающих себя мужчин, выбросив их в объятия перевернувшегося мира.
Капитан Фаррелей зашагал к стоянке такси.
– Беггс-стрит, дом пять, – с нарочитой самоуверенностью громко произнес он, специально для ушей лейтенанта. – И побыстрее.
Пока такси разворачивалось, Фаррелей с удовольствием прислушивался к смеху офицеров, доносившемуся из темноты.
– Привет, Алабама!
– А, это вы, Феликс!
– Меня зовут не Феликс.
– Но Феликс вам больше идет. А как вас зовут?
– Капитан Франклин Макферсон Фаррелей.
– Меня преследуют мысли о войне, поэтому я не могу запомнить.
– Я написал о вас стихи.
Алабама взяла у него листок бумаги и поднесла к свету, пробивавшемуся сквозь планки жалюзи, словно звуки музыки.
– Тут о Вест-Пойнте, – разочарованно проговорила она, – об академии.
– Это все равно, – отозвался Фаррелей. – То же самое я чувствую к вам.
– Тогда пусть эта ваша Военная академия сухопутных войск радуется тому, что вы любите ее серые глаза. Вы оставили последние стихи в такси или держите его на случай, вдруг я буду отстреливаться?
– Я действительно сказал шоферу, чтобы он ждал, потому что приглашаю вас покататься. Нам не стоит сегодня идти в клуб, – без тени улыбки произнес капитан.
– Феликс! – с укоризной воскликнула Алабама. – Вам ведь известно, что мне наплевать на сплетни. Никому и в голову не придет обсуждать, что мы вместе, – для хорошей войны нужно много солдат.
Алабаме было жаль Феликса. Он не хотел компрометировать ее, как это трогательно, на Алабаму нахлынула волна нежности и дружеского участия.
– Вы не должны обращать внимание.
– На сей раз дело в моей жене… Она приехала, – сухо проговорил Фаррелей, – и может быть там.
Он не извинился.
Алабама помедлила в нерешительности.
– Что ж, кататься так кататься, – наконец сказала она. – Потанцуем в следующую субботу.
Капитан Фаррелей принадлежал к вполне определенному типу мужчин: застегнутый на все пуговицы солдафон, из тех, что погрязли в чванливости жующей бифштексы Англии и торчат в барах, но он был в самое сердце поражен чистой, равнодушной к обидам, безоглядной любовью. Вновь и вновь он запевал «О, дамы, дамы», когда они катили вдоль горизонтов юности и залитой лунным светом войны. Южная луна – это кипящая луна, страстная. Когда она со сладостным неодолимым постоянством затопляет своим светом поля, неумолкающие песчаные дороги и густые изгороди из жимолости, борьба за принадлежность к реальной жизни похожа на протест против первого дуновения эфира. Он сомкнул руки на сухом тонком теле, от которого исходил аромат розы «чероки» [19]19
Здесь: символ жизнестойкости и независимости.
[Закрыть]и гаваней в сумерках.
– Я собираюсь добиваться перевода, – торопливо произнес Феликс.
– Почему?
– Не хочу падать из самолета и устраивать кучу– малу на дороге, подобно вашим прежним возлюбленным.
– Кто выпал из самолета?
– Ваш друг с лицом таксы и усами, когда направлялся в Атланту. Механик погиб, а лейтенанта судит трибунал.
– Страх, – сказала Алабама, чувствуя, что у нее сводит скулы от ужаса, – это ведь нервы, наверно, и всякие другие чувства тоже. Все равно надо быть собой и ни о чем не думать. А как это вышло? – все-таки поинтересовалась она.
Феликс покачал головой.
– Хотелосьбы думать, что это был несчастный случай.
– Что толку расстраиваться из-за этого песика, – вышла из положения Алабама. – Люди, которые растрачивают свою душу на все подряд, они неразборчивы в чувствах, как проститутки; они безответственны по отношению к окружающим – никакого Уолтерролизма [20]20
Имеется в виду Уолтер Роли (1552–1618) – один из основателей (1578) первого английского поселения у побережья Северной Каролины.
[Закрыть]мне не надо, – твердо сказала она.
– Знаете ли, у вас не было права завлекать его.
– Ну сейчас-то уже все.
– Для бедняги механика в больничной палате действительно уже все, – заметил Феликс.
Ее высокие скулы разрезали лунный свет, как серп режет спелую пшеницу. Армейскому человеку было непросто осудить Алабаму.
– А что у вас со светленьким лейтенантом, который ехал вместе со мной до города? – спросил Фаррелей.
– Боюсь, тут мне будет трудно оправдаться, – ответила Алабама.
Капитан Фаррелей изобразил судороги, будто он сейчас утонет. Он схватил себя за нос и сполз на пол.
– Бессердечная, – проговорил он. – Ничего, я справлюсь.
– Честь, Долг, Родина и Вест-Пойнт, – мечтательно отозвалась Алабама. И засмеялась. Они оба засмеялись. Было очень грустно.
– Беггс-стрит, дом пять, – продиктовал капитан Фаррелей таксисту. – Быстрее. Там пожар.
С началом войны в городе появились толпы мужчин, которые, как тучи голодной саранчи, поедали без разбора всех незамужних женщин, в избытке населявших Юг с тех пор, как его поразил экономический упадок. Был там майор маленького роста, но стремительный, как японский воин, так и сверкавший золотыми зубами; был ирландский капитан с глазами, как Бларни-стоун [21]21
Камень треугольной формы у сторожевой стены в замке английского графства Корк. Легенда гласит: кто его поцелует, тот обретет дар красноречия.
[Закрыть], и волосами, как горящий торф; были офицеры с белыми кругами вокруг глаз из-за темных очков и с припухшими от ветра и солнца носами; были мужчины, для которых форма стала лучшим, что они когда-либо прежде надевали, и полностью соответствовала их представлению об особом периоде в их жизни; были мужчины, пахнувшие тоником для волос из лагерной парикмахерской, и мужчины из Принстона и Йеля, от которых пахло юфтью и которым хотелось жить, а не умирать; были и снобы, сыпавшие названиями дорогих магазинов, и мужчины, которые танцевали вальс, не снимая шпор, и обижались, когда у них отбивали партнерш. Девушки переходили от одного мужчины к другому в чувственном упоении тогдашним виргинским калейдоскопом.
Все лето Алабама коллекционировала солдатские значки. К осени у нее была доверху наполненная коробка из-под перчаток. Ни у одной другой девушки не было значков столько, хотя она и потеряла несколько штук. Сколько танцев и катаний – и сколько же золотых планок и серебряных планок, бомб и замков, и флагов, и даже драконов. Каждый день она надевала новый значок.
Алабама ссорилась с Судьей Беггсом из-за своей коллекции безделушек, а Милли смеялась и советовала дочери сохранить ее, потому что среди значков были и очень красивые.
Потом наступили холода, как всегда в этих местах. Скажем так, святость сотворенного Богом затуманила унылые деревья; луна неясно светилась отдельными пятнами, похожими на зарождающиеся жемчужины; ночь выбирала белую розу. Несмотря на тучи и тьму, Алабама вышла из дома и стала ждать своего кавалера, погружаясь мыслями в прошлое и фантазируя о будущем, вспоминая сны и стараясь предугадать реальность.
Лейтенант со светлыми волосами и без значка поднялся по ступеням крыльца Беггсов. Он не купил себе другой значок на замену, потому что ему нравилось думать, будто тот, который потерян в битве за Алабаму, незаменим. Ему казалось, что небесные силы поддерживают его где-то под лопатками, отчего ноги словно бы не касаются земли, невесомость экстаза, вот что он ощущал, словно ему была дана тайная радость полета, однако, уступая общепринятым представлениям, он все же ходил, а не летал. Золотисто-зеленые в лунном свете, его волосы над чуть вдавленным лбом напоминали о фресках в целлах [22]22
Внутреннее помещение античного храма (святилище).
[Закрыть]и модных портиках. Впадины над глазами, как заслоны таинственных фантазий, словно бы хотели приглушить синеву глаз, придать больше вдохновенности его лицу. Мужская красота уже пробивалась сквозь мальчишеское очарование двадцатидвухлетнего юнца, это сказывалось на его жестах и движениях, на походке, напоминающей своей сдержанной неспешностью походку дикаря, который тащит на голове тяжелый груз камней. Ему казалось, что теперь как только он скажет таксисту: «Беггс-стрит, дом пять», – рядом появится призрак капитана Фаррелея.
– Вы уже одеты! А почему тут, на крыльце?
Снаружи было холодно и туманно.
– Папа пребывает в унынии, и я отступила с поля боя.
– И в чем же вы провинились?
– Ах, у него всегда одно и то же, мол, армия имеет право на эполеты.
– Разве не прекрасно, что родительская власть гибнет так же, как и все остальное?
– Прекрасно – но я обожаю традиции.
Они стояли на скользком крыльце в море тумана на довольно большом расстоянии друг от друга, и все же Алабама могла поклясться, что прикасается к молодому человеку, таково было магнетическое притяжение двух пар глаз.
– И?..
– Песни о летней любви. Ненавижу холод.
– И?..
– Светловолосые мужчины едут в загородный клуб.
Клубный особняк с любопытством вытягивался во все стороны под дубами, похожий на сросшиеся луковицы, выпускающие по весне стрелки стеблей. Проезжая по подъездной аллее, автомобиль носом тянулся к круглой клумбе пушницы [23]23
Красно-желтые тропические цветы.
[Закрыть]. Земля повсюду была исхожена и утоптана, словно перед детским театром. Провисшая проволока вокруг теннисного корта, облупившаяся тускло-зеленая краска на летнем домике у первой метки, подтекающий кран, пропыленная веранда с приятной атмосферой, создаваемой вольно разросшимися вокруг кустами. Жаль, что сразу после войны в одном из ящиков взорвалась бутылка маисовой водки, и все сгорело дотла. Так много от любящей помечтать юности – не просто от переходного возраста, а от прожектерства и бегства неприспособленных людей в ту драматическую военную пору – было втиснуто под низкие стропила, что пламя, разрушившее святилище тоски по мирному прошлому, возможно, вспыхнуло из-за чрезмерного накала чувств. Всякий офицер, посетивший это место дважды или трижды, обязательно влюблялся, делал предложение руки и сердца и рвался создать поблизости маленькие, но в точности такие же загородные клубы.
Алабама и лейтенант задержались возле двери.
– Я хочу сделать запись о нашем первом свидании, – сказал лейтенант.
Вынув нож, он вырезал на дверной раме:
«Дэвид Найт [24]24
Английское слово «найт» означает «рыцарь».
[Закрыть], – запечатлено навеки, – Дэвид, Дэвид, Рыцарь, Рыцарь, Рыцарь, и мисс Алабама Никто».
– Какая самовлюбленность.
– Мне нравится тут. Давай посидим где-нибудь.
– Зачем? Танцы всего лишь до двенадцати.
– Доверься мне на пару минут.
– Я тебе доверяю. Поэтому мне и хочется внутрь.
Ее немного рассердили имена на двери. Уже много раз Дэвид говорил ей, что собирается стать очень знаменитым.
Танцуя с Дэвидом, она дышала запахом новых вещей. Алабама была совсем близко к нему, едва не утыкалась носом куда-то между ухом и жестким воротничком, и это походило на приобщение к изысканности отличных тканей, тонкого батиста и полотна, к роскоши в тюках. Она завидовала его внешнему равнодушию. Глядя, как он уходит с танцевального круга в обществе то одной, то другой девушки, она злилась не на то, что его привлекают другие, а на то, что он приглашает других, а не ее, в те неведомые, не опаленные жаром тайники души, где обитает только он сам.
Он проводил ее домой, и они сидели у горящего камина, безразличные ко всему вокруг. Блики пламени сверкали на его зубах и на лице, придавая ему загадочное выражение. А она смотрела, как это лицо меняется – беспрерывно и неуловимо, словно целлулоидная мишень в тире. Алабаме припомнились советы отца: как быть осмотрительной, чтобы не терять голову, однако в них не было ничего, что предостерегало бы от мужского обаяния. Стоило ей влюбиться, и ее собственные афоризмы оказались не в состоянии ей помочь.
За последние несколько лет Алабама вытянулась, стала высокой и худенькой; ее волосы посветлели, словно бы оттого, что так сильно отдалились от земли. Длинные стройные ножки она вытянула перед собой и рассматривала их, как какие-то доисторические рисунки; руки почему-то ныли и казались очень тяжелыми, словно взгляд Дэвида обременил их непосильным грузом. Алабаме было известно, что щеки у нее пылают от жаркого огня, как на июньской рекламе пивной, где хорошенькая девушка пьет земляничный молочный коктейль. Интересно, догадывается ли Дэвид, насколько она тщеславна.
– Значит, тебе нравятся блондины?
– Да.
Когда Алабаме приходилось подчинять себя чужой воле и отвечать на вопросы, у нее появлялось ощущение, будто ей что-то попало в рот и что ей надо было непременно избавиться от этого предмета, прежде чем заговорить.
Лейтенант посмотрел на себя в зеркало – светлые волосы, как лунный свет в восемнадцатом веке, и глаза, как гроты, – синий грот, зеленый грот, сталактиты и малахиты вокруг черного зрачка… как будто бы он производил смотр перед выходом и остался доволен тем, что все на месте.
У него был резко очерченный мшистый затылок, изгиб щеки напоминал о солнечном луге. А руки на ее плечах были теплыми, как подушка.
– Скажи «дорогой», – попросил он.
– Нет.
– Ты любишь меня. Так почему же «нет»?
– Я никогда ничего не говорю. Не люблю разговаривать.
– Почему?
– Это все портит. Скажи сам, что любишь меня.
– О… я люблю тебя. А ты любишь меня?
Алабама очень любила его и чувствовала, что все теснее сближается с ним, отчего Дэвид даже исказился в ее восприятии, как будто она прижалась носом к зеркалу и заглянула в собственные глаза. Линии его шеи и чеканный профиль действовали на девушку как порывы ветра, ветра, путающего все мысли. Вся ее душа вибрировала – будто истончалась и уменьшалась, словно поток жидкого стекла, который то расширяется, то вытягивается, пока не остается поблескивающий мираж. Не падая и не разбиваясь, стеклянный поток крутится и делается все более тонким. Алабама чувствовала себя такой маленькой и такой восторженной. Алабама влюбилась.
…Она влезла в уютную пещеру его уха. Внутри все было серое и призрачно-классическое – она оглядывала глубокие борозды явившегося ей мозжечка. Ни одной травинки, ни одного цветочка, взрывающих монотонность устоявшихся извилин – что-то толстое, серое и гладкое. «Надо посмотреть, что впереди», – сказала себе Алабама. Бугорчатый влажный курган возник над ее головой, и она решила обследовать его границы. Вскоре она заблудилась. Углубления и насыпи на пустоши напоминали мистический лабиринт; там не было ничего, что могло бы послужить ориентиром. Но Алабама не останавливалась и в конце концов достигла medulla oblongata [25]25
Продолговатый мозг ( лат.) – часть ствола головного мозга, переходящая вниз, в спинной.
[Закрыть]. Просторные извилистые коридоры водили ее кругами. В паническом страхе она бросилась бежать. И Дэвид, придя в себя из-за странной щекотки вверху позвоночника, оторвал губы от ее губ.
– Я пойду к твоему отцу, – сказал он, – и спрошу, когда мы можем пожениться.
Судья Беггс переступал с носков на пятки, тщательно взвешивая все за и против.
– Гм-м-м – ладно. Если вы в состоянии позаботиться о ней.
– В состоянии, сэр. Моя семья более или менее обеспечена – и я собираюсь работать. Этого нам хватит.
На самом деле Дэвид понимал, что денег немного – возможно, тысяч сто пятьдесят у матери и бабушки, а ведь ему хотелось жить в Нью-Йорке, да еще стать художником. Не исключено, что получить помощь от семьи не удастся. Что ж, как-нибудь устроится. Между тем помолвка состоялась. Ему необходимо было добиться руки Алабамы. Что же до денег… ему ведь когда-то виделись в грезах солдаты конфедератов, которые оборачивали кровоточащие ноги деньгами повстанцев, чтобы не обморозиться. Дэвид как будто был с ними – в тот момент, когда конфедераты поняли, что теперь не стыдно воспользоваться бесполезными банкнотами, после того как война проиграна.
Пришла весна, и сквозь белое покрывало пробились бледно-желтые нарциссы. Вьюнки лепились к тонким веточкам, а на старом дворе расцвели цветы из детства: подснежники и первоцвет, верба и ноготки. Дэвид и Алабама сбивали в кучи листья с толстых дубовых корней и рвали белые фиалки. По воскресеньям они ходили в варьете и садились в задние ряды, чтобы держаться за руки, не привлекая к себе внимания. Они выучили и пели «Моя любовь» и «Крошка», сидели в ложе на ревю Кола Портера «Хитчи-Ку» и неотрывно глядели друг на друга, пока хор пел «Как же мне сказать?». Весенние дожди растрясали тучи, превращая их в облака, и знойное лето залило Юг потом. Алабама носила розовые и белые полотняные платья, и они с Дэвидом много времени просиживали вместе под привинченными к потолку вентиляторами, которые гнали лето прочь. Ступив за широкие двери загородного клуба, они вжимались в космос, в джазовую тарабарщину, в черный жар, поднимающийся от растений в лощине, словно намереваясь оставить отпечатки своих тел для будущего населения планеты. Им нравилось плыть в лунном свете, который, будто медовым лаком, покрывал землю, и Дэвид проклинал воротнички на своей форме и всю ночь гнал машину на стрельбище, лишь бы подольше побыть после ужина с Алабамой. Они изменяли ритм вселенной, подстраивая его под себя, и завораживали друг друга громким биением своих сердец.
Непроницаемое марево стояло над опаленной травой на склонах, и песок в блиндажах поднимался в воздух, будто под ударом клюшки, сухой, как порох. Ветки золотарника рвали на клочки солнце; великолепное лето превращало землю в пыль и усыпало ею твердые глиняные тракты. День шел за днем, и наконец наступил первый день нового школьного года – лето закончилось, начиналась осень.
Дэвид отправился в порт погрузки и теперь писал Алабаме письма, полные рассказами о Нью-Йорке. Почему бы ей не приехать в Нью-Йорк и не выйти замуж там?
«Город сверкающих надежд, – восторженно писал Дэвид, – полова с волшебной мельницы, висящей в голубом небе! Люди мечутся по улицам, как мухи над патокой. Крыши домов горят, как золотые короны королей в зале собраний – а ты, любимая моя, принцесса, и мне бы хотелось запереть тебя в башне из слоновой кости, чтобы ты радовала одного меня».
Когда он в третий раз написал то же самое про принцессу, Алабама попросила его забыть о башне.
По вечерам Алабама думала о Дэвиде Найте и до конца войны ходила в варьете с летчиком, похожим на пса. А война закончилась неожиданно – объявлением на занавесе в варьете. Прежде была война, а теперь будут еще два отделения программы.
Дэвида опять прислали в Алабаму для демобилизации. Он рассказал Алабаме о девушке, которая была с ним в отеле «Астор», когда он напился почти до бесчувствия.
«Бог ты мой, – сказала себе Алабама, – ничего не поделаешь».
Она вспомнила о погибшем механике, о Феликсе, о верном псе-лейтенанте. Ей тоже было, в чем себя винить.
Алабама сказала Дэвиду, что не сердится из-за девушки: она, мол, верит, что верность хороша, только когда она естественна. Наверное, и ее, Алабамы, есть вина в том, что случилось.
Как только Дэвид решил все свои проблемы, он позвал Алабаму к себе. Судья купил дочери железнодорожный билет на север в качестве свадебного подарка, Алабама ссорилась с матерью из-за свадебного платья.
– Не хочу так. Хочу, чтобы оно падало с плеч.
– Алабама, как ты себе это представляешь? Как же оно будет держаться, если его ничто не держит?..
– Ах, мамочка, ты придумаешь.
Милли рассмеялась довольным и грустным смехом – и снисходительным.
– Мои дети думают, что я все могу, – благодушно проговорила она.
Уезжая, Алабама оставила матери записку в ящике комода:
Моя самая любимая мамочка!
Я не такая, какой ты хотела бы меня видеть, но я всем сердцем люблю тебя и каждый день буду тебя вспоминать. Это отвратительно, что мне приходится оставлять тебя одну, ведь мы все разъехались в разные стороны. Не забывай меня.
Алабама.
Судья проводил Алабаму на вокзал.
– До свидания, дочка.
Алабаме он казался очень красивым и недоступным. Она боялась заплакать, ведь ее отец был таким гордым человеком. Джоанна тогда тоже боялась плакать.
– До свидания, папа.
– До свидания, малышка.
Поезд умчал Алабаму из страны мечтаний ее юности.
Теперь Судья и Милли сидели на веранде одни. Милли нервно хваталась за веер из листьев карликовой пальмы, Судья изредка сплевывал между виноградными лозами.
– Как ты посмотришь на то, чтобы перебраться в дом поменьше?
– Милли, я прожил тут восемнадцать лет и не собираюсь ничего менять на исходе своих дней.
– Остин, у нас нет москитных сеток, и каждую зиму промерзают трубы.
– Меня это устраивает. Я остаюсь.
Старые ненужные качели негромко скрипели на ветру, который каждый вечер прилетал со стороны залива. Из-за угла доносились голоса детей, игравших при электрическом свете и сотворивших мстительный трюк со временем. Судья и Милли молча сидели в своих некрашеных качалках. Сняв ноги с перил, Судья встал, чтобы закрыть ставни. Наконец-то он стал хозяином в своем доме.
– Ну что ж, – произнес он. – Не исключено, что через год ты будешь вдовой.
– Еще чего! – фыркнула Милли. – Ты уже тридцать лет повторяешь одно и то же.
Нежные пастельные краски сошли с расстроенного лица Милли. Морщины между носом и ртом провисли, как веревки приспущенного флага.
– Твоя мать была такой же, – с упреком проговорила она. – Все время собиралась умереть, а дожила до девяноста двух лет.
– И все-таки она умерла, разве не так? – хмыкнул Судья.
Он выключил свет в своем чудесном доме, и они стали подниматься наверх – старая одинокая пара. Луна неспешно шагала по железной крыше дома, иногда неловко спрыгивая на подоконник к Милли. Почитав с полчаса Гегеля, Судья заснул. Долгой ночью его равномерное похрапывание действовало на Милли успокаивающе, убеждало ее в том, что еще не конец жизни, хотя в комнате Алабамы темно, Джоанна покинула дом, картонка с фрамуги в комнате Дикси давно выброшена вместе с кучей другого хлама, а единственный сын лежит на кладбище, в могиле рядом с Этелиндой и Мейсоном Кутбертом Беггсами. Милли редко думала о себе. Она просто жила от одного дня к другому; а Остин и вовсе никогда не думал об их с женой существовании, потому что жил от века к веку.
Тем не менее лишиться Алабамы было для родителей ужасно, ведь она оставалась последней, и это означало, что без нее их жизнь станет другой…
* * *
Алабама лежала на кровати в номере двадцать один-ноль-девять балтиморского отеля и думала о том, что теперь, когда родители так далеко, ее жизнь станет совсем другой. Например, Дэвид Дэвид Найт Найт Найт никак не мог заставить ее выключить свет, пока она сама не снисходила до этого. И никакие силы не смогут заставить ее что-нибудь сделать, в страхе думала она, если на то не будет ее собственной воли.
А Дэвид думал о том, что ему наплевать на свет, что Алабама его жена и что он купил ей детектив на самые-самые последние деньги, о чем она пока еще не знает. Детектив был очень неплохой – о богатстве, о Монте-Карло и о любви. Еще Дэвид думал о том, что Алабама очень красивая, когда вот так лежит и читает.