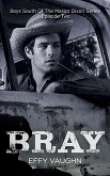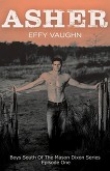Текст книги "Спаси меня, вальс"
Автор книги: Зельда Фицджеральд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
II
Глубоко греческая сущность Средиземноморья до сих пор превосходит нашу кичливую лихорадочную цивилизацию в покое. Многовековые руины покоятся на серых горных склонах, она засевает прахом бывших сражений пространства под оливами и кактусами. Спят античные рвы, пойманные в плен жимолостью, хрупкие маки пятнают кровавыми пятнами дороги, виноградники в горах напоминают клочья разорванного ковра. Средневековые колокола усталым баритоном возвещают праздник безвременья. На камнях неслышно цветет лаванда. В вибрирующем воздухе, пропитанном полдневным зноем, трудно что-то рассмотреть.
– Великолепно! – воскликнул Дэвид. – Оно совершенно синее, пока не присмотришься повнимательнее. Но если присмотришься, оно становится серым и розовато-лиловым, а присмотришься еще внимательнее, оно суровое и почти черное. Ну а если быть совсем точным, оно аметистовое с опаловыми вкраплениями. Что такое, Алабама?
– Я не понимаю. Подожди, подожди. – Алабама прижалась носом к покрытой мхом стене замка. – «Шанель» номер пять, – твердо заявила она, – пахнет, как твой затылок.
– Только не «Шанель»! – возразил Дэвид. – Думаю, здесь что-то более стильное. Иди сюда. Я хочу тебя сфотографировать.
– И Бонни?
– Да. Полагаю, ей пора подключаться.
– Посмотри на папу, счастливое дитя.
Девочка не сводила с матери больших недоверчивых глаз.
– Алабама, ты не могла бы немножко повернуть ее, а то у нее щеки шире лба. Если не подать ее немножко вперед, она будет похожа на вход в Акрополь.
– Ну же, Бонни, – попросила Алабама.
Обе повалились в заросли гелиотропов.
– Боже мой! Я поцарапала ей личико. У тебя нет с собой чего-нибудь дезинфицирующего?
Алабама внимательно осмотрела грязные пальчики дочери.
– Как будто ничего опасного, но мне кажется, все-таки лучше вернуться домой и обработать царапины.
– Меня домой, – тягуче произнесла Бонни, выбивая слова, как кухарка, выбивающая толкушкой картофельное пюре. – Домой, домой, домой, – радостно тянула она, подпрыгивая на отцовских плечах.
– Вот, дорогая. «Гранд-отель Петрония» и «Золотые острова».
– Может, нам переехать в «Палас» или «Юниверс»? У них в саду больше пальм.
– И предать свою, можно сказать, историческую фамилию? Алабама, отсутствие исторического чутья – твой самый большой недостаток.
– Не понимаю, зачем мне историческое чутье, я и без него могу оценить белые пыльные дороги. Когда ты так несешь Бонни, мне на ум приходит труппа трубадуров.
– Точно. Пожалуйста, не дергай папу за ухо. Ты когда-нибудь попадала в такую жару?
– А мухи! И как люди терпят их?
– Может быть, пойдем подальше от моря?
– По этим камням не побегаешь. В сандалиях было бы удобнее.
Они шли по дороге времен Французской Республики мимо бамбуковых занавесей Йера, мимо связок войлочных шлепанцев и будок с женским бельем, мимо сточных канав, заросших буйной южной травой, мимо фиглярствующих экзотических марионеток, вдохновляющих бронзоволиких провансальцев мечтать о свободе в Иностранном легионе, мимо съеденных цингой попрошаек и пышных бугенвиллий, мимо пыльных пальм, шеренги запряженных в коляски лошадей, мимо выставленных тюбиков с зубной пастой в деревенской парикмахерской, от которой за версту пахнет «Шипром», и мимо казармы, которая придавала городу цельность, как семейная фотография в большой и неприбранной гостиной.
– Сюда.
Дэвид посадил Бонни на кучу прошлогодних газет в сыровато-прохладном холле отеля.
– Где няня?
Алабама сунула голову в отвратительную плюшево-кружевную гостиную.
– Мадам Тюссо нет. Полагаю, она собирает материал для своей Британской сравнительной таблицы, чтобы, вернувшись в Париж, сказать: «Все правильно, разве что цвет облаков в Йере, когда я была там с семьей Дэвида Найта, показался мне чуть более похожим на цвет серых линкоров».
– Она воспитывает в Бонни понимание традиции. Мне она нравится.
– И мне тоже.
– Где няня? – У Бонни глаза от тревоги стали круглыми.
– Дорогая, она вернется! Она пошла, чтобы найти для тебя что-то интересное.
Бонни явно не поверила.
– Пуговицы, – сказала она, показывая на свое платье. – Хочу апесиновый сок.
– Ну, конечно… Вот когда вырастешь, то узнаешь, что есть на свете вещи и поинтереснее сока.
Дэвид позвонил.
– Принесите, пожалуйста, стакан апельсинового сока.
– Ах, месье, мы здесь совсем наособицу. Летом у нас нет апельсинов. Всё жара. Мы даже подумывали закрыть отель из-за невозможности достать апельсины в такую погоду. Подождите минутку. Я посмотрю.
Хозяин отеля был похож на рембрандтовского лекаря. Он позвонил в колокольчик. Явился valet de chambre [39]39
Камердинер ( фр.).
[Закрыть], который тоже был похож на рембрандтовского лекаря.
– У нас есть апельсины? – спросил хозяин отеля.
– Ни одного, – мрачно отозвался тот.
– Вот видите, месье, – объявил с облегчением хозяин. – Нет ни одного апельсина.
Он с довольным видом потер руки, как будто наличие апельсинов доставило бы ему массу забот.
– Апесиновый сок, апесиновый сок, – повторяла Бонни.
– Куда, черт побери, она подевалась? – вскричал Дэвид.
– Мадемуазель? – спросил хозяин отеля. – Да она же в саду под столетней оливой. Великолепное дерево. Вы должны на него посмотреть.
И он последовал за своими гостями в сад.
– Какой прелестный мальчик, – продолжал он. – И скоро заговорит по-французски. Я прежде очень хорошо говорил по-английски.
Женская суть Бонни не могла не бросаться в глаза.
– Не сомневаюсь, – отозвался Дэвид.
Няня устроила себе будуар из железных садовых кресел. На них валялись шитье, книжка, несколько пар очков, игрушки Бонни. На столе горела лампа. Сад был обитаемым. Так почему бы ему не послужить еще и английской детской?
– Я посмотрела меню, мадам, а там опять козлятина, поэтому я решила зайти к мяснику. Бонни будет есть жаркое. Простите меня, мадам, но это ужасное место. Не думаю, что стоит тут задерживаться.
– Тут действительно слишком жарко, – виновато проговорила Алабама. – Мистер Найт собирается приглядеть виллу подальше на побережье, если мы сегодня не найдем что-то подходящее.
– Уверена, нас могли бы обслуживать и получше. Некоторое время мне пришлось провести в Каннах с Хортерер-Коллинами, так там нам было очень удобно. Летом они, конечно же, переезжают в Довиль.
Алабама поняла, что им тоже следует перебраться в Довиль… ради няни.
– Почему бы не поехать в Канны? – предложил потрясенный Дэвид.
Из-за ослепительного блеска тропического полдня в пустой столовой как будто слышался звон. Старая английская пара наклонилась над резиновым сыром и размякшими фруктами. Женщина подалась вперед и провела пальцем по пылающим щекам Бонни.
– Так похожа на мою внучку, – сказала старуха покровительственно.
Няня рассердилась:
– Мадам, будьте любезны, не гладьте девочку.
– Я не гладила, я всего лишь прикоснулась к ней.
– От жары у нее расстроился желудок, – не допускающим возражений тоном произнесла няня.
– Не хочу обедать. Не буду обедать, – заявила Бонни, прерывая затянувшееся молчание английской дамы.
– Я тоже не хочу это есть. Пахнет крахмалом. Дэвид, надо пойти в агентство.
Под обжигающим солнцем Алабама и Дэвид отправились на главную площадь. Казалось, все вокруг погрузилось в волшебный сон. Возницы спали, спрятавшись под мало-мальски пригодной для защиты тенью, магазины были закрыты, нещадный липкий зной царил, не находя сопротивления. Отыскав громоздкий экипаж, они, вскочив на подножку, разбудили кучера.
– В два часа, – с раздражением проговорил кучер. – До двух часов я занят!
– Ладно, потом поедете по этому адресу, – не сдавался Дэвид. – Мы подождем.
Кучер вяло пожал плечами.
– За ожидание десять франков в час, – недовольно добавил кучер.
– Ладно. Мы – американские миллионеры.
– Надо что-то положить на сиденье, – вмешалась Алабама. – По-моему тут полно блох.
Они положили на сиденье армейское одеяло и только потом устроились на нем потными телами.
– Tiens! [40]40
Смотри-ка! ( фр.)
[Закрыть]А вот и месье!
Кучер лениво показал через дорогу на красивого южанина с повязкой на одном глазу, снимавшего табличку «закрыто» с двери.
– Мы хотим посмотреть виллу «Голубой лотос», ее как будто сдают, – вежливо произнес Дэвид.
– Не получится. Никак не получится. У меня ланч.
– Месье, конечно же, позволит мне оплатить его нерабочее время…
– Другое дело, – с чувством воскликнул агент. – Месье понимает, что после войны все изменилось, и человеку надо что-то кушать.
– Ну, конечно.
Расшатанная повозка покатила мимо синих, как цветок артишока, полей, словно вобравших в себя всю энергию солнца, мимо длинных грядок с овощами, напоминавшими блестящие субмарины. На равнине то тут, то там попадались зонтичные сосны, жаркая ослепительная дорога вилась вплоть до самого моря. Волны были похожи на стружку, устлавшую пол в мастерской солнца.
– Вот она! – гордо прокудахтал агент.
Вилла «Голубой лотос» стояла на красной глине, где не росло ни одного дерева. Открыв дверь, Алабама и Дэвид ступили в прохладный холл.
– Здесь хозяйская спальня.
На огромной кровати лежали пижама из ткани, окрашенной вручную, из батика, и складчатая ночная рубашка от картезианских монахинь.
– Меня поражает несуетливость здешней жизни, – сказала Алабама. – День и ночь – сутки прочь.
– Жаль, у нас не получается так жить.
– Надо посмотреть, что тут с водой.
– Мадам, водопровод в полном порядке. Смотрите.
Тяжелая резная дверь вела в копенгагенскую ванную комнату с синими хризантемами, ползущими вверх, в бреду, будто опьяненными опиумом. На стенах были разноцветные плитки с нормандскими рыбаками, ловящими рыбу. Алабама проверила медный кран, предназначенный для работы в этом фантастическом уголке.
– Не работает.
Агент поднял брови, словно Будда.
– Неужели? Наверно, потому что у нас давно не было дождя! Иногда такое случается, если не идет дождь.
– А что вы делаете, если дождя нет все лето? – спросил заинтригованный Дэвид.
– Рано или поздно, месье, дождь все равно идет, – весело ответил агент.
– И все же?
– Месье шутит.
– Нам нужно что-нибудь более цивилизованное.
– Надо ехать в Канны, – сказала Алабама.
– Поеду первым же поездом, когда вернемся обратно.
Дэвид позвонил из Сен-Рафаэля.
– Тут есть дом за шестьдесят долларов в месяц – с садом, с водой, с кухней и великолепным видом из купола. Крыша из металла, видно, авиационного. Буду завтра утром. И можем сразу переезжать.
День одел их в солнечные доспехи. Лимузин, который они наняли, был полон воспоминаний о прошлом. Смотреть из окошка мешали бумажные кубистические настурции, поблекшие в треугольнике окошка.
– Едем, едем, почему машинка не едет? – кричала Бонни.
– Потому что золотые палочки надо положить сюда, а твой мольберт, Дэвид, вон туда.
– Там-там-там, – бубнила Бонни, радуясь поездке. – Хорошо-хорошо-хорошо.
Лето проложило путь в их сердца, ласково напевая им, пока они ехали по неровной дороге. Оглядываясь на прошлое, Алабама не могла отыскать там серьезных потрясений, хотя темп тогдашней жизни создавал иллюзию, будто это было сплошное сумасшествие. В счастливом недоумении Алабама пыталась понять, зачем им понадобилось уезжать из дома.
Июль. Три часа дня. Няня тихонько вспоминала Англию, оказавшись на высоких горах, в арендованных автомобилях и в прочих непривычных обстоятельствах, на белых дорогах и среди сосен – жизнь тихонько пела ей колыбельную. И все-таки жить прекрасно.
Вилла «Les Rossignols» [41]41
Соловьи ( фр.).
[Закрыть]находилась не на самом берегу. Аромат цветов табака пропитывал выцветший голубой атлас в апартаментах Людовика XV; деревянная кукушка возмущалась мрачным видом дубовой столовой; сосновые иголки ковром устилали синие и белые плитки на балконе; петунии ласково льнули к балюстраде. Засыпанная гравием подъездная аллея огибала ствол гигантской пальмы, в трещинах которого росла герань, и заканчивалась возле увитой красными розами беседки. Кремовые стены дома с покрашенными окнами как будто потягивались и зевали под золотым потоком предвечернего солнца.
– Это беседка, – по-хозяйски объяснял Дэвид. – Построена из бамбука. А вся вилла выглядит так, словно к ней приложил руку Гоген.
– Прекрасно. Как ты думаешь, тут в самом деле есть rossignols?
– В самом деле – каждый вечер с тостом на ужин.
– Commeçа, Monsieur, commeçа [42]42
Так, месье, так ( фр.).
[Закрыть], – в восторге пропела Бонни.
– Ты только послушай, она уже заговорила по-французски!
– Франция великолепна, просто великолепна. Правда, няня?
– Я прожила тут двадцать лет, мистер Найт, но так и не научилась понимать здешних людей. Да и времени у меня не было, чтобы учить французский, ведь я жила в аристократических семьях.
– Ну да, – многозначительно отозвался Дэвид.
Что бы няня ни произносила, это звучало как искусно отработанная выдумка.
– Там на кухне тоже аристократки, видимо, подарок от агента, – сказала Алабама.
– Это три могущественные сестры. Возможно даже, три парки, кто знает?
Сквозь густую листву доносилось бормотание Бонни, вдруг перешедшее в восторженный вопль.
– Купаться! – кричала она. – Сейчас купаться!
– Она бросила куклу в пруд с золотыми рыбками, – разволновалась няня. – Плохая Бонни! Так обойтись с маленькой Златовлаской.
– Ее зовут «Commeça», – заявила Бонни. – Смотри, она купается.
Куклу было едва видно под толщей стоячей зеленой воды.
– Ах, мы будем очень счастливы вдали от всех несуразностей, которые почти одолели нас, однако не одолели, так как мы оказались умнее!
Обняв жену за талию, Дэвид внес ее через огромное окно в их новый дом и поставил на плиточный пол. Алабама успела разглядеть расписной потолок. Среди гирлянд из вьюнков и роз резвились пастельные купидончики, раздутые так, словно у них была базедова болезнь или что-нибудь похуже.
– Думаешь, нам в самом деле будет тут хорошо? – недоверчиво спросила Алабама.
– Мы попали в рай, во всяком случае, ближе мы еще никогда не были, и это живописное доказательство моей правоты, – ответил Дэвид, проследив за взглядом жены.
– Знаешь, когда я думаю о соловьях, то всегда вспоминаю «Декамерон». Дикси прятала книжку в верхнем ящике. Забавно, какие возникают ассоциации.
– Да уж! Людям не дано переключаться с одного на другое, насколько я понимаю, не прихватив с собой что-нибудь из прежней жизни.
– Только не нашу неугомонность – на сей раз.
– Нам надо обзавестись автомобилем, чтобы ездить к морю.
– Обязательно. Но завтра мы поедем на такси.
Утро было солнечное и жаркое. Местный садовник делал вид, будто бережет их сон, лениво таща грабли по гравиевой дороге. Горничная накрыла завтрак на балконе.
– Закажи нам такси, о дочь этой цветочной республики!
Дэвид радовался как ребенок. Алабама, объятая утренней ленцой, думала, что совсем необязательно разводить такую бурную деятельность перед завтраком.
– И еще, Алабама, до сих пор нам не приходилось иметь дело с таким мощным и уверенным в себе гением, какой проявится в будущих полотнах Дэвида Найта! Каждый день, поплавав в море, художник принимается за работу и творит до четырех часов, после чего в следующем купании освежает свое самодовольство.
– А я буду упиваться здешним возбуждающим воздухом и толстеть на бананах и «Шабли», пока Дэвид Найт набирается ума.
– Правильно. Место женщины там, где вино, – радостно подтвердил Дэвид. – Что надо уничтожить на земле, так это искусство.
– Но, дорогой, ты ведь не будешь работать сутками?
– Надеюсь.
– Да, этот мир принадлежит мужчинам, – вздохнула Алабама, устраиваясь поудобнее на солнышке. – Ах какой тут воздух – сплошная нега и сладострастие…
И началась ничем не омрачаемая жизнь на ароматном воздухе, которую держали на плавном ходу три женщины на кухне, пока лето медленно двигалось к великолепной кульминации. Под окнами салона пышно расцветали посаженные цветы, по ночам в сеть из сосновых верхушек ловились звезды. В саду деревья шептали: «Хлещи их, бедняжек». Им отвечали теплые черные тени: «Охо-хо». Из окон «Les Rossignols» был виден римский цирк во Фрежюсе, который, как полный бурдюк с вином, плыл совсем низко над землей в лучах луны.
Дэвид работал над своими фресками, и Алабама почти все время оставалась одна.
– Что будем делать, Дэвид? – спросила она.
Дэвид ответил, что пора бы ей становиться взрослой и самой думать о себе.
Разбитый автомобиль возил их каждый день на море. Горничная называла автомобиль «lа voiture» [43]43
Экипаж ( фр.).
[Закрыть]и довольно церемонно объявляла о его появлении по утрам, когда они ели бриоши с медом. И каждый раз после этого начинался спор из-за того, сколько времени надо отдыхать после приема пищи, чтобы можно было отправляться на море.
Солнце лениво играло с ними, прячась за городом с византийским силуэтом. Бани и танцевальный павильон блестели на белом ветру. Песочный пляж тянулся на много миль вдоль синего моря. Няня привычно устанавливала британский протекторат над приличным куском суши.
– Горы тут такие красные из-за бокситов, – сказала она. – Кстати, мадам, Бонни нужен еще один купальный костюмчик.
– Мы можем заехать за ним в «Galeries des Objectives Perdues» [44]44
«Галерею потерянной реальности» ( фр.).
[Закрыть], – предложила Алабама.
– Или в «Occasion des Perspectives Oubliés» [45]45
«Лавочку забытых перспектив» ( фр.).
[Закрыть], – вмешался Дэвид.
– Конечно. Сошьем из дельфиньей шкуры или свяжем из мужской бороды.
Алабама обратила внимание на худого загорелого мужчину в парусиновых штанах, со сверкающими, как у Христа из слоновой кости, ребрами и с ланьими глазами, который совершенно неприличным образом кивал им.
– Доброе утро, – важно произнес мужчина. – Я часто вижу вас.
У него был глубокий голос с металлическим оттенком, звучавший уверенно, как положено голосу истинного джентльмена.
– У меня тут небольшой ресторан. Есть еда, а по вечерам мы устраиваем танцы. Рад приветствовать вас в Сен-Рафаэле. Летом тут немного людей, как видите, но мы стараемся жить весело. Почтем за честь, если после купания вы примете приглашение на американский коктейль.
Дэвид удивился. Он не ожидал ничего подобного. Похоже было, что они прошли в члены клуба.
– С удовольствием, – торопливо отозвался он. – Надо идти внутрь?
– Да, внутрь. Для моих друзей я – месье Жан! Но вы должны познакомиться и с другими тоже, это очаровательные люди.
Он задумчиво улыбнулся и растворился в сверкающем утреннем воздухе.
– Что-то я никого не вижу, – оглядевшись, сказала Алабама.
– Может быть, они у него в бутылках. Он похож на джинна, значит, ему это по силам. Скоро узнаем.
Вдалеке послышался гневный голос няни, недовольной джином и джинном. Она звала Бонни.
– Я сказала нет! Я сказала нет! Я сказала нет! Девочка убежала к самой кромке воды.
– Я догоню ее.
Найты бросились в синеву следом за дочерью.
– Ты должен стать моряком, – проговорила Алабама.
– Но я уже Агамемнон [46]46
Герой поэмы Гомера «Илиада».
[Закрыть], – возразил Дэвид.
– А я маленькая, совсем крошечная рыбка, – заявила Бонни. – Красивая рыбка!
– Прекрасно. Ладно, играйте в рыбок, если хотите. О Господи! Как прекрасно знать, что теперь мы вольные люди и жизнь будет таковой, какой она должна быть!
– Великолепно, блестяще, чудесно, замечательно! Но я хочу быть Агамемноном.
– Пожалуйста, будь рыбкой, как я, – попросила Бонни. – Рыбки лучше.
– Отлично, – вмешалась Алабама. – Я буду рыбкой Агамемноном. И я умею плавать без рук, видишь?
– А как же ты будешь сразу всеми двумя?
– Но, дочь моя, я ведь ужасно умная и потому знаю, что могу быть для себя целым миром, если мне расхочется жить в папиной тени.
– Алабама, соленая вода разъела тебе мозги.
– Ха! Тогда я буду рыбкой Агамемноном с разъеденными мозгами, а это еще труднее. Придется плавать и без ног тоже, – с тайным злорадством произнесла Алабама.
– Будет намного проще, думаю, после коктейля. Пойдем.
После солнечного пляжа комната казалась особенно прохладной и сумеречной. От штор шел приятный мужской запах высохшей соленой воды. Из-за нарастающих волн зноя снаружи, казалось, бар тоже находится в движении, как будто в его неподвижном нутре обретали убежище самые быстрые ветры.
– Нет у нас, ну нет у нас расчесок, – пропела Алабама, разглядывая себя в заплесневевшем зеркале на задней стене бара. Она чувствовала себя свежей, гладкой, соленой! И решила, что куда веселее в той части бара, что за ее спиной. В сумеречной глади древнего зеркала она увидела очертания широкой спины французского летчика в белой форме. Потом стала наблюдать за галантными – по-французски – жестами, обращенными сначала к ней, потом к Дэвиду и замутненным нечистым зеркалам. Голова с золотой рождественской монеты настойчиво кивала, большие бронзовые руки хватали тропический густой воздух в напрасной надежде отыскать в нем нужные английские слова, чтобы передать чувства обладателя этой головы. В попытке найти общий язык француз немного сутулил выпуклые плечи, не делавшиеся от этого менее красивыми, сильными, твердыми. Он вынул из кармана маленькую красную расческу и любезно кивнул Алабаме. Встретившись взглядом с офицером, Алабама почувствовала себя взломщицей, которой хозяин дома по доброй воле назвал сложный код своего сейфа. Она почувствовала себя так, словно ее поймали на месте преступления.
– Permettez? [47]47
Разрешите? ( фр.)
[Закрыть]
Она глядела на него во все глаза.
– Permettez, – повторил он, – по-английски значит «permettez», вы понимаете?
Офицер вновь многословно и непонятно заговорил на французском языке.
– Не понимаю, – сказала Алабама.
– Oui, понимаю, – повторил он над ее головой. – Permettez?
Он наклонился и поцеловал Алабаме руку. Трагически серьезная, даже виноватая улыбка зажглась на его лице – от него веяло очарованием незрелой юности, как будто ему неожиданно пришлось вынести на всеобщее обозрение сцену, которую он долго репетировал в одиночестве. И в его и ее жестах была некая нарочитость, словно они разыгрывали спектакль для находившихся в отдалении смутных отражений их самих.
– Я не «микроб», – зачем-то произнес он.
– Oui, понятно… Я говорю, это видно.
– Regarderz! [48]48
Поглядите! ( фр.)
[Закрыть]
Мужчина демонстративно провел расческой по волосам, как бы объясняя ее назначение.
– Спасибо, – сказала Алабама и вопросительно посмотрела на Дэвида.
– Мадам, – прогудел месье Жан, – позвольте представить лейтенанта Жака Шевр-Фейля. Он французский летчик и совершенно безобидный. А это его друзья, лейтенант Полетт, его жена, лейтенант Белландо, лейтенант Монтагю, он корсиканец, как вы сами поймете, – и еще вон там Рене и Бобби из Сен-Рафаэля, очень симпатичные юноши.
Закопченные красные лампы, алжирские циновки, защищающие от солнечного света, запах морской воды и ароматических трав придавали «Пляжу» Жана вид опиумного логова или пиратской пещеры. На стенах висели турецкие сабли, в темных углах сверкали медные подносы, положенные на африканские барабаны; инкрустированные перламутром столики притягивали к себе искусственные сумерки, как пелену пыли.
С небрежностью вожака, чьи прихоти сложно предугадать, Жак перемещал с места на место свое поджарое тело. Позади этой ослепительно великолепной персоны вытянулась свита: тучный, сальный Белландо, деливший с Жаком апартаменты и взрослевший в уличных драках в Монтенегро; мрачный романтик, наслаждавшийся своим отчаянием корсиканец, который так низко летал вдоль берега в надежде покончить счеты с жизнью, что купальщики могли бы прикоснуться к крыльям его самолета; высокая безупречная Полетт, за которой постоянно следовал взгляд жены с портрета Мари Лорансен [49]49
Мари Лорансен (1885–1956) – французская художница. Наиболее известны ее произведения, в которых сочетаются мотивы рококо XVIII в. и стиль персидских и монгольских миниатюр. Создала многочисленные портреты женщин и детей. Ее женские образы называли «созданиями страны фей», видимо, потому что художница предпочитала розовые и голубые тона.
[Закрыть]. Грозно выпирая из белых пляжных костюмов, Рене и Бобби беседовали намеками в стиле Артюра Рембо. Бобби морщил лоб и шагал бесшумно, как это делают дворецкие. Он был старше остальных, участвовал в войне, и глаза у него были серыми и пустыми, как – всем известным летом – перепаханное небо над Верденом. Рене живописал промытый дождем солнечный свет, заимствуя цвета у изменчивого моря. Художник Рене родился в семье прованского адвоката, и его карие глаза горели холодным огнем, как у персонажей Тинторетто. Над дешевым патефоном украдкой пускала слезу жена эльзасского шоколадного фабриканта, не забывая громко поощрять свою дочь Рафаэль, которая пребывала в отчаянии, постоянно помня о своем южном происхождении и о том, что она дитя любви. Две полуамериканки двадцати с небольшим лет, которые разрывались между латинским любопытством и англо-саксонской осторожностью, их светлые крутые кудряшки мелькали в темноте, словно деталь ренессансного фриза с изображением херувимов.
Художническое воображение Дэвида встрепенулось, подстегнутое варварской картиной утра в Средиземноморье.
– А теперь хочу предложить всем вина, но только португальского, ведь у меня нет денег.
Помимо претенциозных попыток изъясняться по-английски, Жак не пренебрегал драматическими приемами и экспансивными жестами, чтобы сполна донести свою мысль до окружающих.
– Думаешь, он и вправду бог? – прошептала Алабама, обернувшись к Дэвиду. – А он похож на тебя, разве что он создание солнечное, а ты – лунное.
Лейтенант стоял рядом с Алабамой и по очереди трогал все, к чему она прикасалась, пытаясь создать незримую чувственную связь между ними, он напоминал электрика, устанавливающего сложный электроприбор. Оживленно жестикулируя, он беседовал с Дэвидом, демонстративно не глядя на Алабаму, чтобы скрыть свой неожиданно возникший к ней интерес.
– Я прилечу к вам на аэроплане, – великодушно предложил он, – а здесь я каждый день плаваю.
– Тогда давайте выпьем сегодня, попозже, – произнес несколько озадаченный Дэвид, – потому что сейчас нам надо вернуться к ланчу, и больше нет времени.
Разболтанное такси лихо прокатило их по очаровательным тенистым аллеям Прованса, вознося над пересохшими виноградниками. Похоже, солнце забрало себе все краски, чтобы, заварив и настояв, замешать цвета грядущей зари на небе, а пока земля, белая и безжизненная, ждала щедрого разноцветья, которое овеет прохладой поздний вечер, проникая сквозь виноградные лозы и между камнями.
– Мадам, посмотрите на ручки девочки. Нам надо немедленно в тень.
– Ах, няня, пусть позагорает! Мне нравятся здешние красивые смуглые люди. Они такие искренние.
– Мадам, с детьми надо знать меру. Говорят, это вредно для кожи. Мы должны думать о будущем, мадам.
– А я, – сказал Дэвид, – собираюсь прожариться, чтобы быть похожим на мулата. Алабама, как ты думаешь, не будет слишком женственным, если я побрею ноги? Так они скорее загорят.
– Можно мне лодку? – спросила Бонни, не сводя глаз с моря.
– Хоть «Аквитанию», когда закончу следующую картину.
– Слишком démodé [50]50
Устаревший, вышедший из моды ( фр.).
[Закрыть], – вмешалась Алабама. – Мне лично хочется красивое итальянское судно, покачивающееся на водах Неаполитанского залива.
– Возвращение к истокам, – сказал Дэвид. – Ты опять становишься южанкой – но предупреждаю, если увижу, что ты строишь глазки этому юному Дионису, сверну ему шею.
– Не бойся. Я и поговорить-то с ним вразумительно не могу.
Одинокая муха билась в луче света над шатким столом, который был также и бильярдным. В обитой сукном столешнице лузы, когда требовалось, со стуком закрывались. Белое сухое вино, теплое и позеленевшее из-за синих бокалов, казалось неаппетитным. На ланч подали приготовленных с оливками голубей. От них исходил запах скотного двора в жару.
– Может быть, приятней будет поесть в саду, – проговорил Дэвид.
– Нас замучают насекомые, – возразила няня.
– Глупо, что приходится терпеть неудобства в такой прекрасной стране, – поддержала ее Алабама. – Когда мы только приехали, все было так хорошо.
– Все со временем становится хуже и дороже. Ты когда-нибудь думала о том, что такое килограмм?
– Полагаю, два фунта.
– Мы не в состоянии, – взорвался Дэвид, – съесть четырнадцать килограммов масла в неделю.
– Может быть, полфунта, –виновато произнесла Алабама. – Надеюсь, ты не собираешься все испортить из-за килограмма…
– Мадам, надо быть очень осторожной, когда имеешь дело с французами.
– Не понимаю, – заметил Дэвид, – ты все жалуешься, что тебе нечего делать, почему же ты не занимаешься как следует домом?
– Чего ты от меня хочешь? Каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с кухаркой, она скрывается в подвале и прибавляет сто франков к счету.
– Ладно… если завтра опять будут голуби, я не приду к ланчу, – пригрозил Дэвид. – Что-то надо делать.
– Мадам, – спросила няня, – вы уже видели новые велосипеды, которые купили работники после нашего приезда?
– Мисс Медоу, – неожиданно перебил ее Дэвид, – не будете ли вы так любезны помочь миссис Найт со счетами?
Алабаме было совсем ни к чему, чтобы Дэвид втягивал в разговор няню. Она хотела поразмышлять о том, какими загорелыми вскоре станут ее ноги и какой вкус был бы у вина, если бы его охладили.
– Всё социалисты, мистер Найт. Они губят эту страну. У нас будет еще одна война, если они не поостерегутся. Мистер Хортерер-Коллинз говорил…
Звонкий голос няни не замолкал и не замолкал, и пропустить мимо ушей хотя бы одно ее слово было невозможно.
– Сентиментальная чушь, – раздраженно фыркнул Дэвид. – У социалистов сила, потому что в стране уже все вверх дном. Это следствие, а не причина.
– Прошу прощения, сэр, но это социалисты начали войну, и теперь…
Решительные высказывания няни говорили о ее твердых политических убеждениях.
В прохладной спальне, предназначенной для отдыха, Алабама дала волю чувствам.
– Нет, это невозможно, – сказала она. – Как ты думаешь, она собирается проповедовать за каждой едой?
– Пусть вечером она и Бонни едят наверху. Наверно, у нее никого нет. Все утра она просиживала в одиночестве на берегу.
– Но, Дэвид, это ужасно!
– Конечно, но не стоит так огорчаться. Представь, что ты читаешь роман. Она наверняка найдет кого-нибудь, чтобы облегчить душу. И ей станет лучше. Нельзя позволять чужим людям портить нам лето.
Алабама лениво бродила из комнаты в комнату; в ее одиночество обычно врывался лишь дальний шум, неизбежно сопровождавшие домашние хлопоты. И вдруг она услышала то, что ее испугало. Наверное, вилла распадалась на части.
Она бросилась на балкон. В окне показалась голова Дэвида.
Над домом шумел, вибрируя и словно взбивая небо, аэроплан, который летел так низко, что они видели золотые волосы Жака через коричневую сетку над его головой. Он грозно снижался, напоминая хищную птицу, и снова воспарял ввысь, в голубое небо, делая крутой разворот. Когда он вновь пошел на вираж, сверкая на солнце крыльями, то в головокружительной петле едва не задел крышу. Потом аэроплан опять набрал высоту, и Алабама с Дэвидом увидели, как Жак помахал им рукой и что-то бросил в траву.
– Не хватало еще, чтобы этот дурак разбился! У меня чуть сердце не разорвалось, – пожаловался Дэвид.
– Он, наверное, ужасно храбрый, – мечтательно произнесла Алабама.
– Хочешь сказать, тщеславный, – возразил Дэвид.
– Voila! Мадам, Voila! Voila! Voila!
Взволнованная служанка принесла Алабаме коричневый пакет, похожий на дипломатическую вализу. Ее живой французский ум сразу подсказал ей, что аэроплан не летел бы на столь опасной высоте ради послания для мужчины.
Алабама открыла пакет. На листке, вырванном из блокнота, было написано синим карандашом по диагонали: «Toutes mes amitiés du haut de mon avion. Jackes Chevre-Feuille» [51]51
С возвышенными чувствами с высоты. Жак ШеврФейль ( фр.).
[Закрыть].