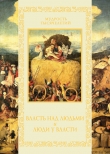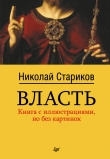Текст книги "Газета Завтра 860 (19 2010)"
Автор книги: "Завтра" Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Анастасия Белокурова БРЕМЯ ТЁМНОГО ЧЕЛОВЕКА
«Меня зовут Кхан» (Индия, 2009, режиссёр – Каран Джохар, в ролях – Шахрукх Кхан, Каджол, Кристофер Б. Дункан, Карл Марино, Дуглас Тейт, Стефани Хакабай, Джимми Шергилл, Кэти А. Кин, Биг Спенс).
Нам не важно, белые они, чёрные, азиаты, христиане, иудеи, вегетарианцы, гетеросексуалы или гомосексуалисты, они даже могут быть из Манчестера.
Дуги и Эдди Бримсоны. «Дни дерби».
«Меня зовут Кхан. И я не террорист», – твердит задержанный в аэропорту индиец-аутист Ризван Кхан, страдающий синдромом Аспергера (боязнь незнакомых мест, новых лиц, громких звуков и желтого цвета). Он направляется из Сан-Франциско в Вашингтон. Встретиться с президентом Бушем и рассказать ему о себе. На дворе ноябрь 2007-го. События 11 сентября уже перевернули главную страницу в отношениях мусульман и остального мира. Но Ризван еще в детстве усвоил урок: люди делятся только на плохих и хороших. И свято следует этому правилу.
Приехав из Индии в Сан-Франциско к своему преуспевающему младшему брату, Ризван с трудом постигал азы науки выживания в большом городе. Пока не встретил бойкую Мандиру – разведённую индийскую девушку, воспитывающую сына Самира. Несмотря на свою болезнь, Ризван покорил Мандиру добротой и детской наивностью. Она вышла за него замуж, несмотря на то, что Ризван – мусульманин, а она исповедует индуизм. Семейная идиллия продолжалась недолго. После падения башен-близнецов отношение американцев к мусульманам резко изменилось. Расовая нетерпимость привела к тому, что маленький Самир погиб в стычке с непримиримо настроенными подростками белой расы. Мандира обвинила в произошедшей трагедии Ризвана и его религию. Чтобы доказать свою невиновность, Ризван отправляется в путешествие по Америке. В надежде встретиться с президентом и объявить на всю страну, что он не террорист.
Был такой старый индийский фильм «Я докажу всему миру!». Полный невероятных приключений и невинного юмора. Но в наши дни столь ярко выраженная личная позиция имеет свойства окрашиваться в совсем иные тона. Индийский блокбастер от молодого и очень кассового режиссёра Карана Джохара после внеконкурсного показа в Каннах путешествует по экранам планеты. По слухам, он доберётся в мае и до наших кинотеатров. Редкий случай, учитывая, что российские прокатчики игнорируют Болливуд целиком и полностью. Но случай с фильмом «Меня зовут Кхан» – особый.
Чтобы понять, с чем мы имеем дело, необходимо немножко погрузиться в современную индийскую киноиндустрию. Главную роль играет самый значимый человек в нынешнем Болливуде – Шахрукх Кхан. Он не только носит ту же фамилию, что и его герой, но и подвергся таможенному произволу в американских аэропортах во времена съёмок этого фильма – кинозвезду попросту не хотели пускать в Америку. К тому же в реальной жизни он, будучи мусульманином, так же женат на девушке-индуске, как и его персонаж. Об уровне его популярности может свидетельствовать тот факт, что американский режиссёр и сценарист Пол Шредер в компании с Мартином Скорсезе запускают новый проект, который будет сниматься в Индии, а главные роли сыграют Леонардо Ди Каприо и Шахрукх Кхан. И судя по всему, это кино оставит успех «Миллионера из трущоб» Дэнни Бойла далеко за бортом.
Шахрукх Кхан – актёр огромного обаяния. Если и требовался человек, способный с первых минут завоевать симпатии аудитории, то иного выбора представить нельзя. В первой половине картины – романтической, трогательной, овеянной кинематографическим ветром улочек Сан-Франциско – Шахрукх Кхан целиком и полностью подчиняет себе зрителя. И в актёрском мастерстве ничем не уступает Тому Хэнксу в оскароносном «Форресте Гампе». Но когда Каран Джохар, автор популярнейших мелодрам, ступает на стезю социально-политического кино, наступает крах и всё катится в тартарары. Всё, но не концепция.
Если смотреть на современность глазами простого человека, исповедующего ислам, то возникновение подобного фильма абсолютно оправдано. Понятно, что не все мусульмане – террористы. Но какими средствами, какими штрихами рисуется нам эта доходчивая мысль?
Единственными друзьями, которых находит Ризван в своём долгом пути, становятся негры-христиане, живущие маленькой общиной в самом сердце Джорджии. Видимо, по замыслу режиссёра ислам и христианство способны обрести альянс лишь в том случае, если представители этих конфессий – не белые. «Покрась это чёрным», – пела когда-то группа «Роллинг Стоунз», и, судя по всему, Каран Джохар последовал совету Мика Джаггера всерьёз. В финале эта мысль обретает совсем невиданный размах, но об этом позднее.
Затем Джохар показывает нам, как Ризван видит агрессивных мусульман, собирающихся в мечети. Он произносит речь о любви, пути которой должен следовать ислам, после чего звонит в ФБР и «сливает» радикалов властям. Однако именно его хватают и сажают в тюрьму по подозрению в терроризме. В любой другой стране он сгинул бы без следа, но свидетелями этой сцены стала парочка юных индийских телевизионщиков. В лучших традициях американского политического кино они производят журналистское расследование и добиваются освобождения Ризвана. Помогает им в этом опять же индийский представитель канала «Би-Би-Си».
С такой национальной поддержкой Ризван Кхан, сам того не подозревая, становится новым героем Америки. Именно он (и еще кучка представителей восточной расы) собственноручно восстанавливают деревеньку негров в Джорджии во время нашумевшего стихийного бедствия. И вот уже по всей стране мусульмане гордо следуют примеру Ризвана: провозглашают распоясавшимся белым американцам свои имена и то, что они не причастны к сентябрьским взрывам.
Тем временем выборы выигрывает Барак Обама. Белый президент, постоянно ускользавший от Ризвана и плюющий на то, что он – не террорист, сменяется очередным лидером. Он-то как раз не откажет мусульманину-аутисту в личной беседе. На этой смугло-чёрной ноте справедливость восторжествует. А кино закончится.
Ранее индийская киноиндустрия не раз обращалась к подобной теме. Но только в контексте внутренних конфликтов, которые, похоже, не перестанут трясти эту страну никогда. Был отличный фильм Камала Хасана «Дыхание времени» (там Шахрукх Кхан также сыграл мусульманина), посвящённый резне в Калькутте в сороковые годы, в ходе которой приверженцев ислама и индуистов погибло великое множество. И ряд других удачных и не очень, картин, в той или иной степени связанных с терроризмом. Но именно Каран Джохар, этот «золотой мальчик», не сходящий с обложек глянцевых журналов, как никто другой почувствовал конъюнктуру момента. И создал манифест.
Ведь это совершенно беспроигрышный вариант – сделать главного героя аутистом, невиновность которого априори определяется его болезнью. В результате зрителю не дано право выбора. Он обезоружен. Ведь против такого лома приёма нет. А для большего правдоподобия совершенно невероятной истории фрагментарно показаны радикально настроенные мусульмане. Те, которых Аллах так и не научил любви.
Самое удивительное, что весь этот индийско-негритянский цирк предназначается не для «внутреннего пользования», а для мировой аудитории. На главные роли приглашены суперзвёзды, в том числе и актриса Каджол (Мэг Райан индийского кино), сыгравшая Мандиру. Экранная магия Шахрукха Кхана и Каджол давно покорила не только восточный мир, но и добрую половину нашей планеты, не исключая Россию. Люди просто пойдут в кино, чтобы взглянуть на своих любимцев. И будут растроганы. Ведь хитро использованные наработки «Форреста Гампа» привносят в происходящее необходимый удар под дых.
Как говорится, без вариантов. При этом за всей душещипательной историей как-то забывается тот факт, что мы имеем дело с экспансией мусульманского мира, какие бы цели он ни преследовал. И сделан фильм не с привычной растерянностью и странным чувством вины, свойственным большинству европейских режиссёров, обращающимся к этой теме. А вполне с конкретным посылом.
Судя по картине, слияние двух культур ознаменует начало новой эры. И в ней вряд ли отыщется достойное место для кого-нибудь из нас. Если только мы не последуем примеру Майкла Джексона, но наоборот. Или не станем в срочном порядке совершать намаз в российской деревне, как герой Евгения Миронова в фильме «Мусульманин». Только судя по современной политике в нашей стране, исповедующих ислам там будет уже большинство.

11
http://top.mail.ru/jump?from=74573
[Закрыть]
Евгений Ликов ВОЗНЕСЁННЫЕ СОЛНЦЕМ!
Томск. По преданию, связанному с устными рассказами философа Дугина, в этом городе находится одна из семи башен Сатаны. По непроверенным данным, расположена она в районе Дома культуры железнодорожников (ДК ЖД). Проехав дважды по Стародеповской улице, я не обнаружил ДК. Это не значит, что его нет. Это значит: просто не обнаружил. Как и не значит, что нет Башни.
А вот что действительно есть.
Если встать на Юрточной горе и смотреть от Богородице-Алексиевского монастыря вниз, в сторону бывшей Почтамтской, а ныне проспекта Ленина, то по левой стороне некогда Ямского переулка, носящего сейчас имя неизвестного революционера Нахановича, в доме 15, мы можем найти Первый музей славянской мифологии.
Нужно преодолеть то ли семьсот, то ли семьдесят, а может, и всего семь ступеней вниз – и мы окажемся в мире глубокого сна, обнимающего наш стройный космос. В этой вселенной, сооруженной по чертежам Лавкрафта, нас встретят потрясающие картины, созданные во славу Иных богов, чьи лики и деяния запечатлены художниками-сновидцами для пробуждения наших воспоминаний. И что из того, что пробудимся мы в сновидение?
Нам не дано знать, каковы были славянские боги. Родная мифология не оставила нам своих певцов. Нет у нас ни Гесиода, ни Гомера. Мы имеем лишь былинный эпос, сновидческую Велесову книгу, сказку о Курочке Рябе и Русский Полет Валькирии – пикирующую Бабу-Ягу.
На этом утверждает себя русское язычество. Сказать по совести, материала для строительства достаточно. Не мешает ничто. Православный монастырь? Он – Небо. Прибежище царей и культурных героев. Старейшая иноческая обитель Томска хранит память не столько об Ибрагиме Ганнибале, сосланном когда-то сюда, сколько об Императоре Александре I, которого находят в старце Феодоре, чьим мощам поклоняются ежедневно сотни паломников.
Быть язычником, говорит мне Геннадий Павлов, директор музея, не значит объявлять себя антихристом. Вселенная мифа сложна, но структурирована четко. Миф, продолжает он, не обращается к абсолютным началам, он весь историчен. Мы можем отстаивать сотворение мира из ничего, а можем заняться приземленным. И тогда окажется, что в нашем доме насущных дел невпроворот.
Оставим Акт Творения ради скромности – разберёмся с демонами.
Демон, вопреки устоявшемуся мнению, не есть нечто враждебное. Его природа нейтральна, имя указывает всего лишь на сущность. Демон – насельник «даймониона», связанного с местом. Мне не явили себя Башни Сатаны, но я нашел иной адрес сакральных мистерий – Томск, пер. Нахановича, 15, Музей славянской мифологии.
Как утверждает Павлов, первый.
В этом музее ничто не рассказывается – миф творится и проживается «здесь и сейчас». Глядя на красавицу-амазонку Бабу-Ягу художника Виктора Королькова, так и ждешь, что сейчас она выйдет из ступы, разожмёт кулак, и череп, которой она держала за волосы, упадет к ее ногам. Черты ее лица разгладятся, волос станет светлее и тоньше, она скинет с себя одежды, окажется лебедем и снова начнет превращение в женщину.
Но какую!
Из-за образа хтонической матери, хранительницы рождений и смертей, вдруг выглянет иная ипостась – любовницы, верной жены, Пенелопы. Водоплавающей птицы, живущей на границе двух стихий, легко преодолевающей таможенный пост между умираниями и воскрешениями.
Эти работы рядом. Такое следует чувствовать!
Рассматривая акварели Королькова, вспоминаю Билибина, Серебряный век, его мистические искания. Его любовь и пристальное внимание к мифологии. Я нахожу в музее не только мучительно-радостные попытки выяснить русские имена наших общих арийских богов, я вижу небесплодность данных усилий.
Курочка Ряба снесла золотое яичко. Оно было неразделенным миром, хаосом. Видимый космос создала Мышка, смахнув хаос хвостиком. А Курочка принесла в новый мир пищу, «яичко простое» – так Деметра дала грекам пшеничный колос.
Но ни Мышка, ни Курочка Ряба не создали Мир – вот почему язычество не прекословит Христианству, ориентированному на Абсолют. Оно – язычество – всё в вечных исторических возвращениях, и сейчас, возможно, поворачивает нас к себе более чем когда-либо: кажется, Павлов уловил возможность пережить «кайрос», наивысшее состояние человека, уловившего волю богов и поступающего в полном с нею согласии.
Понимаю, говорит мне Геннадий Михайлович, зачем наши предки оплодотворяли жен на пашне. Не для любопытных соседей – для соучастия в игре животворящих сил природы. Для сотворчества.
Прошлое и настоящее, сон и явь, разрушение и плодородие – все переплелось в коллекции Павлова-Ведослава. Дополнительное славянское имя – тоже способ «прописаться в нумене», «оседлать тигра» нашего энергичного вечного – не только прошлого и не только будущего.
Я растворяюсь в полотнах Всеволода Иванова, совершаю великий исход вместе со своими воинственными предками из ослепительной Гипербореи. Энергия русского сна – в заснеженных полях севера, суровых и величественных городах, титанических храмах Иных богов. Побывав в таком сне, мы возвращаемся в бодрствование посвежевшими. Спать иногда – почти помолиться. Только сон должен быть вещим.
Жить в нумене трудно – следуя воле богов, сам становишься богом, созидающим гармоничное настоящее. Да, кто-то должен служить Абсолютному Богу, но кому-то нужно пахать.
Павлов – такой пахарь. Строитель, он положил в основу музея свою личную коллекцию картин. Немудрено, что ему оказался близок миф – по работе он связан с разрушением и созиданием, которые всегда идут вместе, то вперемежку, а то и одновременно. Близки ему графические листы Александра Тимофеева, лейттемами которых выступает разрушение настоящего прошлым, трагическая встреча технократических будней с мифическим героем. И новое явление миру Роженицы – красавицы-амазонки, любовницы и матери.
Эротизм – не маргинальная тема коллекции Ведослава. Невольно останавливаешься подле «Лета языческого» Бориса Ольшанского. Древнейшая мифология – женская. Я вижу: пронизанная солнцем насквозь обнаженная – зрима, телесна, желанна, и нет в этом терпком зове ничего стыдного.
Как ничего неприличного не найдешь в акварелях Николая Фомина. Девочки – почти соседки. В одежде и без. Вокруг – ягоды. Разные для каждой. Это – настоящее, удвоенное прошлым. Это – плодородие, удвоенное богом Паном. Это – вечная vagina dentata, пожирающая мужскую плоть. Это – обманчиво хрупкая женственность, подвигающая мужчин на свою защиту.
И мужчины становятся. Убивают и умирают – как на картинах Андрея Клименко.
И здесь я вспоминаю о монастыре, что вознесся над городом.
Томск – Москва

11
http://top.mail.ru/jump?from=74573
[Закрыть]
Даниил Торопов АПОСТРОФ
Михаил Бойко. Метакритика метареализма. – М.: Литературные известия, 2010. – 92 с.
«Если взглянуть на развитие русской литературы непредвзято, то за истекшие со дня рождения „метафизического реализма“ сорок лет ничего кардинально нового в русской литературе не появилось. Доказательство этого тезиса увело бы нас слишком далеко в сторону, замечу лишь, что модернизм достиг наивысшего развития в первой четверти XX века и все последующие потуги модернистов кажутся детскими играми по сравнению с экспериментами Кручёных, Маяковского и Хлебникова. Постмодернизм – явление не самостоятельное, а эклектичное, межеумочное, это, в сущности, средостение между двумя „большими стилями“. Как таковой постмодернизм ближе к комбинаторике, чем к творчеству. Отметим, что вторичная природа постмодернизма отражена в самом термине, лишённом, по верному замечанию одного литературоведа, „внутренней характеристики, какого-либо содержательного представления сущности“. Наконец, течение под жутко оригинальным названием „новый реализм“ – это просто трансформация исповедального жанра».
Новая книга критика Михаила Бойко, яркого рецензента и автора глубоких интервью в «НГ-ExLibris», компактна по объёму и не оригинальна по форме. Но важна и актуальна. Это сборник статей, посвященных теории и практике метафизического реализма, который давно уже факт не только литературной жизни, но общекультурный феномен, следы которого активно заметны и в музыке, и в современном искусстве, и даже в политике. Концепция метафизического реализма разрабатывается в своеобразном диалоге-споре с её основоположником Юрием Мамлеевым.
Бойко всё активнее выступает не просто как комментатор, но как своеобразный идеолог литературного процесса. В этом качестве он, пожалуй, фундаментальнее, нежели как бойкий критик – ниспровергатель. Пространство книги позволяет развернуться интуициям Бойко в полной мере. Это демонстрировала ещё дебютная работа трёхлетней давности «Диктатура Ничто», где исследование мировоззрения Алины Витухновской вышло на рубежи расстановки собственных литературных, культурных и общественных приоритетов. Бойко – очень цепкий автор, внимательно работающий, условно говоря, с каждой запятой. Стартуя с выяснения авторских намерений и ориентиров, он приходит к полновесной картине выводов и обобщений. Это сильная укреплённая позиция, и неизбежное желание полемики, наталкивается на то, что Бойко действует на своей территории, где правит единолично. Во всяком случае, пока.
"Если разделить писателей на две условные категории – «всегдастов» и «тогдастов», то Мамлеев – это типичный «всегдаст». Творчество «всегдастов» практически невозможно периодизировать. Оно отличается потрясающей цельностью и монолитностью. Складывается впечатление, что писатель-всегдаст всю жизнь пишет одно и то же произведение, обдумывает один и тот же весьма ограниченный набор мыслей и тем.
Напротив, для «тогдастов» характерна длительная эволюция взглядов с одним или несколькими изломами – судьбоносных потрясениями такой силы, что нам часто точно известно когда и где они произошли. Оттого писателям-тогдастам свойственно возвращаться к некому моменту в прошлом – рубежу, служащему водоразделом их жизни. Типичные «тогдасты» – Федор Достоевский (Семеновский плац) и Лев Толстой (Арзамасский ужас).
Творчество Мамлеева практически невозможно периодизировать. Основные его темы и художественные приемы присутствуют уже в самых ранних его вещах и в дальнейшем остаются неизменными – происходит лишь их совершенствование, углубление и адаптация к другим жанрам (например, к драматургии)".
Отвечая критикам «бедности и несовершенства» мамлеевского языка, Бойко констатирует новизну авторского взгляда («такой Москвы и такого Подмосковья мы до Мамлеева в литературе не видели») и уникальность мамлеевского героя.
«Неудивительно, что Мамлеев – один из немногих новейших писателей, чье имя при жизни стало нарицательным…Произведения Мамлеева повлияли на целый ряд писателей, без знакомства с творчеством которых, по нашему мнению, невозможно составить адекватное представление о литературной ситуации. Среди них: Андрей Бычков, Алина Витухновская, Михаил Елизаров, Анатолий Королёв, Виктор Пелевин, Сергей Сибирцев, Владимир Сорокин».
Но если с Мамлеевым получается «разобраться» объёмно и чётко, то конструкция метафизического реализма провисает – в отсутствии чётких границ и даже исходных положений. Сборники «Мистерии бесконечности» или «Равноденствие» ситуации не проясняют – значительная часть материала – ученическое эпигонство.
Выводы, к которым приходит Бойко, неожиданны: «По нашему мнению, не существует „метафизического реализма“ ни как самостоятельного литературного направления, ни как „литературной школы Юрия Мамлеева“. Тексты, созданные в рамках метафизического реализма, с формальной точки зрения (то есть с точки зрения построения этих текстов, используемых приёмов) не образуют никакой специфической области. „Метафизический реализм“ – это один из способов прочтения, интерпретации, декодирования текста. Это новая „оптика“, с помощью которой может быть прочитан, интерпретирован, декодирован абсолютно любой текст. Следовательно, на всякий текст можно взглянуть тремя различными способами. В зависимости от избранного ракурса один и тот же текст поворачивается одной из трёх граней. Назовем эти грани „соцпроза“ (описание низшего мира, тела), „психопроза“ (описание среднего мира, души), „метапроза“ (описания высшего мира, духа)…Роман Гончарова „Обломов“ может быть проинтерпретирован как обличение привилегированного класса России XIX века (социальный уровень), как психологическая драма (психологический уровень) и как изображение реализации в современных условиях древнего принципа „недеяния“ (даосская практика „У-вэй“)».
Излюбленный тезис Мамлеева – исчерпанность социально-психологической оптики.
По мнению Бойко, главная и подлинная заслуга Мамлеева именно в чётком разграничении психологического и метафизического аспектов.
«Метафизический реализм – это то, что дополняет половинчатый реализм (или недореализм – это, в частности, критический реализм, соцреализм, психологизм, натурализм), игнорирующий метафизическое измерение человеческой личности, до реализма в подлинном смысле этого слова».