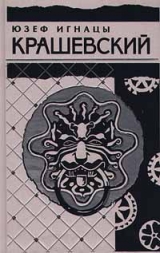
Текст книги "Ермола"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Крашевский Иосиф Игнатий
Ермола
Это было в одной из тех местностей Волынского Полесья, уединенных и забытых, через которые не пролегала еще доселе ни почтовая, ни большая транспортная дорога: в уголке, где живут еще почти средневекового жизнью и господствуют средневековые же – простота, честность, веселость и убожество. Прошу, однако же, не подозревать меня, будто бы этим я хотел выразить, что большими дорогами вместе с цивилизацией следуют и проступки и испорченность нравов, но есть, кажется, переход между одним и другим бытом, в котором пока вырабатывается новое, а старое умирает, остается какое-то неинтересное ни то, ни се, если можно так выразиться. Переходное же время, кое-где наступившее, еще не коснулось нашей местности, где жили, особенно в небольших домах, следуя нравам и обычаям XVI и XVII столетий. Правда, в более достаточных домах, выкрашенных желтой краской и принадлежавших полупанкам [1]1
Мелкопоместные дворяне.
[Закрыть], начиналась уже какая-то реформа, на которую, однако же, мелкая шляхта смотрела, как на чудовищную странность. Да и могло ли быть иначе в этой трущобе, куда газеты приходили раз в месяц, где обязанность почты исправляли евреи, уезжавшие на шабаш в местечко, а торговое движенье ограничивалось базарами, где продавали скот и лапти (о дровах предоставляем себе сказать ниже). Есть, может быть, скептики, которые не поверят возможности существования подобного закоулка; но не подлежит сомнению, что в окрестностях Пинска встречаются или, по крайней мере, недавно встречались дома, где спрашивали о здоровье короля Станислава-Августа в совершенном неведении о событиях, совершившихся со времен Костюшки. Никто там не видал солдата, никто не знал чиновника, а те, кто отвозит в Пинск подати, не слишком любопытствуют знать, кому вносят деньги, и, заворачивая в платок квитанцию, не заботятся прочесть ее, что, впрочем, и не ловко было выполнить.
Это говорится между прочим, потому что в местности, о которой речь, не все уже было до такой степени отстало и просто. Ежегодно доходили туда, в конце декабря, бердичевские календари, внося с собою слабый луч цивилизации и запас необходимейших сведений для тамошнего обывателя: время появления кометы, число, в которое должна наступить пасха, восход и заход солнца, и способ истребления насекомых, изобретенный в Англии. Почта была оттуда не далее ста верст, но богатые посылали за нею раз в месяц – и уж не более, как в шесть недель: некоторые даже подобным путем вели свою переписку.
Надо сказать, однако же, правду, что большая часть, в случае надобности, предпочитали посылать нарочных, хотя бы и за несколько сот верст. Да и не знаю, есть ли где в мире посланцы, подобные полесчукам [2]2
Жители Полесья.
[Закрыть]: никто не ходит так быстро, не проберется всюду, не наскучит требованием ответа и не выкрутится из всех опасностей. С первого взгляда примешь непременно за нищего или бродягу этого оборванца: в серой свитке, обвешанного котомками и запасом лаптей, – а, между тем, у него иной раз за околышем шапки или за онучей заткнуто дело в несколько десятков тысяч. Так уж и Господь Бог создал посланцем полесчука: он пронюхает дорогу покороче, и проберется, и попадет всюду, как-то вовремя, с неподражаемою скоростью. Поэтому-то и в шляхетских обычаях сохранилось употребление посланца, незаменимого никакою почтою. В каждой деревеньке существует несколько подобных привилегированных пешеходов, которые отправляются за несколько сот верст по образцу пешего хождения, и будь у них в виду несколько злотых барыша, готовы отправиться с письмом хоть в Калькутту. И до сих пор еще существует предание об одном полесчуке, которого какой-то пан Сгинский послал в Париж к своему кузену, – и посланец принес ему ответ с поклоном через несколько месяцев.
Если бы у посланца полесчука и была лошадь, то он никогда на ней не поедет, считая ее скорее бесполезною тяжестью, нежели вспомогательною силою.
Но мы уже чересчур разговорились о характеристике полесских гонцов и позабыли о своем рассказе. Местность наша, географического положения которой точнее обозначать не видим надобности, составляла что-то среднее между Волынью и пинским Заречьем. Это была значительная часть края, по большей части, еще заросшая сосновыми и дубовыми лесами, среди которых на расчищенных пространствах, в разных местах лежали деревеньки с своими закопченными избами. Сплавная Горынь перезывала боры, придавая им высокую цену, а потому и доход имений в основном зависел от лесной торговли. При всеобщей простоте тамошних нравов и скромном быте, который и не требовал более роскошной обстановки, все почти наживали там состояние и жирели под старость. Самая дорогая цена мяса была за фунт полторы копейки, да и за тем посылать не имелось надобности, потому что евреи развозили по дворам; за барана с кожей платили три злота (45 к.)! Хлеба было вволю, в заработке не было недостатка. Одним словом, жалкий по наружности и колтуноватый [3]3
Колтун – местная болезнь волос на голове.
[Закрыть]полесчук не променял бы своего быта на быт зажиточного волынца. Здешний крестьянин, не полагаясь на хлебопашество, имеет различные способы заработков, которые избавляют его от страха за неурожай, бывающий бичом иных местностей, где иногда через семь, а иногда и через два или три года случается скудная жатва. Лес и река, от которых владельцы не отстраняют его – служат ему обильным источником доходов и мелких промыслов. Во-первых, лес, даже и после вырубки в нем лучших деревьев на продажу, не приносящий владельцу относительно никакого дохода, чрезвычайно прибылен для крестьянина. Помещик не станет заниматься такими вещами как дубовая кора, липовые лыки, ободья, полозья, хозяйственные принадлежности, обручи, лапти, лоза, щепки, – а крестьянин до сих пор почти еще везде выделывает в лесах, что хочет, даже уничтожая молодые заросли и портя наилучшие деревья. Хоть небольшие деньги, но все же перепадает ему кое-что за сушеные ягоды и грибы, которых большое изобилие; по берегу реки тоже постоянные занятия: то поступают на плоты, то занимаются рыболовством. Короче говоря, здесь нельзя умереть с голоду. Конечно, случается и беда (к кому, однако же, не заглядывает эта гостья), но стоит только перебиться как-нибудь до весны, а там снова пошел себе человек жить. Бывают и тяжкие, черные, как здесь их называют, дни, когда хлеб пекут с половой и древесною корою, но земля наша не была бы землею, если бы на ней постоянно было, как на небе.
В домах тоже быт патриархальный, в поддержании которого мало принимают участия торговля и чужие края, так что при небольшом стеснении можно бы без них обойтись совершенно. В деревне легко достать и сделать все необходимое, а привозные товары только сахар, кофе, бутылки франконского вина, называемого здесь французским, какая-нибудь четверть фунта чаю и немного перцу. Но и то во многих случаях сахар заменяют медом, который ничего не стоит, кофе – цикорием, чай – ромашкой и более здоровым липовым цветом, вино – водкой и медом, а перец – хреном… О говядине мы уже говорили, птица разводится во дворе, свечи льют дома, сукно ткут на старосветском верстаке, приводящем в умиление простотою, полотно приготовляется также своими средствами, и нет ремесла, которое не было бы известно в значительнейших селениях. Кузнец, столяр, плотник, бондарь, каменщик – все это хоть плохое, но есть, и готово к услугам. В случае какой-нибудь крайней необходимости за отсутствием нужного ремесленника непременно выберется полесчук, который видел когда-то как где-то, что-то делалось – и возьмется попробовать, нередко подобным образом испортив несколько раз вещи, и выходит деревенский ремесленник.
Не скажу, чтобы здесь сильно процветали искусства и промышленность… но за то же ведь от художника немного и требуется в Полесье. Если, например, сапожник сошьет сапоги, – правда, с первого раза покажется, что они сделаны не для человеческой ноги, какие-то круглые, безобразные и твердые, словно скованные из железа. Но попробуйте надеть: года два не износите, хотя и будете ходить по грязи. Ног, конечно, не спрашивают, каково им будет в этих сапогах; ноги пусть благодарят Бога, что покрывает их чужая кожа, и искусственная подошва заменяет живую, а что касается мозолей, то их никогда не приписывают обуви, а считают естественным последствием трудов известного возраста.
Так и все здесь делается: крепко, надежно, толсто, а если некрасиво для глаз или неудобно для изнеженных, то тем хуже для глаз, которые разбаловались и для кожи, которая привыкла к комфорту. Надо прибавить, что каждый ремесленник в этом счастливом краю, где их мало по профессии, а все аматеры и умеют всего понемногу, считает себя артистом, высшим существом, непонятым толпою и имеющим право несть свой непризнанный гений в корчму с гордостью, достойной уважения, и вместе возбуждающей смех. Сношения с владельческим двором, усилия проникнуть в тайны ремесла, понимание себя как необходимого члена человечества и одной из спиц общественного колеса, возбуждают чувство, которое и в других кругах и под иными широтами возникает также, как у нас в Полесье. Не один парижский художник стоит наравне с здешним чеботарем в этом отношении. В особенности знал я одного сапожника… Но этот эпизод опять отвлек бы нас от нашего рассказа.
Обширные леса служат здесь фоном и рамкой каждому ландшафту. Среди них встречаются небольшие поляны, блестят пруды и речонки, гниют вечные болота, зеленеют сенокосы, заросшие наполовину лозами, сереют и чернеют закопченные постоянным дымом хаты. Серебристая Горынь, подобно блестящему поясу, величественно прорезывается посреди дремлющей местности, оживляемой и обогащаемой ей. По берегам Горыни лежат почти все здешние небольшие местечки. Конечно, в другом месте последнее название не дается зря, но в Полесье, где только есть церковь и костел, да базар, и где живет более, чем один еврей, там уже непременно существует местечко.
Количество сынов Израиля обусловливает важность местечка, и чем больше в нем евреев, – тем слывет оно богаче. В каждой такой маленькой столице есть свой господствующий владыка Ворох, Зельман или Майорка, который, всем торгуя, доставляет все, что угодно, от кожуха до часов; покупает хлеб и полову, держит постоялый двор, ром, табак и сахар, и знает наперечет всех окрестных помещиков, имея бумажник, наполненный их письмами и квитанциями. Лавки на базаре приспособляются к нуждам крестьянина, и в них продается все, начиная от горшка, пояса, шапки до железа, соли, дегтя и т. п. Есть две, три красные лавочки, столько же бакалейных – и дело с концом. Евреи составляют как бы душу местечка, жители которого занимаются, однако же, и хлебопашеством, потому что у нас мало таких местечек, в круг занятий которых не входило бы земледелие по славянскому обычаю. Несколько убогих шляхтичей, какой-нибудь бедняк чиновник, ксендз – пробощ [4]4
Старший священник, благочинный.
[Закрыть], владельческие официалисты [5]5
Чиновники, занимающиеся в конторе у владельца.
[Закрыть]– вот и все население. В течение недели пусто, по улицам играют еврейские дети, по базару расхаживают свободно куры, козы и коровы; зато же в воскресенье – столько дрог, фур и такой шумный, живой торг разными продуктами, что невозможно пройти, а один раз в год образуется целая ярмарка. Тогда появляются три или четыре повозки приезжих торговцев, на площади выставляются сапоги, еврей шапочник, где-нибудь у стены, на высоких жердях развешивает свои заманчивые изделия, бродит и цыган-коновал и шарманщик, и сборище увеличивается постепенно. Приезжают все окрестные помещики с женами, все экономы, писаря, чиншовая [6]6
Шляхта, платящая особого рода чинш.
[Закрыть]шляхта, и крестьяне с кожами, шерстью, сукном, полотном и т. п. Приятно видеть и слышать этот шум, гам, бойкий торг и всеобщее оживление. Поминутно продавцы и покупщики, ударив по рукам, идут в корчму запивать магарычи, а здесь бабы с луком, чесноком, табаком, красными поясами и запонками беспрерывно находят покупателей. На другой день после ярмарки и даже до первого проливного дождя можно еще судить, что совершалось на базарной площади.
Зато же после такого бурного дня всеобщего движения вся окрестность почти целый год пребывает в печальной тишине, составляющей здесь основание обыденного быта. Человек часто невольно должен согласоваться с окружающим: никогда мы не можем совершенно освободиться от того влияния, какому подчиняется червь – зеленый на зеленом листке и красный в красном яблоке. В дремлющих сторонах – как Полесье, где склоняют ко сну и шум вековых деревьев и мертвенное болото; где влажный, насыщенный смоляным дымом, воздух веет тишиною, житель постепенно чувствует, как тише в нем вращается кровь, медленнее действуют мысли: ему так же хочется отдыха, он боится всякого усилия, и, подобно грибу, прирастает к почве. Крестьяне около сорока лет отпускают бороды, а помещики около того же возраста облекаются в халат, покидают фрак, и если женаты – не выезжают никогда из дому, а холостые начинают догадываться, что супружество не ведет ни к чему, исключая бесполезных расходов.
Несмотря на всеобщие приятельские отношения, посещают здесь друг друга редко: летом жарко, зимой холодно, осенью грязь, а весною множество комаров. Леность побеждается только во время именин любезного соседа или в случае крайней необходимости. Вследствие того, что невозможно прожить без посторонней помощи, – помощь эта всегда готова к услугам в лице еврея арендаря [7]7
Не надобно смешивать со словом арендатор. Арендарь есть лицо, держащее в аренде шинок.
[Закрыть]. Является он обыкновенно по зову или в урочное время, становится у порога и начинает отдавать отчет о наблюдениях своих в течение недели по окрестностям, или о том, что услыхал от приезжавших на мельницу, или к кузнецу соседних обывателей. Конечно, новости эти ограничиваются сведениями: кто сколько высеял, сжал, где завяз, что и почем продал, кто куда ездил и т. п., но и эти сведения на некоторое время оказывают влияние на хозяйство, а иногда даже заставляют выехать из дому для поверки сообщенных известий.
Естественно, нельзя здесь искать никаких нововведений, ни даже стремления к ним, а скорее недоверие к ним и отвращение. Все здесь делается по-старому, зато же, если хотите знать истинное предание, или видеть следы прошлой жизни, давно исчезнувшей в других местах, только здесь можете удовлетворить свое любопытство. Пан разделяет с крестьянами глубокое уважение к преданиям, и даже если он освоился немного с философией, и, по-видимому, смеется над предрассудками, то в уголке где-нибудь поклоняется им, потому что еще в детстве всосал их с материнским молоком, вдохнул с воздухом.
Положим, лет уже пятьсот нет замка, а все-таки место, где стоит панский дом, называется подзамчем, и если крестьянин везет туда дрова, то говорит: в замок. Где некогда в древности стояла церковь, место это именуется монастырищем. На распутьи где-нибудь давно уже запала могила, крест свалился и сгнил, а крестьянин не пройдет мимо, чтобы не бросить на нее ветки или камешка по языческому обычаю. Здесь сохранилось все прошлое: и повесть об основании деревни, опаханной парой черных волов в предохранение от чумы и падежа, и предание о каком-то князе, утопившемся в пруду, и татарские набеги, и сказки о двух братьях, которые, влюбясь в одну девицу, убили друг друга, а она с горя повесилась на их могиле.
Песня существует тысячу лет и испокон веку одни и те же нравы у обывателей, которые верны преданию, как обязанности, принятой относительно отцов и дедов.
Перенесемся теперь в описанную местность, на берег Горыни.
Несмотря на всю любовь к родине, надо признаться, что есть годы, в которые трудно у нас увидеть весну свежую, зеленую, веселую, одним словом, весну поэтическую: она представляется чистейшей баснею или греческим мифом, заимствованным для бесполезного соблазна. Начинается она бурями и дождями пополам со снегом, грязью пополам с морозом, тощей зеленью, опушенной инеем, холодом, который гораздо хуже зимнего мороза, и острым каким-то воздухом; потом вдруг, как в Сибири, являются несносные жары, и зима, подавая руку лету, решительно не дозволяет весне опуститься на землю. Не знаю также, где прячется в это время расхваленная и воспетая в стихах весна, которую так аккуратно предвещает бердичевский календарь на 9 марта. Вероятно она странствует по другим краям, если правда, как говорит Кемтц и иные метеорологи, что непременно известная сумма тепла и холода должна в год издерживаться без недоимки здесь или в какой-либо местности, и утешает более холодные широты, или подбавляет тепла там, где его и без того значительное количество. Как бы то ни было, но у нас ее милость часто не исполняет своей обязанности. Не мешало бы ей вспомнить, что, наконец, она может потерять место, как чиновник, пренебрегающий службою, или как помещик, несколько раз не ездивший на выборы, и ipso facto, потерявший право голоса.
Бывают, однако же, у нас и счастливые годы, когда весна соберется придти в пору, если не по приказанию бердичевского календаря, то в силу крестьянского предсказания и свято исполняет свою обязанность. В том году, о котором речь (хронология была бы бесполезна, – а дело было давно), шалунья, должно быть, одумалась и, дав земле выдержать с морозами и снегом до второй половины марта, неожиданно принесла с юга теплый ветер, живительный дождик, омыла почернелую скорлупу, проняла глубоко отвердевшую землю и блеснула ярким солнышком, так что в одно мгновение произошла волшебная перемена декораций.
Казалось, все ожидало только сигнала, чтобы начать свою роль: исхудалые аисты давно уже прохаживались по берегам ручьев, напрасно измеряя глубину их длинными носами и вытаскивая лишь мелкие кусочки льда; жаворонок зяб, но пел, бедняжка, посматривая на солнце; почки на некоторых деревьях уже наполнились, надулись и ожидали только теплых лучей, чтобы расцвести; травы тоже приходили в нетерпение под холодною корою. Едва только повеял теплый ветерок, брызнул дождик и появилась весна, – все ожило как по мановению волшебника. Один день произвел большие перемены: аист взлетел и защелкал на высохшем гнезде, жаворонок смелей взвился вверх, волчье лыко убралось розовыми цветами, орешина развила свои пурпуровые сережки, трава выпрыгнула из земли, пораскрывались анемоны, глотая с жадностью первую каплю росы и первый луч солнца; высохли глубокие лужи, всюду повеселело, и, помолодев, природа казалась совершенно другою.
Везде хороша подобная весна, являющаяся в пору, но вряд ли может она быть прекраснее, как на берегах большой реки, где пробуждает жизнь и могучее движение. В особенности над Горынью, разлившеюся широко, затопившей луга и часть полей, – было весело и хорошо в прибрежных лесах. Конечно, еще не позеленел черный бор, но замечалась уже в нем пробуждавшаяся жизнь: воздух был полон запахом влажной земли, древесных почек, травы, воды, милым и упоительным запахом, имеющим волшебную способность напоминать детские годы; торжественно шумели воды, разломав не только лед, но и плотины, неся что где захватили; лес хоть шумел еще и сухими ветвями, но шумел уже иначе, другим тоном, нежели зимою.
По берегу шевелились люди после зимнего отдыха, принимаясь за труд и промысел: кто плел лозовые веревки, кто собирал разбросанные бревна, кто связывал плот, а свежепостроенная казенка наполнялась всем необходимым, чтобы вот принять в себя начальника флотилии; так называемая казенка – небольшой домик из прутьев, построенный на плоту, в котором во время плавания помещаются хозяин, касса, полиция, счеты, кладовая, водка и пекарня, снабжающая судорабочих хлебом. Не знаю, в каком виде казенка доходит в Данциг – может быть, закоптелая и неопрятная, – но в день отплытия с места – она кажется игрушкой: так бы и хотелось в ней поплавать. К несчастью, обычным ее жильцом бывает толстый, пыхтящий, проникнутый чесноком и нафаршированный луком, еврей – купеческий приказчик.
Именно в том самом месте, где мы остановились под Горынью, недалеко от берега, желтела небольшая, но очень красивая казенка; вокруг нее на большое пространство лежали плоты так густо, что по ним можно было беспрепятственно дойти не только до казенки, но и несколько сажень дальше. Все было готово, ожидали только рабочих, покупали для них запасы и откладывали поход со дня на день, притом же еще не показывалась ни одна партия плотов, которая упредила бы местную.
Хотя окрестность была еще обнажена, однако, не лишена некоторой прелести в грустном тоне. По ту сторону широкого разлива, несколько в стороне от темного луга, раскинулось большое полесское село с серыми хатами и множеством деревьев, умерявших воздух во время летнего зноя, с древней церковью, окруженной крыльцами и оригинальной колокольней, с кладбищем в бору, среди которого местами белели березы. За рекой вправо и влево, куда только достигали взоры, тянулся сплошною стеной лес, а на водной площади – затопленные лозы указывали, до каких пор должен был понизиться разлив. Большое село это было длинно и старо, что доказывалось огромными деревьями, над ним господствовавшими.
Для дополнения целого, ища взором господский дом, вы полагали бы, что он на холме над Горынью, но подойдя ближе, в саду между срубленными деревьями и молодыми зарослями увидели бы только развалины деревянного строения и какую-то грустную пустыню. Дом был полуразрушен; одна труба его торчала уже обнаженная; а возле него дым курился еще из жилого, но ободранного флигеля. По-видимому, здесь давно уже не было помещика; даже крест, стоявший у ворот, свалился и гнил на земле, а обломанный плетень пропускал пеших и конных, в то время, когда вросшие в песок ворота, словно в насмешку, стояли запертыми на замок, хоть в них не существовало ни одной перекладины.
Вместо некогда широкой, а теперь заросшей травой дороги между господским двором и деревней скот повытаптывал тропинки, по которым он ходил на пастбище.
Такое же запустение замечалось и на строениях села, содержание которых зависело от помещика, но несмотря на это, труд и промышленность вносили сюда несколько достатка и жизни.
В то время, когда начинается наша повесть, на плотах, приготовленных к отплытию, было уже мало народу; постепенно вечерело, – и от воды несло холодной свежестью. На бревне, с деревянной трубкой в зубах, сидел сгорбленный старик, а возле него прохаживался молодой парень, одетый не то шляхтичем, не то крестьянином, не то лакеем. Трудно было определить возраст старика, потому что есть лица, которые, достигнув известных лет, изменяются и стареют так быстро, сразу, что на них не оставляют уже следа позднейшие годы. Так и здесь трудно было сказать, сколько лет мог иметь сгорбленный старичок – пятьдесят или семьдесят. Весьма малого роста, несколько горбатый, с седой лысой головой и недавно запущенной бородою и усами, весь сморщенный, как моченое яблоко, он казался еще бодрым и свежим; на лице его заметно было немного крови, в глазах блеску, а некогда правильные черты еще не совсем исчезли под морщинистой кожей. Спокойное и кротко печальное выражение лица носило необыкновенный отпечаток свободы духа – редко встречаемый у беднейших классов: казалось, старик закончил уже расчет с миром и терпеливо ожидал за это обещанной награды. По одежде трудно было его причислить к какому-нибудь определенному сословию: его нельзя было принять за простого крестьянина, хотя костюм его и мало разнился от крестьянского. Свитка его была несколько короче полесских; пояс, кожаный с пряжкой, штаны довольно тонкого сукна, на шее старенький платок, а на голове шапка с изношенным и потертым верхом. Несмотря, однако же, на эту убогую изношенную одежду, во всем проглядывала какая-то заботливая опрятность: и рубашка, выглядывавшая из-под платка, была безукоризненна, и свитка чистая, и лапти завязаны холщовыми тесемками.
Парень, судорабочий, не то дворовый, не то деревенский, с длинными темными волосами, падавшими на обнаженную шею, с небольшими подвижными черными глазами – чертами лица походил на полесский люд, из которого и происходил, по-видимому. Лицо его было круглое, рот большой, нос несколько вздернутый и красивый, лоб широк, и вообще вся физиономия выражала довольство и ум, будучи озарена молодостью и свойственными ей веселье ем и беззаботностью.
– Нас в хате трое, – сказал он старику, – и пан позволил мне наняться в судорабочие. Признаюсь вам, эта походная жизнь мне нравится больше, чем барщина; надоело жить в хате под печью.
Старик пожал плечами.
– Вижу, что ты меня не послушаешь, – возразил он, – тебе захотелось поплавать, а молодой, что вобьет себе в голову, в том никто не разуверит его, разве одна беда… Но, Бог с тобой, а я все-таки скажу свое…
Парень засмеялся.
– Позвольте, я расскажу прежде свое, а потом уже буду слушать ваши речи. Во-первых, молодому не помешает увидеть свет, ведь не только его, что в окошке; во-вторых, все же мне здесь свободнее с евреем, который побаивается немного, хоть и ничего не смыслит, нежели там – с паном и экономом, а, наконец, зашибешь и копейку на подати.
– Все это правда, может быть, и еще нашлось бы что-нибудь, а старые глаза смотрят иначе. Видишь ли, человек в этих путинах отвыкает и от избы и от постоянной работы, понравится ему кочующая жизнь, а ничего нет хуже, как опротивеет родимое гнездо. Возвратясь домой, все уже не по вкусу, и хлеб горек, и обед не солон, и люди скучны, и барщина тяжела. Начинают, обыкновенно, заглядывать для утешения в корчму к еврею, потом привыкают к водке, а там и пропал человек ни за собаку. Если бы у меня был сын, я никогда не отдал бы его на жидовские руки. Кому Бог предназначил сидеть в хате, тот пускай далеко не отходит от порога.
Слушая старика, парень задумался.
– Разве же, – сказал он через некоторое время, – человек так вот сейчас и забудет, где вырос и для чего родился! О, нет, нет, дядя… И что же дурного посмотреть на свет, чтобы после было, что рассказать детям под старость. Скорее соскучишься о своих, чем их позабудешь, а после домашний хлеб покажется вкуснее.
– Все это отчасти правда, и плаванье на плотах и судах пригодилось бы на что-нибудь, если бы только было все по Божьему, – отвечал старик. – А как там легко разбаловаться, сколько соблазну. На воде ежедневно выпадет какой-нибудь случай познакомиться с чаркой: жид, собачья шкура, на каждой мели, на каждом шмаре заливает водкой, а тут-то и берут людей черти!.. Ему что до судорабочих, лишь бы его плоты дошли в немечину, да насыпались талеры… Я, как видишь, доживаю век, а не захотелось даже ни разу взглянуть, что дальше делается на свете; я редко выезжал из деревни – и ничего не прошу у Господа Бога, чтобы только сподобил здесь сложить свои кости.
– Когда вам и так хорошо.
– Хорошо? Гм! Конечно, теперь должно быть хорошо, потому что я отжил свое, и мне нужны только ложка борща и теплый угол; но случалось все, а все же и злую годину как-то легче перетерпеть на родном пепелище.
– А вы здешние? – спросил судорабочий.
– Здесь родился, коротал век и лягу в могилу, – отвечал старичок несколько грустно. – Грибу нечего думать о танцах.
– А любопытная должна быть история?
– Чья?
– Да ваша.
– Моя? Разве же это история? Беда родилась, беда и пропала.
– Вечером решительно нечего делать, в корчму идти боюсь; если бы вы, дядя, рассказали про свое житье-бытье. Одному сидеть на плоту скучно, а то и время прошло бы и я от вас чему-нибудь научился бы.
Старик добродушно засмеялся.
– А что же я расскажу тебе? Судьба моя не любопытна: таких много на свете. Под старость остался я один-одинешенек, и нет в свете живой души, которая назвалась бы родною. Но ведь старикам только и надо, чтоб их слушали, зацепи только нашего брата – и сам не рад будешь.
– О, говорите только, я люблю слушать.
– Сколько себя помню, – начал старик, – то здесь на берегу Горыни бегал я по целым дням с мальчиками, правда, в изорванной рубашке и без шапки, но то было счастливое время.
– А родители?
– Я их не помню: мне было лет шесть, когда оба умерли от какой-то горячки, а как они были выходцы из Волыни, то у меня не оказалось в деревне никакого родственника. Словно сквозь сон представляется, что после похорон приказчик отвел меня с кладбища в соседнюю избу, где старуха накормила меня, два дня питавшегося лишь сухим хлебом. На другой день заставили меня пасти гусей, потом перешел я к свиньям, а потом, как заметили, что я уже понимаю дело, поручили общественное стадо. О, ничего не было приятней этой пастушьей жизни! Правда, что мы выгоняли коров до рассвета, за то же, как сладко спалось где-нибудь под кустом, когда бывало нашалишься в лугу или по лесу. С рогатым скотом не много заботы: эти животные понятливые; как только привыкнет в выгону, его и палкой не сгонишь с места; если заберется не туда, куда следует, раз, два, следует отогнать, оно само не пойдет больше. Пастуху только надо посматривать, издалека покрикивать и заниматься, чем ему угодно.
– Э, что это за удовольствие, – прервал парень, – когда не с кем перемолвить слова…
– Нас ведь собиралось несколько мальчишек. А как разложим, бывало, огонь где-нибудь в лугах или в лесу, да нанесем картофеля, грибов или поджарим сала, то-то роскошь! А как начнем бывало петь, – просто сердце радовалось, когда песня наша далеко разносилась по лесу… Да что и толковать! Когда, однажды, наш пан, прежний помещик, царство ему небесное, встретил меня в лесу, идучи на охоту, заговорил со мною, и видно я полюбился ему, потому что тотчас же велел взять меня во двор казачком [8]8
Прислуга у польских панов одевалась по-казачьи, да и теперь еще не вывелось это обыкновение.
[Закрыть], – видит Бог, как мне не хотелось покидать пастушью жизнь свою…
– А, так вы служили во дворе?
– Всю жизнь, сынок, всю жизнь…
– А что выслужили себе на старость? Суму?
– Погоди, все узнаешь. Я не жалуюсь, хоть мне, может быть, и не так посчастливилось, как другим; но что же из того, если бы я был теперь и богаче? Не ел бы я с большим вкусом, не спал бы спокойнее. Прежде выслушай, а потом увидишь, чего я дослужился.
На другой день привели меня во двор насильно, обмыли, обули, одели… Хоть слезы навертывались на глаза, а надо было исполнять, что приказывали. На третий или четвертый день я уже втянулся, потому что тяжелой работы не было; меня прежде приучали в буфете, пока допустили в комнаты. Пан наш был еще не старый человек, красивый мужчина, а что главнее – доброго сердца. С первого уже раза ты чувствовал, что будешь любить и уважать его, потому что по внешности и по обращению видно было, что он пан на всю губу [9]9
То есть пан в полном смысле слова.
[Закрыть], а хоть бы оделся он в сермягу, ты и ночью узнал бы, что Господь Бог создал его властвовать. Но его власть никому не была тяжелой; разгневавшись даже, он ни с кем не говорил сурово, молчал только, а молчание это было самым тяжелым наказанием для служителей. Каков поп, таков и приход: и старый казак, которому меня поручили, и прочая челядь были добрые люди, я скоро с ними освоился. Конечно, мной помыкали, но только отвечали одни ноги на побегушках, и я даже не помню, чтобы кто ударил меня или выбранил. Казак, бывало, говорит: это сиротка, не следует обижать бедняжку… И вот позабылась пастушеская жизнь… и когда бывало, через несколько недель потом встречаю старого пастуха Грынду и прежних товарищей, то улыбнусь им только издали, показывая на свои шаровары с красной выпушкой… но в лес уже мне не хотелось. Служба была не тяжела: пан велел мне быть только в комнатах, и меня к тому приучали. Возле него немного заботы: по большей части он сам себе прислуживал, редко когда бывало потребует, и всегда обращается отечески. С старым казаком жили они словно братья, только казак иногда ворчал на него.







