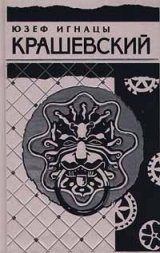
Текст книги "Осторожнее с огнем"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Почему же?
– Потому что я этого не желаю.
– Не вижу причины, мой милый!
– Вы не хотите понять меня, но я говорю, что думаю, не золотя пилюли. Сомневаюсь, чтобы этот франтил осмеливался иметь виды на Юлию!
– И я сомневаюсь.
– Однако, в недобрый час легко можно вскружить голову молодой девушке. Марии тоже не отдам за него. Наконец, я терпеть не могу Дарских и не хочу здесь с ними встречаться.
– Хотя еще здесь нет ничего подобного и в помышлении, однако, вы уже говорите таким тоном, как бы Юлия и Мария не от себя и меня зависели, но только от вас. Впрочем, если бы что и было, я, кажется, больше вас имею права над внучкой.
– Полное и неотъемлемое право, – сказал, кланяясь, председатель. – А я, – прибавил он, – имею также право отдать свое имение кому будет мне угодно.
– Этого вам запретить никто не может, – ответила старушка, немного смутясь.
– И если только здесь будут поступать помимо моей воли, Юлии не достанется от меня ни гроша.
– Однако, здесь еще не предпринимают ничего подобного.
– Да, но пока нет ничего, надо предостеречь вовремя. Очевидно, Старостина была взволнована тоном и предметом разговора.
– Итак, написать или сказать Дарскому, чтобы он прекратил свои посещения.
– Вчера я сама писала к нему, приглашая к себе, теперь не могу удалить его – он не подал повода.
– Подал повод, наговорил мне дерзостей.
– Вам?
– Мне, вашему родственнику и опекуну, у вас в доме.
– Быть не может!
– Совершенная правда.
– Что же он мог сказать вам?
– Я приказывал ему уехать… Старостина, ломая руки, поднялась с кресла.
– Прилично ли это?
– Прилично ли, неприлично, а я поступил так, и дело с концом! Он мне гордо отвечал на это, что я не имею права, что…
– И имел основание.
– Он?
– Опомнитесь! Вы унижаете сами себя.
– Следовательно, вы не откажете ему?
– Это невозможно.
– Итак, моя нога не будет здесь, пока он шатается в этой стороне. А, если, Боже сохрани, Юлия… но… говорить больше нечего. Я, кажется, еще господин своего имения.
Сказав это, он встал и вышел.
Для разъяснения угроз, которые так грубо председатель бросал в глаза старушке, мы обязаны прибавить, что от него зависели почти все состояние и будущность Юлии. Огромное, неслыханной скупостью составленное имение было записано Юлии; на владении старосты лежали большие суммы, занятые покойником у председателя. Следовательно, он угрожал старушке и Юлии почти нищетой.
Неудивительно, что Старостина расплакалась по уходе родственника.
Юлия, отправив гостей в сад в обществе Марии, как бы предчувствуя потребность утешить старушку, вошла к ней в комнату и застала ее в слезах.
– Что с вами, бабушка?
– Ничего… так… думала, молилась и слезы как-то полились неожиданно.
Говоря это, она ласкала внучку, прижимая ее к сердцу.
– О, нет! Есть что-то… Здесь был председатель… Расскажите мне.
– Ничего, дитя мое.
– Как ничего? Это не те слезы, что вызывает прошедшее… Я знаю. Бабушка, не скрывайте от меня!
– Тебе представляется, милая моя!
– А хотите, бабушка, я скажу вам отчего вы плакали?
– Я?
– Да. Председатель хочет выпроводить от нас Дарского, хоть я и не знаю, в чем он ему мешает. Вы не смеете этого сделать, а он, по-своему, сейчас готов угрожать, что лишит меня наследства. Боже мой! Что же мне до его состояния! Я им не интересуюсь – будет с меня и своего.
– Бог знает, что болтаешь!
– Председатель, бабушка, болтает; у него только одни угрозы на языке за малейший пустяк. Не обращать на это внимания и только.
– Однако если бы можно было как-нибудь повежливее дать знать Дарскому… Неужели же для незнакомого человека терпеть столько неприятностей?
Юлия смешалась и покраснела.
– Как вам угодно, бабушка!
Старушка взглянула и заметила, что две слезы, крупные как жемчуг, навернулись на глазах девушки.
– Как? Уже? – спросила она.
Смущенная Юлия молча скрыла лицо на коленах бабушки, которая не могла произнести ни слова.
– О, Боже мой, – отозвалась она, наконец, – нужно же было моей слабой старости допустить, чтобы первый незнакомец, Бог знает кто, вскружил голову моему дорогому дитяти!
Юлия опомнилась и сказала тихо:
– Он не вскружил мне головы, но чувствую, что если бы я никогда больше не могла увидеть его, всю жизнь была бы я грустна, может быть, несчастна. Я еще не люблю его, но не знаю, что меня привлекает к нему.
– Тише, Бога ради, тише! Если кто услышит! Дитя мое, сжалься надо мною! Это наказание Божие!
И понижая голос, старушка прибавила:
– Едва видела его несколько раз, так накоротке… Не знаешь… Это ребячество.
– Да, ребячество! Попробуйте написать к нему, чтобы не ездил к нам и увидите.
Старостина посмотрела на внучку.
– В самом деле?
– Попробуйте. Что же мешает испытать? – сказала, грустно улыбаясь, девушка.
Но старушка не имела силы для подобного испытания.
Старик Дарский снова сидел под крестом на камне, когда Ян неожиданно возвратился из Домбровы. На вопрос о причине скорого возвращения, сын ничего не утаил, повторив даже весь свой разговор с председателем.
Старик улыбнулся с сожалением.
– Давнее воспоминание, давняя ненависть! – сказал он. – Пусть Бог простит ему, как я прощаю. Всегда, всю жизнь он был таким – вспыльчив до безумия, нагл до забывчивости. Видно и годы его не изменили. Одна добрая минута была у него в жизни, – в которую он оценил добродетели твоей матери. Не гневаюсь на него, что мстит мне за нее, я и до сих пор по ней тоскую. Каждый любит, как умеет: он продолжает свою привязанность – мщением, я – слезами… Но ты, – прибавил старик, – туда больше не поедешь?
Удивленный Ян не отвечал ни слова.
– Я хочу и требую этого от тебя. Для минутной, еще не развившейся прихоти, для женщины, подобных которой тысячи, вносить в дом непокой, в семейство ссору, может быть, слезы, сожаление, тайные страдания – не следует, не следует. Я знаю председателя, знаю обстоятельства Старостины. Огромное состояние, на которое может надеяться Юлия, все в руках председателя. Он записал ей имение, но может и отнять. Старушка бы этого не пережила, а он готов сделать то из-за безделицы.
– Разве же я ищу богатства? Я люблю Юлию.
– Уже любишь? Ян, Ян! Не профанируй этого слова, не называй им пустых страстишек, потому что после не достанет тебе слова для выражения святого чувства. Вчера ты говорил, что если я прикажу, ты все оставишь. Никогда, ни в каком случае, я не требовал бы повиновения, теперь обязан.
Ян опустил голову.
– Неужели, – сказал он, – у вас бы хватило духу приказать мне? Вы знаете, что до сих пор я никого не любил еще, но теперь чувствую, что люблю ее и люблю навеки. Это не преходящее чувство, но та святая любовь, о которой вы говорили. Без нее мне жизнь – не в жизнь.
– Боже мой! Так воспламениться от одного взгляда.
– Я знаю ее, словно век с нею прожил; каждую мысль читаю в глазах ее, понимаю каждое невыговоренное слово.
– Но кто же поручится, что она будет любить тебя?
– Я в этом не сомневался ни минуты: любовь, подобная моей, не может не вызвать взаимности.
– Отчего?
– Не могу этого объяснить, но чувствую и уверен.
– Однако не поедешь больше в Домброву.
– Отец, это сверх сил моих!
Старик взял его за голову, поцеловал и сказал с чувством:
– Если меня любишь, Ян.
– Отец, отец мой!
И он не мог сказать ничего больше и закрыл лицо руками.
– Не отчаивайся. Если это истинная привязанность с обеих сторон, я не посмотрю ни на угрозы председателя и ни на что на свете. Завтра уедешь ты в Литву на полгода и, возвратясь, можешь быть у Старостины, а теперь не должен.
– Как? Уехать, не прощаясь, когда я обещал быть у них?
– Надо уехать.
– Что же они подумают?
– Пусть думают, что им угодно.
– Что я испугался председателя?..
– Хотя бы это. Если девушка любит тебя, не подумает ничего дурного и любовь ее проживет полгода без новой пищи… А теперь пойдем домой, почитай мне немного, у меня что-то глаза болят.
На другой день Юлия с Марией сидели под знакомыми нам дубами, в обычное время своей прогулки. Хотя вечер сделался бурный, почти холодный, однако, Юлия, как избалованный ребенок, вышла гулять и вытащила в рощу подругу. Постоянно веселая, она никогда еще не была так грустна и печальна.
– Помнишь, Marie, наш разговор на этом месте в тот вечер, когда он нас здесь встретил?
– Могла ли я забыть! То была как бы программа твоей жизни, но программа ложная, от которой теперь ты сама отступишь.
– Нет!
– Как? А наш утренний разговор в саду?
– Разве одно противоречит другому?
– Однако же, бедное, расстроенное дитя, ты мне призналась, что его любишь.
– О, люблю, – с чувством сказала Юлия, – и верю, что это первая и последняя моя любовь.
– А те долгие испытания?
– Погоди, они только теперь начнутся.
– Ты говоришь, что любишь, и неужто у тебя достанет силы?..
– Собственно потому и достанет, что люблю. Я хочу так обезопасить, так обеспечить себе эту любовь, что Бог знает, чем готова пожертвовать. Я знаю, что он уже любит меня, как и я его; но будет ли любить, сохранит ли постоянство? Могу ли надеяться, что он мой навеки?
– Что же вечного в жизни?
– Век – наша жизнь, а кто знает, как долга жизнь.
– А ты будешь ее тратить на испытание!
– Так должно.
– Разве недовольно для тебя его взора, слова и неописанного чувства, которые говорят, что он любит тебя?
– Нет! Я хочу знать, выдержит ли его любовь испытания.
– Юлия! Ты любишь его только головою. Юлия оскорбилась.
– Не знаю, но ты, холодное существо, никогда никого так любить не будешь.
– О, никогда и никого, – отвечала Мария и тише, грустно повторила сама себе: – Никого, – никогда!
Слезы навернулись на ее глазах.
Юлия скорей почувствовала, услышала, нежели увидела те слезы в голосе Марии и бросилась в объятия к подруге.
– Прости, прости меня! Бедная я! Даже слова мои поражают; что же после этого любовь!
– Может убить, – тихо сказала Мария. – Скажи мне, ты серьезно говорила об испытаниях?
– Послушай, Marie, я, по-вашему, дитя, но я убеждена, что умом и чувством я достигла предела, за который не перейду уже. Я упряма, вы говорите, но это оттого, что имею собственное убеждение; знаю, чего хочу, а чего хочу, должна иметь непременно. Любовь – важнейшая цель моего существования, но она не похожа на ту, какую видим обыкновенно: не раздушенная в черном фраке, в парижских перчатках. Нет! Я готова для нее всем пожертвовать, но хочу, чтобы и я все для нее составляла. Председатель лишит меня наследства, я буду почти бедна, но не забочусь об этом, а хочу быть счастливой и уверенной, что тот, кому отдам себя, будет осуществлением моего идеала.
– Что же убеждает тебя, что первый для кого забилось твое сердце – именно тот, кого ты ожидала?
– О, я люблю его, чувствую это; но любя, трепещу и путаюсь. Пока скажу ему то, что просится из сердца, я должна быть уверена, что он любит меня всей душой, что все посвятит для меня.
– Все? О, есть многое, чем нельзя пожертвовать даже для любви!
– Да, честью, священными обязанностями… Но собой…
– Что же ты полагаешь делать?
– Ничего: буду его мучить, испытывать.
– И для того ты завлекла его, обманула?
– Да, чтобы любил и страдал. О, поверь, я вознагражу его за это – жалеть не будет!
Еще они шептались между собой, как Ян, которому запрещено было являться в Домброву, выискивая случая видеться с Юлией, приехал к знакомым дубам в надежде ее там встретить и попрощаться.
Юлия услышала топот, Мария первая догадалась, кто едет, и, не желая дождаться нового таинственного свидания, старалась увлечь подругу.
– Не пойду, – сказала Юлия решительно.
– Помилуй! Люди, которым все известно, узнают о наших прогулках, о том, что он бывает здесь и что же заговорят о тебе, обо мне?
– Пусть говорят, что хотят, а я делаю то, что обязана.
– Но теперь ты не обязана поступать так.
– Положись на меня.
Ян уже сошел с коня и их приветствовал.
– Теперь я убеждена, – сказала Юлия, обращаясь к нему, – что вы, подобно нам, полюбили это место.
– Или место, или тех, кого встречаю…
– Я знала, что вы закончите этим комплиментом.
– Я даже признаюсь, что ехал сюда в надежде вас встретить.
– Очень благодарны.
– В Домброве я быть не могу, а завтра или, может быть, сегодня, – уезжаю.
– Уже? – спросила Юлия.
– Завтра или даже сегодня.
– Непременно? – И она посмотрела ему в глаза, испытывая силу своего взора.
– Непременно.
– Так, что ни удержать, ни упросить вас?
– Кто ж бы меня просил, или удерживал?
– А если бы?
– Невозможно, – сказал Ян грустно.
– Чья ж воля, как собственная, удаляет вас отсюда?
– Воля отца моего.
– Склоняемся перед нею, хотя скажу откровенно, нам жаль вас. В каменистой и песчаной Литве вы позабудете о волынских знакомых.
– Я никогда не забываю того, что оценил раз в жизни, к чему…
Он не смел докончить. Взоры их встретились.
– Поезжайте с Богом! – сказала Юлия с притворным равнодушием. – Когда же мы можем ожидать вас?
– Через полгода.
– А, так скоро?
– Вы говорите – скоро?
– Разве я сказала?
Юлия говорила быстро, притворяясь ветреной и равнодушной, но сквозь это притворство пробивалась раздражительность. Ян был грустен.
– Которое у нас сегодня число? – спросила она.
– Первое августа.
Юлия начала считать по пальцам.
– Итак, значит, первого февраля…
– Закончится полгода.
– Как раз на масленице. Значит, в этот самый день вы приедете в Домброву?
– Вы приказываете?
– Разве же я приказывала? Нет… А вам угодно, чтобы я приказала?
– Сделайте одолжение.
– Извольте – приказываю. Первого февраля у бабушки будет большой танцевальный вечер, множество съедется гостей и председатель.
– И председатель?
– Непременно, и подкоморная, и Матильда.
Юлия говорила машинально, но взором постоянно вливала в дрожащее и больное сердце Яна новый пламень, новую боль, которые должны были питать его полгода. Она оторвала дубовый листок и подала его Яну.
– Что бы вы не забыли обещания возвратиться через полгода – вот зелень, которую прошу носить при себе. Первого февраля приглашаю вас на первую мазурку.
И она подала ему руку. Руки их задрожали конвульсивно; вся кровь, вся жизнь перешла в ту счастливую, которая коснулась ручки Юлии. И была минута такого увлечения, что изменилось насмешливое выражение уст Юлии; но это продолжалось миг, не больше.
– До свидания! – сказала она.
Ян не отвечал ни слова. Голова его закружилась. Долго и грустно смотрел он на Юлию, на Марию, которая молча прощалась с ним, бросился на лошадь и ускакал.
– Может ли она любить? – говорил он сам с собою. – Она только насмехается, она так холодна и равнодушна. А как дрожала ее рука в моей! Что говорили ее волшебные очи?.. О, бедная голова моя, бедное сердце – что делается с вами? Юлия, Мария! Обе!.. одна… Сам не знаю, безумствую!..
И он изо всей силы ударил серого, а Лебедь, непривыкший к этому, рванулся и как стрела помчал его. Когда скрылся молодой человек, Юлия упала на скамейку.
– Увижу ли я его когда-нибудь? – спрашивала она Марию. – Не огорчила ли я его своей ветреностью? Что он думает обо мне? Захочет ли возвратиться? О, Мария, спаси меня – сердце мое разрывается.
А Мария ласкала и утешала ее, как могла, хоть бедняжка сама требовала утешения, хоть страдала намного больше. И она любила Яна, но любовью без надежды, любовью, подобной песчаной степи без конца, где нет ни росы, ни источника. Вверху незаходящее солнце, внизу волны песков и ничего, ничего больше. Эта любовь, быстро возникшая, отталкиваемая, побеждаемая должна была навсегда остаться в сердце, невидимая взору, ничем не обрадованная, никогда не утешенная.
И это страдание было счастьем для бедной сиротки; любить хоть без рассвета и будущего – уже большая отрада на земле. Это сосуд, полный горечи, из которого с наслаждением пьет жаждущий; он выпил бы яду, томимый палящим зноем.
Так любила в тишине Мария, вся жизнь которой была жаждой – без капли росы, без прохлады.
Минуло полгода. Но какие же успехи сделало чувство в двух, нет в трех сердцах, издалека бившихся друг для друга? Не знаю, занимались ли когда психологи развитием страсти, предмет которой далек глазам телесным, а близок только душевному взору. А между тем, здесь появляются особенные симптомы. Все, что сеем на свете, растет гигантски. И предмет привязанности идеализируется в нас, окрыляется и часто, когда потом увидим его наяву, удивляемся, что он стал не так хорош, как прежде. Нередко бывает опасна встреча двум влюбленным после долгой разлуки, во время которой они видели только очами души друг друга. Кто же может сравняться с идеалом?
Изгнанник, который несколько десятков лет хранил в сердце образ родимого уголка, находит все малым, пустынным по возвращении. И влюбленный часто после годовой разлуки, украсив милую всеми возможными совершенствами в области фантазии, удивляется, не находя в ней того, что ожидал увидеть.
И сколько раз это случается с людьми на белом свете! Грустное разочарование продолжается только минуту; идеал бледнеет, исчезает, сравнение становится невозможным – и снова мы довольны действительностью.
Но что за огромная, что за светлая жизнь – в душе человека! Запавшее в нее зерно – каким золотистым красуется колосом, посеянная мысль, как зыблется цветисто и роскошно! Что же значит земля со своей красивейшей действительностью – перед неземным идеалом?
Никто не отдаст себе отчета в боязни, обнимающей человека, когда он веселый, счастливый переступает порог, приветствуемый со слезами: он боится и не знает, что ему страшно то, чтобы золотистый идеал души его не рассыпался вдребезги.
Был морозный вечер – блистающий снегом и светом месяца – одной из тех зим, которые, наступив за жарким летом, как бы напоминают нам, что мы жители севера. На темном небе – сияющий месяц, мерцающие звезды и млечный путь, подобный серебристому флеру какого-то скрывающегося божества. На земле сугробы белого снега, кое-где подымающиеся странными стенами по дорогам. Земля кажется огромным кладбищем в глухом молчании. На белом саване, как крест на могиле, кое-где торчит черное дерево, поясом лежит темный лес, подымается серое строение, мелькает снеговая пыль, лоснится укатанная дорога.
Не дрожал ли ты, читатель, во время ночного пути зимой в пустом краю, при виде природы, кажущейся безжизненной?
Этот блеск снега и неба, эти молчаливые, мерцающие со всех сторон огоньки кажутся глазами духов, стерегущих могилы. И только слышен однообразный скрип саней, шелест сухих веток и грустный шум ветра. Печальные мысли пробегают в голове и гнездятся в измученном сердце. Кажется, что природа не в состоянии уже освободиться с новой весной из этих оков смерти.
Небольшие санки скрипели по замерзшему снегу и быстро продвигались к освещенному дому. В конце длинной аллеи блистали окна Домбровы. Двор был полон людей и шуму; множество экипажей подъезжало к крыльцу. В сенях толпились слуги.
1-го февраля Старостина давала вечер, на который приглашены были все соседи. У двери гостиной стояли Юлия и Мария, обе в белых платья с розовыми лентами; но под этими белыми платьями два сердца бились нетерпением, ожиданием, неуверенностью, надеждой. Юлия каждую минуту шептала на ухо Марии:
– Приедет ли он, милая Мария?
– Не знаю, душа моя.
И каждый раз, как отворялась дверь, голубые и черные лаза были устремлены на нее.
Обе девушки не позабыли Яна. Полгода жил он в душе их, и любовь возрастала в разлуке, каждый день развивалась быстрее. Юлия была упоена ей, роскошно мечтала, верила в будущее, Мария питалась ей, чтобы умереть без надежды и бледнела, делалась печальнее. А обе любили. Одна более головою, другая более сердцем, – обе страстно и обе навеки. По крайней мере, они так думали. Но одна из них не скрывала чувства, делилась мыслями; другая жила в себе самой и ждала, что скоро придет смерть и освобождение. Если бы он даже и любил Марию, могла ли она за его чистую любовь отдать ему опозоренное существо, запятнанное дыханием преступления, поцелуем разврата?
Еще Юлия не закончила вопроса, на который Мария не успела ответить, как Ян тихо вошел в залу с дубовым листочком на фраке, так искусно приколотым, что его край был похож на орденскую ленточку св. Губерта.
Юлия покраснела как роза, кровь ударила ей в голову, быстро забилось сердце. Мария побледнела и почувствовала, что у нее стесняется дыхание.
Ян остановился перед ними.
– Сегодня первое февраля, – сказал он, кланяясь.
– Благодарю за исполнение обещания.
– А вот и зелень, – прибавил он, указывая на убогий листок, – но я не виноват, что, несмотря на всевозможные старания, она почернела. Все ли так изменилось?
– Листья не люди, – отвечала Юлия.
– Не часто ли сохраняют листья зелень долее, чем люди постоянство?
– Идите же, поздоровайтесь с бабушкой.
Старостина, для глаз и сердца которой не было тайны, скорей угадала, нежели узнала Яна и приняла его приветливо, расспросив об отце, о путешествии.
Едва отошел он от старушки, как лицом к лицу встретился с председателем. В обществе председатель немного остерегался, чтобы не наделать глупостей, тем более что он узнал Яна еще при входе и имел время придти в себя, однако, при встрече с ним, он подался назад, стуча своей тростью, грозно посмотрел на молодого человека, сжал синие губы и ушел, пожимая плечами.
Ян только ему поклонился.
Не станем описывать ни того вечера, ни мазурки, в которой Ян покорил все женское и часть мужского общества, ни отрывистого разговора его с Юлией и Марией. Скажем только, что Юлия, следуя влечению сердца и не думая еще об испытаниях, видимо, отличила Яна от всех окружающих, так что это было очень заметно.
В самом деле он этого заслуживал не только замечательной наружностью, но свободой обращения, остроумием, ловкостью, одним словом, всем, что украшает молодого человека. Наиболее ему завидовавшие не могли и не смели ни в чем его упрекнуть. Все удивлялись, что молодой человек без состояния мог получить такое прекрасное образование, тон, такт приличия и ту смелость, которая дается в свете или высоким умом, или огромным богатством.
– Черт его знает, – говорил председатель, грызя шарик на трости, – откуда это все у него набралось? Сволочь, а осанка благородна! И этот господинчик так в себе уверен, как будто еще делает милость, что сюда приехал. А явился вероятно на мужицких санках, в сером тулупе!
– Извините, – прервал его Казимир, молодой родственник подкоморной, поправляя жилет, который был на нем во время уездного бала, – мы входили с ним вместе. Он приехал на паре отличных каретных лошадей, в черной шубе – какой я еще не видывал.
– Разве где украл, или занял, потому что это нищие!
– Что-то непохоже на нищего!
Кто-то заметил, что костюм Яна, хотя не бросался в глаза, однако, был так изыскан и хорош, что в нем можно показаться хоть в Париже.
Председатель бесился.
Подкоморная еще нерешительно, однако, допускала, что если Матильда со своими расстроенными нервами не постареет; ее недурно бы выдать за Яна.
Молодежь удивительно как склонна к товариществу, и Ян легко сошелся и познакомился с нею. Все к концу вечера уже подавали ему руки, как старому знакомому, потому что Ян не был одним из тех франтов, которые в парижских перчатках, заложа палец за жилет, прохаживаются по зале, но умел понять каждого, сойтись, сдружиться. Он был весел, оттого что счастлив, и скоро стал душой общества и принял на себя распоряжение увеселениями. Удивительно, что никто ему не завидовал, но все помогали.
Веселый вечер пролетел незаметно. Уже рассветало, а это в феврале бывает в шестом часу, когда гости начали разъезжаться.
Все молодые люди по очереди прощались с Дарским, повторяя почти одно и то же:
– Не забудь меня, брат, и полюби, если можно.
– Прощай, Дарский, и помни, что с сегодняшнего дня мы неразлучны.
Чем же он увлек их?
Прежде всего сердцем, биению которого всегда отвечают другие, простотой, искренностью; а когда во время отдыха молодые люди ушли выпить рюмку вина и покурить сигары, когда пылкие мысли начали пениться и литься вместе с шампанским, каждое слово Яна, которым выражал он что-нибудь прекрасное и благородное, находило отзыв и сочувствие в груди молодежи.
Часто один подобный вечер сводит на всю жизнь приятелей. В том увлечении живется быстро: кровь, мысль, дружба, любовь – стремятся поспешнее. Что же удивительного, если через шесть часов увлекательного веселья, молодежь знакомится, как старики через год.
В быстром, каждый миг прерываемом и вновь начинаемом разговоре увлеченные восторженностью, понятною среди шума, движения, говора в музыки, Ян с Юлией сказали друг другу больше, нежели когда-нибудь.
Ян почти уже не видел Марии.
А Мария сидела в отдалении, танцевала как бы по приказу, двигаясь, словно тень по паркету, и мечтала, изредка только обнимая взором двух счастливцев.
И ее окружала молодежь, и ей шептали слова, приятной му-зыкоц которые раздаются в ушах женщины; но для нее то был шелест ветвей, шум воды, ничего больше. Сердце ее было в отсутствии.
– Панна Мария влюблена, или нездорова, – говорили иные.
– Она всегда одинакова, – толковали другие.
– У нее чахотка, – отозвался кто-то.
– Она больше походит на чахоточную, нежели панна Матильда, которая напрасно сентиментальным кашлем хочет приманить жениха к дородным своим прелестям. Не надует!
Рассветало. Надо было ехать. Ян попрощался с Юлией, которая тихо спросила его:
– Конечно, мы увидимся?
– Разве может быть иначе?
Отправляясь в Домброву вечером и не рассчитав, что придется ехать назад уже днем, Ян взял чудесные петербургские санки и пару отличных лошадей, что могло открыть тайну его состояния. Юлия стояла у окна при его отъезде, видела и экипаж, и прекрасно одетых людей, и Яна, который должен был ей поклониться, и, зная о бедности Дарских, не могла понять, что все это значило. Упряжь и лошади заинтересовали всех до того, что оставшиеся мужчины долго еще о них рассуждали.
– Это остатки их прежнего хорошего состояния, – отозвалась подкоморная, которая начинала о чем-то догадываться, но имея дочь невесту, не слишком располагала делиться своими догадками. Ей пришло на мысль, что лет за пять разнеслась было весть о большом наследстве, доставшемся Дарским; но как старик не покинул своего угла и не переменил образа жизни, то все сочли басней это известие.
Ян, мечтательный и счастливый, возвратился домой.
Юлия, сжимая рукой горячую голову, упала на кровать в своей комнате.
Мария молилась.
Около полудня Старостина прислала за Юлией. Внучка застала ее грустной и задумчивой: от нее только что вышел председатель.
При виде Юлии расплакалась старушка.
– А, снова этот несносный председатель! – сказала Юлия. – Клянусь, что это последний раз, бабушка.
– Дитя мое, не приводи меня в отчаяние!
– Бабушка!
И она стала на колени.
– Умоляю вас согласиться на мою просьбу.
– Ты знаешь, как я тебя люблю, знаешь мою слабость, если что тебя касается; не проси же о том, что может меня потревожить.
– Нет, только о том, чего требует ваше и мое достоинство. Откажемся от духовной председателя и его имения, освободимся раз и навсегда от этих беспрестанных угроз, унижающих нас.
– Что же нам делать?
– Разве бедность так ужасна? Нам останется еще Домброва и довольно. Вам – ни в чем не будет недостатка, жизнь ваша не изменится ни на волос, а мне богатства не нужно. Оно мне отравляет жизнь. Могу ли я быть уверена в привязанности, пока мне будет казаться, что любят не меня, а мое состояние?
– Ты не знаешь, что говоришь.
– Бабушка! – настойчиво со слезами сказала Юлия. – Если меня любите, умоляю вас об этом. Я знаю, как несносны вам обращение и владычество здесь председателя, вы терпите это для меня, а я сношу для вас только. Будучи свободна располагать собой, я в одно мгновение отреклась бы от его угроз и записи. Сделайте это для меня.
– Да, правда – мы были бы свободны.
– Итак, вы согласны?
– И ты бы от всего отказалась?
– С радостью, с восторгом, с благодарностью!
– Но что же нам делать?
– Я скажу ему.
– Дитя! Ты оскорбишь его смертельно.
– Как люблю вас, бабушка, а это для меня важнейшая клятва, уверяю вас, что буду вежлива и благоразумна. Окончим одним разом это невыносимое положение.
– Ты сама желаешь этого? И не страшишься?
– Чего?
– Бедности.
– О, это счастье! Мы узнаем, кто любит нас искренно, а бедность, если нам останется наша милая Домброва с садом и цветами, блаженство.
И Юлия, свободная, веселая, распевая, побежала искать председателя. Старушка молилась и плакала, упрекая себя, что так скоро позволила отказаться от огромного состояния. К счастью, в молитвеннике раскрыла она место, которое утешило ее в настоящем положении.
В то время Юлия шла в гостиную, где председатель, желтый, злой, сварливый читал газету и давился булкой с кофе. Девушка села против него. Он измерил ее суровым взором.
– Натанцевалась?
– Мы чудесно повеселились. И я вполне была бы счастлива, если бы не видела бабушку третий день постоянно в слезах.
Председатель пожал плечами.
– Кто же виноват, что она плачет?
– Не знаю, но знаю то, что слезы ее огнем падают мне на душу.
– Ты прекрасно говоришь. Старайся же утешить бабушку.
– Я только и думаю о том, как бы навсегда осушить ее слезы. Председатель проворчал что-то.
– Ну и ты нашла средство? – спросил он.
– Кажется.
– Любопытно знать.
Юлия молчала, не желая начинать первая.
– Тебе весело на свете, желательно, чтобы и старшие разделяли эту веселость.
– Отчего же и мне и им не веселиться?
– Конечно.
Снова минутное молчание. Председатель, который гневался на Дарского и заметил, как он всем понравился на вечере, как ухаживал за Юлией, стал его сильнее ненавидеть и не мог выдержать долее.
– Зачем здесь вертится этот Дарский? – спросил он.
– Что вы говорите?
– Как будто не слышишь?
– Слышу, но понять не могу. Бабушка его принимает, кто же может запретить ему бывать у нас в доме?
– Кто? А если бы я?
– А позвольте спросить, по какому праву?
– По какому праву? Прошу покорно! И он застучал тростью.
– Не думаешь ли ты спорить со мной о правах? Тысяча чертей. Ты кажется знаешь, что все, что у тебя есть, это по моей милости, все что иметь можешь, мне принадлежит.
– Пусть же оно и останется вашим! Знаю, что все имение, кроме Добровы, заложено вам за долги покойным дедом, знаю, что моим огромным состоянием, о котором вы столько говорите, я была бы вам обязана; но если за ваши милости бабушка должна платить слезами, а я неволей, мы отрекаемся от всего охотно.
Председатель остолбенел и не нашел слов на первых порах.
– Хорошо. Превосходно! – закричал он, быстро вставая и опрокидывая стол, кресла, чашки: – Хорошо! Я расскажу это Старостине.
– Старостина знает и соглашается.
Невозможно описать гнева, бешенства, злобы человека, который привык деспотически управлять окружающими, с уверенностью, что с богатством своим он может распоряжаться так, как ему угодно.








