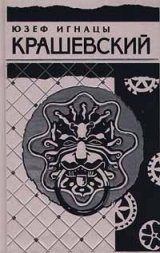
Текст книги "Осторожнее с огнем"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Слушал я вас с чувством, – отвечал Ян тихо. – Все,что вы говорите – истина, но вы больше угадываете, нежели знаете настоящий свет, потому что никогда не хотели посмотреть на него.
– Так, но ты знаешь и то, что я не сижу праздным в своем уединении; глаза мне служат, а книга никогда не наскучит. В ваших книгах прекрасно обрисовывают свет, не в то время, когда желают достигнуть этой цели, но тогда, когда о том и не помышляют. Люблю коня, собак, свежий воздух, деятельную жизнь, но должно же питать и душу; иначе мы были бы животными. Знаю ваш свет, и оттого он мне не любопытен. Хотя теперь наш старопольский и унижают, и некстати прикрашивают, однако, он был гораздо достойнее потому, что в нем обитал дух Христа Спасителя. Преступления были, как всегда и везде, но общее направление, дух века по вашему – дышало верой, братством, надеждой… Теперь много слов, а искренности мало; каждый говорит, а никто не исполняет. Боюсь за вас: пока придет хорошее, много должны вы еще будете вытерпеть.
Старик помолчал немного.
– Ну, расскажи мне что-нибудь побольше о той прекрасной девушке, которая на беду так заняла тебя.
– Что же я расскажу еще? Она хороша, обе они хороши. Умна, словоохотлива.
– Это еще немного.
– Но если бы вы знали, как она очаровательна!
– Сказал бы тебе кое-что, да ведь ты рассердишься.
– На вас?!
– Ну, прости же старику. Есть два рода женщин, и древние язычники, у которых было много толку, хотя случались и промахи, искусно их разделили. Стеречь свой домашний очаг римлянин искал матроны скромной, трудолюбивой, домоседки, на гробу которой мог бы написать: пряла шерсть, стерегла огонь. Но если дело шло о сладострастии, приправленном аттической солью, красотой, очаровательной грацией, тогда тот же римлянин шел в домики к своим Лаисам, Аспазиям. Ни один из них, однако ж, не женился на Аспазии, Фрине или Сафо. Верь, что наиостроумнейшие женщины, к которым так и льнет сердце – самые опасные творения на свете. Им беспрестанно необходимы шум, блеск, суета, новые моды, новые чувства. Скажи же, как после этого жениться на подобной особе?
Ян молчал.
– Никто, – продолжал старик, – не посмотрит на тихую, скромную, удаляющуюся от света женщину, а это-то и суть алмаза, которым цены не знают. Вероятно, ты слыхал, что алмаз, когда его промывают из песка и грязи, не представляет ничего особенного, а он украшение короны; между тем, как дрянной камешек иногда блестит словно что хорошее. Так и с женщинами.
– Неужели всегда?
– Конечно, не всегда, но трудно попасть на исключение, а рассчитывать на это счастье – значит, искушать Господа Бога. Однако пора домой, – сказал старик, подымаясь с камня. – Вижу Доротея и Каспара, которые понесли мне миску супу через сени; иначе не шли бы они с огнем через мою комнату.
Сказав это, старик выпрямился, и они с Яном спустились в молчании в глубину оврага. Ян хотел подать руку отцу, но тот отказался.
– Что это, ты считаешь меня калекой?
– Однако, ночью…
– Разве же я здесь не знаю каждой песчинки? Прежде ты, брат, спотыкнешься, а мне еще, слава Богу, ноги служат помаленьку.
Так разговаривая, перешли они овраг и взобрались к дому, по крутой с перилами тропинке. Привыкнувший старик даже не запыхался, несмотря на то, что подъем был довольно труден. На дворе встретили они Каспара, который шел звать их ужинать.
Небольшой, коренастый, с узким лбом, растрепанным чубом, широкоплечий, с длинными руками и отвислыми губами, Каспар имел весьма непривлекательную наружность. Но не было слуги ему подобного: первым качеством его было то, что желания господина всегда были его собственными желаниями. Всегда он угадывал его мысли, предупреждал желание, сообразовался со вкусом и мало того, что повиновался, но ему не нужно было приказаний.
Дарский никогда ему не распределял порядок дня, Каспар сам как-то безотчетно знал, что и когда следовало работать. Однако обречение это нисколько его не тяготило: он был счастлив, всегда весел, каждому рад и первый разведывал, если что случилось. Он оживлял собою весь небольшой двор и был его душой и головою.
Отец с сыном дошли до дому под предводительством этого знаменитого слуги, который, заложив за спину руки, шел рядом с господами. К удивлению, здесь встретили они чужого человека, подходившего к двери с запиской в руке.
– Откуда ты, любезный? – спросили почти одновременно Дарский и Каспар.
– Из Домбровы, пане, с запиской.
– Отведи же, Каспар, гостя в людскую и попотчуй, а я прочту письмо.
Старик так всегда принимал чужих и, хотя бы те приходили только на минуту, он приказывал их накормить, напоить и принять как следует. Каспар, зная обычай, взял посланного и, уже усмехаясь в искренней беседе с ним, вел его в людскую.
С любопытством отец и сын приблизились к свечке, и старик отдал письмо Яну, будучи уверен, что оно к нему адресовано, но отдал со вздохом. Потом задумчивый, сел он в свое кресло, наливая суп в простую глиняную тарелку.
Ян покраснел, читая письмо.
– Ну что тебе пишут? – спросил отец.
– Старостина…
– Как? Сама Старостина?
– Приглашает меня к себе.
– Большая честь! Черт возьми! – сказал старик, начиная спокойно есть свой суп. – Теперь, брат, пропал ты.
Ян снова поцеловал руку отца и сказал тихо:
– Вы позволите?
– Могу ли я что запрещать или позволять тебе? Ты не мальчишка, имеешь или должен иметь свой рассудок. Наконец, к чему служило бы запрещение? Не здесь, так в другом месте нашел бы, что любишь. Да сбудется воля Божия! Как отец, могу советовать, журить, даже плакать, но препятствовать никогда! Дай Бог, чтобы ты нашел счастье, которое там видишь и не зашел туда, куда не думаешь.
И когда Ян в волнении поспешно отвечал на письмо, старик ел свой суп и говорил:
– Ты не знал милой, доброй, но преждевременно умершей матери. Пошли тебе Бог подобную подругу жизни. А между тем, я не искал ее высоко: она была дочь трудолюбивых бедных людей. И теперь слезы навертываются, когда вспоминаю о ней, хотя уже прошло двадцать с лишним лет, как мы расстались.
Старик положил ложку и опустил голову.
– Расстались мы на время, но соединимся навеки. И если бы действительно была услышана моя молитва, я ни о чем бы не просил Бога, как о жене для Яна, подобной его матери.
– Отец мой, – сказал Ян с увлечением, – я так уважаю вас, так люблю, что если бы видел в женщине всевозможное блаженство, а вы приказали бы мне оставить ее, я оставил бы.
– Это уж слишком! Так тебе кажется и, наконец, в твои годы это слишком большая жертва. Что же ты отвечал, Ян?
– Что завтра приеду. Надо сегодня послать за лошадьми и экипажем в местечко.
– И сделаешь глупость. Никто ведь не знает здесь, что ты богат, не объявляй же о том, пока не спросят. Лгать – Боже сохрани! Но ручаюсь, что никто и не догадывается о твоем состоянии, а хвастать самому – не идет. Зачем тебе экипаж? Возьми серого, я дам новое седло.
– Но как же? Во фраке?
– А разве далеко?
– Против приличия!
– Не обращай на это внимания, смешного не будет ничего, а необыкновенное, лишь бы не смешное, не повредит тебе нисколько в глазах женщин.
– Как прикажете.
– Я от души тебе советую. И не упоминай о своем литовском имении. Уж если хочешь искать жены высоко, пусть же будет уверенность, что она истинно тебя любит. Коли примут, зная, что ты беден, ну, тогда это уж должно что-нибудь значить.
Отправили ответ, и Ян задумчивый, но веселый, присел за ужин. Каспар явился прислуживать.
– А гость? – спросил старик.
– Ушел, как только дали ответ; говорит, что ему приказано скорее возвратиться.
– Но ты его угостил?
– Как же, как же! Мы знаем приличия, как сказал кто-то… (Это была любимая поговорка Каспара.)
– Но расспрашивал посланный?
– Как же, как же! Но меня не скоро поймает на удочку, как сказал кто-то. Спрашивал, далеко ли живет паныч? А я отвечаю: о, далеко! – Что же распоряжается имением? – Кажется, – отвечал я. – И должно быть богат? – снова спрашивает. – А я на это: кто ж там знает, как сказал кто-то. Имение его очень далеко.
– Умно отвечал, Каспар, – сказал старик.
– А уж я не наговорю глупостей! – молвил слуга, переваливаясь на одну ногу с какой-то гордостью.
– А потом?
– А потом словно бы кто ему рот зашил, только две рюмки водки выпил.
– И закусил?
– Колбасой, а как же, колбасой!
– Ну, если он закусил, давай же и нам закусить чего-нибудь, – отозвался старик.
Каспар поспешил за другим блюдом, которое состояло из свежего картофеля.
Напрасно будем прибавлять, что Ян не ужинал: в его положении ничего не едят, разве по рассеянию.
Есть в жизни минуты, устрашающие человека, хотя он ничем не может объяснить себе этой боязни, смотря на нее издали. Не всегда вещее предчувствие потрясает сердце и заставляет приостановиться; иногда избыток надежды рождает боязнь, чтобы она не исчезла в одно мгновение. Голова идет кругом, немеют уста, глаза смотрят и ничего не видят, даже мысли, подобные птицам, над которыми кружится невидимый ястреб, и они машут в воздухе ослабевшими крыльями, падают.
Наиотважнейшие, обладающие присутствием духа не узнают себя в те критические периоды жизни; а когда после холодным взором посмотрят на предмет боязни, смеются над ним, как над ребячеством.
Волнуемый таким страхом, подъезжал Ян к Домброве. Он не мог отдать отчета в своей боязни; и хотя изъяснял себе, что страх был неразумным чувством, какой-то болезнью, ребячеством, однако, все боялся чего-то.
Мы возвратимся в комнату Старостины в то время, когда Юлия, утомленная и взволнованная прогулкой, присела на скамеечке у ног бабушки.
– Видишь, дитя мое, – говорила старушка, прикладывая руку к ее вискам, – как тебе кровь бьет в голову! Ты вся покраснела и так измучилась. Сколько раз я просила, чтобы ты не бегала. И Мария позволяет?
– Я говорила Юлии, просила.
– Но, милая бабушка, это мне нисколько не вредит.
– И, слава Богу, но может повредить. Умеренное движение полезно для здоровья, но такое усиленное…
– Когда же и бегать, бабушка, как не в мои годы!
– Умеренно.
– Этого я не понимаю, это уже стеснение.
– Вся жизнь неволя, дитя мое!
– Боже сохрани!
– Что же делать?
– Что? Не поддамся! – сказала Юлия, топая ножкой.
– Дитя, дитя!
– Однако, есть важная новость, бабушка! С нею-то я и летела к вам: тайна открыта.
– Какая тайна?
– А мой незнакомец?
– Твой?
– Наш, то есть мой и Марии.
– Я не признаю его своим, – прервала Мария, краснея.
– Когда мне нельзя сказать мой, должна же я говорить наш.
– И что же твой незнакомец?
– Знаю, кто он.
– Вероятно, что-нибудь неинтересное?
– Однако, милая бабушка, он сын того Дарского, о котором вы мне сами рассказывали.
– Сын Дарского? Я не знала, что у него есть сын.
– Он живет где-то в Литве и приехал только навестить отца. Видите ли, милая бабушка (говорила Юлия, добывая крепость приступом), он дал мне слово приехать к нам. Теперь дело в том, кто его представит? У него никого нет знакомых.
Старушка задумалась; видно было, что ей весьма не нравилось приглашение внучки.
– Как? – спросила она через некоторое время. – Он сам напрашивался на посещение?
– Нет, Боже сохрани! Я его пригласила.
– Ты? Ты, дитя мое?
– А что ж здесь дурного, бабушка? Он прекрасно образованный, любезный молодой человек, наш околоток так пустынен; ловлю кого можно.
Бабушка погрозила внучке.
– Смотри, – сказала она, – что он о тебе подумает?
– Подумает, что я приветлива.
– А если это какой-нибудь повеса, который возмечтает…
– Ничего он возмечтать не может. Не так я его звала к себе. Наконец, бабушка, вы исправите мое приглашение и напишите ему от себя.
– Я, душа моя?
– Да, и сегодня же.
– Этого я не сделаю.
– Почему?
– Мне неудобно.
– Напротив, бабушка. Дарские бедны, а облегчить бедному первый трудный шаг для его самолюбия – право, всегда следует. Если бы он был богат, я не говорю.
– Спрашивается, какая нам в нем нужда?
– Для чего людям – люди? Нам тоже нужно общество.
– Молодой человек… пойдут толки…
– Пусть себе толкуют, не стоит обращать внимания…
– Только не женщине.
– Тем-то и губят себя женщины, что близко принимают каждую болтовню. Мало ли пищи для языков!
– Сама не знаешь, что говоришь.
– Но вы напишете, бабушка?
– Нет, дитя мое, это было бы что-то, не знаю, кажется мне неприличное. Как будто бы мы хотели поймать его.
– Поймать! Разве же кто-нибудь о нас подумает подобным образом? Разве же мы в этом нуждаемся?
– А наконец, дитя мое, есть еще одна важная причина, по которой я не решаюсь принять у себя молодого Дарского.
– Какая же?
– Это не тайна, и я расскажу тебе. Дарские всегда были честными людьми, но своими странностями потеряли уважение в соседстве и совершенно удалились от общества. Когда они были богаты, презирали других, а обеднев, гордились снизойти к людям. Один раз только старик Дарский имел неприятность с одним из близких наших родных, и встреча эта оставила по себе память и непримиримую ненависть.
– С кем же это, бабушка?
– С председателем.
– С председателем?..
– Он и Дарский сошлись в доме одного бедного шляхтича, дочь которого нравилась обоим. Председатель тогда еще не был так богат, как теперь, но молод и влюблен смертельно. Дарский осмелился переступить ему дорогу и женился на той, кого твой опекун уже считал своею.
– Ха, ха, ха! Влюбленный председатель! Я этого никак, никак себе не могу представить!
– Он до того был привязан к девушке, что после никогда не женился, и ненависть к Дарским осталась ему на всю жизнь. Говорили даже, что он во многом способствовал упадку Дарских, и, если бы не его преследованья, старик мог бы выйти из затруднительного положения.
– Я никогда не слыхала о этом.
– Теперь видишь, что приглашать к себе молодого Дарского, без согласия председателя, значит раздувать едва погасший пламень. И так уже, видит Бог, не могу не жаловаться на твоего опекуна, что же будет, если подадим какую-нибудь явную причину к неудовольствию?
– Что же может быть, бабушка? Председатель станет ворчать по обычаю, грызть губы, злиться, а мы сделаем свое.
– И за это заплатим не одной неприятностью.
– Вы всего пугаетесь.
– Оттого, милая моя, что стара и много испытала.
– А все-таки напишем к Дарскому.
– Какая же ты упрямая!
– Как козленок? Не правда ли? Я пишу, бабушка подписывает, посылаем и дело кончено.
И Юлия так умела упросить старушку, что прежде чем стемнело, отослано было письмо в Яровину.
На другой день Ян подъезжал к Домброве в то время, когда бабушка отдыхала после постного обеда, а девицы, сидя в маленькой гостиной, читали вполголоса. Топот лошади заставил Юлию вздрогнуть, а Мария только побледнела и наклонила к пяльцам голову.
– Он, – сказала Юлия, а в это время Ян, бледнее обыкновенного, отворял дверь в гостиную.
– Тише, – вместо обычного приветствия шепнула Юлия, – бабушка спит. Садитесь!
И она указала ему на кресло возле себя.
– Вы приехали верхом?
– Как всегда.
– В такой жар?
– Я ко всему привык.
– В самом деле так должны бы ездить все мужчины. В мягкой коляске – им не к лицу. Благодарю вас от имени бабушки за посещение. Мы живем здесь уединенно, околоток наш пустынен.
– А мне напротив казалось, что здесь большое соседство.
– О, очень большое; но вы знаете, что значит соседство в деревне: одни не желают нас, других мы не желаем, третьим некогда, иных бы мы и хотели принимать, да боимся.
– К которой же из этих категорий вы причисляете меня?
– Ни к одной, потому что вы не из числа наших соседей.
– И очень жалею, что лишен этого удовольствия.
– Пустая вежливость, за которую благодарю. Я не люблю комплиментов. Люди угощают ими друг друга словно детей конфетами, но это не накормит. Однако, я слышу, бабушка пробуждается, побегу предупредить ее и пойдем к ней. Marie, занимай господина Дарского.
Бледная Мария подняла свою голову.
Юлии уж не было, и Ян не знал как начать разговор с молчаливой, грустной девушкой. К счастью, везде было множество цветов и, естественно, они могли служить темой для разговора.
– Домброва настоящий рассадник цветов, – сказал он. – Какое их изобилие и какие все прекрасные!
– Бабушка и Юлия страстно любят цветы, – тихо отвечала Мария.
– А вы?
– И я люблю; но Юлия до безумия привязана к своим питомцам. Для нее цветок имеет больше значения, нежели для всех нас.
– Я предпочитаю собственно цветы нашего края.
– И она их пересаживает, лелеет и предпочитает заграничным, за которыми надо смотреть, чтобы их не повредил ни ветер, ни холод, ни малейшее изменение погоды.
– Видно, что в Домброве их очень любят. Вся она в цветах, как в венке.
Закончился ничего не значащий разговор, сопровождаемый взорами, имевшими гораздо большее значение, и, опираясь на Юлию, с кроткой улыбкой вошла Старостина.
– Господин Дарский? – спросила она.
– Очень счастлив, что могу поблагодарить вас за внимание и ласку к незнакомцу. Чужой в этом краю, теперь я унесу отсюда самое приятное воспоминание о приеме, которого не заслужил, надеяться на который не имел права.
– Прошу садиться. Давно в наших местах?
– Несколько недель, а теперь на выезде.
– Как? Вы оставляете старика отца?
– Я скоро возвращусь к нему, но теперь некоторые обязанности отзывают меня в Литву.
– Жаль, а мои девицы рассчитывали на вас, как на танцора на осень и зиму.
– Кто знает, может быть я оправдаю этот расчет.
– Возвращайтесь! У нас приятно проводят время. Послышался стук экипажа.
– Кто-то приехал? – удивилась старушка. Юлия взглянула в окно.
– Пани подкоморная. Чудесно! Она еще не знает, кто вы, – сказала Юлия Дарскому и побежала к двери, в которую уже входила достойная родственница в сопровождении Матильды, державшей в одной руке лорнетку, в другой флакончик.
Следует знать, что Тися имела слабые глаза, слабую грудь, слабые нервы и была больна чем-то в роде меланхолии, страдала недугом, которым хворают все барышни, не имеющие возможность выйти замуж.
С год уже покашливала она, предчувствуя чахотку, хотя наружность имела здоровую, даже слишком, несмотря на уксус, который пила и за который доставалось ей от матери.
Подкоморная осмотрела гостиную, увидела Яна и, едва поприветствовав Старостину, обратилась к нему:
– А, вы здесь? Значит тайна открыта!
Юлия не допустила бабушку представить гостя.
– Однако, заклад продолжается, – проговорила она.
– Признаю себя побежденной.
– Господин Дарский, – сказала Старостина. Подкоморная, никак не ожидая услышать эту фамилию, довольно холодно поклонилась, сжимая губы и прибавила:
– Я должна была бы догадаться.
Пошли обычные вопросы: где живете и т. п. Потом Матильда обратилась к Марии, представляясь необыкновенно легкой и воздушной, начала целовать и обнимать ее с нервическим восторгом, шептать ей что-то на ухо. Подкоморная села возле старушки, а Юлия разговаривала с Яном.
Взор Юлии, которому ничто не могло противиться, насквозь пронзал Яна, который чувствовал уже себя так очарованным, так увлеченным, что позабыл о целом свете.
Какие-то неизвестные миры, непонятные счастья, неизмеримые глубины неземного блаженства видел Ян в голубых глазах, которые говорили ему намного выразительнее слов, обещали ему рай.
Уста Юлии, насмешливо улыбающиеся, произносящие смелые и остроумные речи, поражали Яна противоположностью выражения с чудными ее глазами.
Он смотрел и сходил с ума.
Беседа, усиливаемая взглядами, зажигалась, пламенела, чем далее обнимала больше пространства, не касалась земли. Юлия также забыла, что на нее смотрели – бабушка, подкоморная и Матильда, которая при слабости нервов имела страшную охоту к сплетням.
Надо было отозвать неосторожное дитя, но благоразумно, при удобном случае.
Юлия говорила в душе: буду любить его! А когда женщина говорит себе самой – буду любить! – уже любит. Если обещает другим теми же словами – значит любить не будет.
Юлия исполняла какое-то поручение бабушки, как снова послышался стук экипажа и почти в ту же минуту отворилась дверь гостиной.
Опираясь на палку, вошел немного хромой старик, тощий, сгорбленный, одетый бедно или скорее неопрятно и скряжнически. Лицо его устрашало выражение нескрываемой ненависти и гнева.
Желтый, в морщинах, с большими черными глазами, блистающими диким огнем, с устами, которые с тех пор как выпали зубы, как-то страннее начали выражать гордость и презрение, с большими ушами, с плешивой головой, опоясанной клочками оставшихся волос, подошел этот необыкновенный гость к Старостине, оглядываясь вокруг смело и сурово. Неохотно поцеловал он ей руку, будто бы улыбнулся Юлии, с удивлением измерил взором Яна и развалился в кресле спиною к молодому человеку.
– Чертовски тряская дорога от меня в Домброву! – сказал он, потирая лоб рукою.
Все молчали; всех как бы оледенил приезд председателя, опекуна Юлии. Меньше всех, однако ж, поражена была Юлия, которая, в отплату за его невежливость, смело подошла к Яну и просила его на балкон, где приготовляли уже чай, куда также должны были идти Мария и Матильда.
– Кто это? – спросил он тихо.
– Мой опекун – председатель.
– Председатель! – сказал Ян, изменяясь в лице, что не скрылось от Юлии. – Ваш опекун?
– Да, родственник и опекун.
Едва молодежь вышла на балкон, как председатель, указывая на Яна, спросил у Старостины:
– А это же кто?
– Ян Дарский, – робко и почти дрожа, отвечала старушка.
– Дарский! – сказал опекун, подымаясь с кресла. – Сын… сын…
Глаза его сверкали, он дрожа сжимал губы.
– Сын того?..
– Сын знакомого председателю.
– Да, знакомого – врага! Что же он здесь делает?
– Юлия познакомилась с ним… на бале, и мы, то есть я, пригласила его.
– Зачем? – спросил, усмехаясь председатель. – Для чего?
– Полагаю, что я могу принимать кого мне угодно, – отвечала оскорбленная старушка.
– Конечно! Конечно! Увидим! Дарский! – ворчал он, дрожа и стуча палкой. – Увидим! Дарский! Голь! Мои враги!
Нахмурив брови, пожелтев еще больше, вертя шапку, лежавшую на коленях, бормоча что-то, сидел он, устремив глаза на балкон.
– Пригласили, но я его выпровожу!
Последней фразы не слыхала старушка, потому что начала разговор с подкоморной. Через минуту председатель, словно ему пришла какая-нибудь дикая мысль в голову, быстро схватился с кресла и, позабыв опереться на палку, заложив руки за спину, пошел на балкон. Проковыляв два или три раза вдоль балкона, с глазами, постоянно устремленными на Яна, как бы пожирая его взорами, председатель остановился против молодого человека в насмешливом молчании, но отошел, видя что это не действовало на Яна.
– Кажется, – сказал Ян, обращаясь к Юлии, – я не пришелся по вкусу этому господину.
Председатель услышал произнесенное довольно громко замечание.
– Вы не ошиблись! – грубо ответил он.
Ян поклонился.
– Будьте добры, представьте меня, – проговорил он Юлии.
– Господин Ян Дарский! – смело произнесла девушка.
– Я знаю об этом! – гневно отвечал председатель и отворотился.
Очевидно, он хотел унизить, выгнать гостя, но не решался.
– Не угодно ли вам погулять в саду? – предложил он, дрожа, молодому человеку.
– Весьма охотно, – отвечал Ян.
Юлия, умоляя, посмотрела на него, молодой человек одним взглядом успокоил ее. Он имел уже то преимущество перед опекуном, что был хладнокровен и владел собою, между тем, как тот, раздраженный воспоминанием, пламенел гневом и ненавистью. Медленно сошли они по ступенькам.
– Вы здесь зачем? – гордо спросил председатель.
– Я могу предложить вам подобный же вопрос, – сказал Ян вежливо.
– Как? Я? Родственник и опекун! И вы осмеливаетесь.
– Я сосед и гость и не думаю, чтобы в обязанности опекуна входила невежливость с гостями.
– Вы знаете, кто я?
– С каждой минутой узнаю больше и больше.
– А знаете вы прошедшее?
– Конечно, вашу вражду к моему отцу?
– Вражду? Нет – ненависть, жажду мщения, отвращение!
– Что же я скажу на это? Не думаю, однако ж, что бы мой отец, будучи истинным христианином, мог сохранять ненависть в сердце и жажду мщения.
– Я погубил его.
– Но отец мой вовсе не погиб.
– Я довел его до нищеты.
– У отца есть довольно для себя и для меня – больше нам не нужно. Что же касается до участия вашего в разорении моего отца, то восхваляться этим неблагородно. Притом же отец мой обеднел не по вашей милости, но от пожертвований, которыми может гордиться.
– Мы ненавидим друг друга. Это дом моих родных, дом особы, вверенной моей опеке, и я не желаю терпеть здесь ваше присутствие.
Говоря это, он застучал палкой, и думая, что устрашил молодого человека, приблизился на полшага к нему.
– Я приехал по приглашению Старостины, и мне кажется, никто кроме нее не имеет права удалить меня отсюда. И потому я остаюсь.
– Остаетесь?
Председатель бледнел, стучал палкой и дрожал от гнева.
– И я не имею права удалить вас отсюда?
– Кажется, что так.
– Один из нас должен, однако ж, удалиться.
– Предоставляю это вам, но я останусь до тех пор, пока мне угодно.
– Милостивый государь! Вы употребляете во зло мое терпение.
– Господин председатель! Вы забываетесь против тех, у кого вы находитесь, забываетесь против самого себя.
– Вы меня учите?
– Только предостерегаю.
– Говорю еще раз – я не хочу, чтобы вы здесь бывали!
– Согласен, если только Старостина повторит мне это.
Председатель пришел в бешенство и быстро отправился в сад, прихрамывая. Ян возвратился на балкон не без следов волнения на лице. Юлия, не слыша всего разговора, но догадываясь о его содержании, с трепетом разливала чай. Увидев Яна, она взглянула на него, но как взглянула! За один подобный взгляд можно вытерпеть вечные муки ада. Старостина, чувствуя себя немного нездоровой, удалилась в свою комнату, а подкоморная вышла на балкон к чаю.
Председатель бегал по саду, хромая и сгрызая остатки черных и желтых зубов своих.
Ян, словно после битвы, отдыхал в хаосе мыслей; все, что сбылось с ним, казалось ему какой-то грезой. Не мог он принудить себя улыбнуться, вмешаться в разговор, в общество; был как убитый. Только взор Юлии постепенно оживлял его.
– Что же мне делать? – говорил он сам себе. – Оставить этот дом? Ее? Отказаться? Не могу – уже поздно. Но что в будущем! Что за мучения! Сколько надо вытерпеть! Все для нее… Достанет ли у меня силы?..
– Подвигайтесь к столу, – сказала ему Юлия – не хмурьтесь! Разве хорошо быть грустным между нами?
– Грусть – непрошеный и неожиданный гость, который приходит и занимает место там, где его меньше всего ожидают.
– Не принимать его!
– Бедные гости! – шепнул Ян, придвигаясь к столику. – Их выгоняют, а им так бы хотелось остаться.
Одна только Юлия слышала эту фразу, сказанную вполголоса и не смогла ответить на нее. Подкоморная вмешалась в разговор и начала расспрашивать Яна об отце, хотя близком соседе, но которого она никогда не видала. Сын с любовью очертил спокойный быт старика, который, ни о чем не жалея, трудился с молитвой, утешал других и ожидал смерти, как желанной минуты соединения с давно утраченным другом.
Слезы навернулись ему на глаза. Юлия их не заметила, но не скрылись они от Марии, и у ней также две слезы блеснули на ресницах.
Ян видел эти слезы сочувствия, и что-то встревожило его сердце, снова непонятное чувство влекло его к Марии. Но это продолжалось недолго: на него смотрела Юлия.
Завязался общий разговор.
– Вы мне позволите еще приехать? – спросил Ян у Юлии, пользуясь шумом.
– Я же сама вас приглашала. Притворство не в моем характере – я искренна.
– А председатель?
– Мы можем не обращать внимания на его странности.
– Значит, приезжать?
– Когда вы оставляете наши края? – громко спросила Юлия.
– Не знаю еще сам… Неужели и вы меня удаляете? – спросил он тише.
– Я хотела уговорить вас остаться у отца, которого вы так любите.
– Есть у меня еще и другие обязанности.
– Жаль, – вмешалась подкоморная, – мы рассчитывали на вас, как на танцора!
– Я мало танцую.
– В самом деле?
– А кто не танцует, какая же в нем польза в обществе молодежи?
– Известно, – отвечала Юлия, – держит шаль, стережет кресла, флаконы.
– На последнее охотно соглашаюсь.
– А обладаете ли вы необходимыми для этого качествами: терпением, твердостью и мужеством?
– Это добродетели, которым я старался прилежно выучиться.
– Терпение? – сказала Юлия.
– Пусть испытают меня.
– Твердость?
– То же долгое терпение.
– Мужество?
– Есть многое, чего я боюсь.
– Например?
– О, многовато! Долго бы считать было.
– Первое?
– Людской ненависти.
– А терпенье?
– Пособит ли?
– Терпенье и мужество ходят рука об руку с кротостью, которая означает силу.
– Прекрасно вы говорите. Хороший учитель часто может внушить добродетели, которых человек не имеет.
Эта часть разговора была уже тише, потому что подкоморная начала что-то о бале, а Ян с Юлией продолжали беседовать, не будучи подслушанными.
– Хотите быть моим наставником? – спросил Ян тихо.
– C'est selon; прежде я должна знать качества моего ученика.
– Неограниченное повиновение, безусловная вера в учителя и что-то еще больше.
– Что же больше?
– Боюсь сказать.
– О, значит, вы немужественны.
– Я же признался, что боюсь некоторых обстоятельств.
– Но разве что-нибудь страшное?
– Вы догадаетесь.
– Я очень недогадлива.
Разговор этот прервала подкоморная, спросив Юлию, обратила ли она внимание на платье стряпчихи, подобранное под цвет мужниного мундира.
– А между тем стряпчиха, – прибавила она, – кружит головы всем чиновникам особых поручений.
Ян, чувствуя себя не в состоянии оставаться долее, взял фуражку и попрощался, прося Юлию извинить его перед Старостиной. Последний взор Юлии уничтожил молодого человека.
Мария не смела даже поднять глаз на него.
Вскоре раздался топот лошади. Председатель, ходивший недалеко, показался из-за деревьев и поспешил на балкон. Здесь он сел возле Юлии, налил себе чаю и, обводя вокруг гневными взорами, молча ел и пил с жадностью.
Окончив это занятие, он посмотрел на часы и сделал гримасу.
– А Старостина? – спросил он.
– Отдыхает, немного нездорова.
– Мне надо с ней видеться.
– Сомневаюсь, чтобы теперь было можно.
– Подожду.
Разговор прекратился, и даже болтливая подкоморная не смела продолжать его в присутствии ледовитого председателя. Только девушки шептались между собою. Раздался колокольчик у Старостины. Юлия побежала к ней и скоро возвратилась.
– Бабушка вас ожидает, – сказала она председателю.
Старик встал, окинул взором девушку и вышел. Старостина, по обычаю, сидела в своем кресле, и, оправясь от замешательства, причиной которого было невежливое обращение председателя с Дарским, ожидала возвещенного гостя. Председатель вошел и сел напротив.
– Я весь взволнован, – начал он, немного погодя. – Никак не ожидал встретить здесь этого дуралея.
– К чему такая горячность?
– Разве вы не знаете, как я их ненавижу?
– Пора бы позабыть.
– Никогда не забуду.
– Нехорошо, не по-христиански.
– Как есть, так и есть и так быть должно. А я прошу вас, чтобы он не бывал здесь больше.








