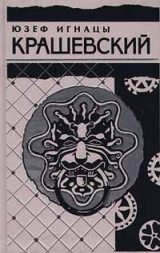
Текст книги "Уляна"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
XIV
У Тадеуша были родные, знакомые и приятели, от которых он совершенно оторвался, закупорившись в деревне. Он ни у кого и у него никто не бывал. Двор порос травой, сам помещик забыл прежний свет, в котором жил. Из щеголеватого, веселого юноши стал он печальным пустынником и для Уляны огрубел и заржавел.
Уже не раз будущность начинала казаться ему тяжкою и печальною, уже часто убегал он от Уляны и блуждал по берегу озера один, с своими мыслями. Иногда ночью мечтал он о прежней своей жизни, о приятелях, даже о неверной любовнице и вставал с бьющимся сердцем и вздыхал, но говорил самому себе:
– Чем же лучше и красивее женщины в том свете, который я для нее оставил? Больше только наряда, больше лжи. Которая же бы из них смогла бы так любить меня? Стоит ли плакать о них? Разве они не изменили мне, не бросили меня, не забыли? Разве они могут дать мне счастие лучше того, каким я пользуюсь?
Бедняк свое горе и мучение называл еще счастьем, лгал перед собою и уверял себя, что ничего не жалеет, что не плачет ни о чем.
Однако же, с каждым днем он чаще и чаще задумывался о прежней жизни и каждый раз глубоко вдавался в старые воспоминания; он чувствовал себя оподлившимся, униженным в собственных глазах и, что хуже всего, преступником, преступившим законы окружающего его общества. Это преступление было так чувствительно ему, так близко, следы его еще так мало изгладились, что уже ради одного этого он хотел вырваться из деревни, оторваться от Уляны; но, как у многих людей с пламенными чувствами, у него недоставало силы воли. Он рвался за черту, но переступить ее не мог.
В одно летнее утро он встал раньше обыкновенного, разгоряченный ночными мечтами, которые расшевелили его сердце былыми воспоминаниями; он побежал к Уляне, которая приветствовала его улыбкой, взглядом и вымаливала у него хоть одно ласковое слово, хоть одну улыбку, один взгляд. Он велел приготовить собак к охоте, на которой давно уже не был. Ему нужно было убежать из дому, быть одному и подумать при шуме лесов.
Он вышел. Крупной росой еще были покрыты трава, растения и кусты, листья их блестели, отражая лучи восходящего солнца, которое поднималось в беловатых облаках. Луга покрывал подымающийся пар, птицы пели, народ выезжал в поле, рожь колыхалась, наклонившимися колосьями, а цветущая гречиха наполняла благоуханием чистый легкий воздух, которым отрадно было дышать.
Тадеуш углублялся в лес, где предположено было спустить собак на зайцев. Давно уже он не охотился, и не с прежним жаром и увлечением вышел на охоту; с опущенной головой, с заложенными назад руками, сам не зная, куда он идет, он позволял людям вести себя и поставить на перемычку, которая была на большой дороге. Тадеуш выбрал большой пень, оставил ружье, сел и задумался. Собаки еще не отзывались, вершины дерев шумели, кругом была тишина, только где-то вдалеке был слышен стук топора – то мужик рубил сосну на постройку.
В эту минуту забренчали бубенчики, застучал экипаж, кто-то ехал по дороге. Тадеуш поднял голову, уставил глаза; неизвестно, почему у него, так давно уже привыкшего к уединению, откликнулось сердце на эти звуки. Он сидел почти у самой дороги. Скоро показалась легкая бричка, запряженная парою карих лошадей, в которой сидел молодой мужчина. Проезжающий уставил глаза на охотника, охотник на проезжающего. Минуя Тадеуша, тот обратился к нему лицом и крикнул: «Стой!»
Тадеуш, пристыженный, покрасневший, в замешательстве встал с пня, на котором сидел.
– Тадеуш!
– Это ты, Август?
– Как поживаешь, затворник? Как поживаешь? Ты так изменился, что я едва узнал тебя. Тадеуш вздохнул и ничего не ответил. Он молча пожал только руку Августа, а тот внимательно и с любопытством смотрел ему в глаза.
– Ты живешь здесь недалеко?
– Очень близко. Едем ко мне.
– А что же! Весьма охотно! Садись со мной, или погоди: зачем же отрывать тебя от охоты, пусть лошади отправляются, а мы посидим здесь и поболтаем на свободе.
– Павел, – крикнул он кучеру, – трогай к дому, тут недалеко! Как называется твоя деревня?
– Озерки.
– Трогай к Озеркам! Выпряги лошадей, задай им корму и скажи, чтобы готовили завтрак.
Тадеуш кивнул головой в благодарность. Лошади тронулись, они уселись и стали на свободе тихонько разговаривать.
Август был школьный товарищ Тадеуша, товарищ по университету и старый приятель. Кто же не знает эту молодую дружбу, эти неразрывные связи, которые не в состоянии расторгнуть никакая сила, потому что они удерживаются очаровательнейшими воспоминаниями юности. В позднейшие годы отношения завязываются и расторгаются, завязывается дружба и расторгается без сожаления; сердце всегда тянет к старым приятелям, к приятелям молодости, хотя бы они и не заслужили этого благороднейшего чувства.
Для Тадеуша Август был живым воспоминанием; он был один из благороднейших товарищей, один из лучших друзей. Благородного характера, полный откровенности и смелый, он невольно заставлял любить себя.
Созданный для друзей он услуживал им и думал о них больше, чем о себе. Никогда не требовал он ничьей помощи и всегда готов был помочь другому. Со времени своего пребывания в городе, окончившегося для Тадеуша таким приключением, он не виделся с Августом, который по возвращении из деревни жил от него миль за двадцать.
Добрый Август справлялся о Тадеуше, и стоустая молва, которая так быстро разносит каждый необыкновенный случай, донесла ему весть о любви затворника и всего, что из нее вышло. Хорошо, если бы он узнал только правду, но сколько лжи по дороге прибавилось к этой вести.
Со вниманием и участием смотрел Август на своего приятеля и едва узнавал его. Лицо его побледнело, усталые веки опускались над глазами, лоб наморщился, губы сжались, печаль царствовала на его преждевременно состарившемся и увядшем лице.
– Послушай, – сказал Август, – уж коли мы встретились, поговорим между собою откровенно. Правда ли то, что плетут о тебе?
– А что же плетут? – спросил Тадеуш с горькой улыбкой.
– Что ты там влюбился, или не знаю как сказать, в какую-то крестьянку, что муж ее поджег твой дом, что потом…
– Все это правда, – ответил он. – Я влюбился и видишь, до чего довело меня это, как измучило, иссушило. О, я много выстрадал. Но для такой любви, как ее любовь, стоило страдать.
Август рассмеялся.
– Ну, ну, перестань, – признаюсь тебе, я не понимаю такой любви, это какое-то сумасшествие, на минуту еще, пожалуй, но долго продолжаться это не может.
Тадеуш улыбнулся и пожал плечами.
– Ты не знаешь ее, не понимаешь страсти, привязанности этой женщины. Я испытал ее сто раз во время моей ужасной болезни: она иссохла у ног моих. Посвятила мне детей своих, стыд, все. О, по сердцу она достойна назваться царицей!
Август смотрел с удивлением и с сожалением на разгорячившегося Тадеуша.
– Что за черт, – подумал Август, – просто с ума сошел! Из сострадания надо спасти его, он пропадает.
– Ну, и что же? – прибавил он громко. – Ты думаешь вечно с нею проводить жизнь голубков?
– Ничто не может нас разлучить; нас связали слезы, страдания, смерть, огонь, преступление, наши общие жертвы.
– Но ты восторгаешься, – сказал Август, – а я хотел с тобой, мой друг, поговорить хладнокровно. Скажи откровенно, положа руку на сердце, во имя нашей старой дружбы: не пугает ли тебя самого эта жизнь?
Тадеуш взглянул, опустил глаза и в замешательстве отвернулся.
– Теперь уже не время отступать, – сказал он печально.
– Извини, всегда время прекратить глупости.
– Август, как ты охладел!
– Тадеуш, ты с ума сошел. Что же ты думаешь состариться, одеревенеть прежде времени у ног твоей деревенской Омфалы? Разве стоит она, чтобы ты посвятил ей весь свет, надежды, будущность?
– Она посвятила мне все.
– Но ты, наконец, убьешь себя, замучишь, ты не выдержишь, тебя отравит эта однообразная жизнь без всяких развлечений, без движений, без оживляющих средств. Пока ты с ней, ты должен оторваться от целого света, потому что наше не знающее сострадания общество не примет тебя никогда. Ты осужден и изгнан.
Тадеуш вздохнул.
– Тебя нужно спасти, – продолжал Август.
– Я погиб, – отвечал Тадеуш, – оставь меня. Кому же какое дело, коли я счастлив?
– Счастлив! – воскликнул Август. – Но ты обманываешь себя, ты несчастлив! Взгляни на себя, загляни в свою душу. Ты страшно мучишься в цепях, тобою же самим скованных.
В эту минуту залились собаки, и охотники бросились к ружьям. Вскоре затем послышалось в стороне несколько выстрелов, и Тадеуш с нетерпением вскинул ружье на плечо.
– Пойдем домой, – сказал он.
– Пойдем.
По дороге они опять разговорились, и Тадеуш подробно рассказал приятелю свою сердечную историю.
В словах его выразилось столько печали, так заметно было, что настоящее тяготило его как камень, что Август, тронутый, решил в уме отвлечь Тадеуша от Уляны и пагубного для него уединения.
Тадеуш освоился со своим положением и не чувствовал его неприличия, тяжести, сраму; Август только стал открывать ему глаза. Тадеуш почувствовал стыд, беспокойство, удваивающуюся печаль, к которой уже был приготовлен.
Они вышли на крыльцо дома. Уляна беспокойно выглянула в окно. На ее глазах это был первый гость в Озерках; она не знала, что делать. Она привыкла встречать Тадеуша, не отступать от него ни на шаг, прислуживать ему; теперь же, удержанная стыдом, отозвавшимся в сердце, уставила лицо свое на окно и глядела с беспокойством. Ей хотелось бы бежать к нему, но она не смела; и тяжко ей, и беспокойно стало; предчувствие говорило ей, что этот чужой не принесет для нее ничего хорошего.
Тадеуш увидел ее, отвернулся и покраснел. Август угадал в этой женщине, глядевшей пламенными черными глазами, любовницу приятеля. Он остановился на пороге и уставил на нее удивленные глаза, так что Уляна покраснела, опустила голову и принуждена была отойти от окна.
– В самом деле хороша, – промолвил Август.
Тадеуш, входивший в эту минуту в двери, не слышал его восклицания. Август пробыл целый день, и Уляна не могла показаться; два или три раза подбегала она с детским любопытством к дверям и под влиянием страха вновь убегала. Тадеуш приходил к ней на минутку, она с нетерпением спрашивала его:
– Когда он уедет?
– Не знаю! – отвечал холодно Тадеуш.
И когда он вышел, Уляна следовала за ним глазами, душой, желанием, любопытством, страхом, и печальная принималась плакать. На сердце ее было грустно, тяжело.
Наступил вечер, Август не уехал. В слезах упала Уляна на постель в своей комнатке и при свете разведенного в камине огня в первый раз провела вечер одна в уединении и размышлении.
А там приятели болтали так весело, и их голоса доходили до слуха бедной Уляны. Но голоса была неясны, а слова непонятны. Уляна, не понимая их, пугалась. И предчувствие ее не обманывало. Август уговаривал Тадеуша уехать из дому.
– Послушай, – говорил он ему, – если привязанность твоя устоит против рассеяния, разлуки, новых впечатлений, я не скажу ни слова. Ты воротишься домой к прежней жизни: это будет доказательством, что тебе нет уже другой будущности. Но для чего же не попробовать лекарства, не смыть с нее пятна? Я еду в Варшаву. Не хочешь ли ты взглянуть на нее после стольких лет?
Тадеуш молчал. Август настаивал, но в этот вечер ничего не добился. Непрошеный, пробыл он в Озерках дня два, три и с упрямством друга, убежденного в спасительности своего совета, настаивал на выезде, уговаривал, заохочивал и просил.
Тадеуш молчал все более, все менее отговаривался, наконец, стал ссылаться на мелкие затруднения, которые Август отклонил тотчас же.
– Едем, – сказал он, – ты должен ехать.
– Но что же будет с Уляной?
– Пусть ждет тебя. Оставь ее тут хоть самовластной барыней в доме.
– Но ее станут тут преследовать.
– Ты опять бредишь. Ты должен ехать, говорю тебе, ты должен ехать со мной.
– Но как же я скажу ей это?
– Хочешь, я возьму это на себя?
– Ах, оставь, это невозможно, я не поеду!
– Ты дал мне слово и поедешь. Только на две недели. Тадеуш вышел и прямо побежал в комнату Уляны. Она сидела у окна и, облокотясь на руку, смотрела на сверкающее озеро. Это был взгляд, который ничего не видит, стеклянный, неподвижный, а глаза полны слез, которые невольно, незаметно навертывались и катились по лицу.
Когда он вошел, она задрожала, но улыбнулась.
– А что? Он уехал? – спросила она.
– Нет, – решительно ответил Тадеуш, – нет еще, но я еду с ним.
Она остолбенела.
– А я? – спросила она, ломая руки и поднимая голову.
– Ты остаешься здесь. Я скоро возвращусь, – бормотал Тадеуш, подходя к ней. – Я оставлю тебя здесь барыней в доме, прикажу, чтобы все слушались тебя, и скоро, скоро возвращусь, – прибавил он, собравшись с духом.
Уляна закрыла глаза руками, опустила голову и плача отозвалась:
– О, как хотите. А я могу воротиться в избу.
– Но я этого не хочу. Что же с тобою? – воскликнул Тадеуш. – Я возвращусь скоро, через неделю.
– Через неделю? И это скоро? – спросила она.
Тадеуш страдал невыносимо, горячился и не знал, как кончить начатый разговор. На счастье вошел Якоб, и раздача приказаний и распоряжений по дому прервали опасный разговор. Уляна отвернулась к окну и больше не трогалась.
На другой день, рано утром, у крыльца стояли запряженные лошади, а Тадеуш еще не мог вырваться из объятий почти помешанной женщины, которая хотела, чтобы он взял ее с собой.
– Яздесь с ума сойду, – кричала она, – одна, одна! Меня здесь убьют! Я не выдержу!
Напрасно успокаивал ее Тадеуш, обещая скоро возвратиться. В последнем объятии, она, словно предчувствуя будущность, схватила его и держала так сильно, что Тадеуш на зов Августа почти должен был насильно разорвать ее ручки и, поцеловав ее заплаканные глаза, убежал.
Громкий плач преследовал его. Уляна не смела выбежать, боялась постороннего и людей; она только кинулась к окну, выходящему на двор, чтобы не потерять из виду Тадеуша. Сердце говорило ей, что он не воротится таким, каким уезжает.
А он? И он смотрел на нее. В эту минуту она была ему дороже, чем когда-нибудь; при разлуке усиливается и угасающая привязанность, и возобновляется с новою силою, хоть и ненадолго, но опасно. Тадеуш, пасмурный, печальный, сел с Августом и взглядом прощался с Уляной, а в душе обещал себе воротиться к ней, скоро, очень скоро, завтра. Не знал он, что чувство, которое испытывал в эту минуту, придется разбросать по дороге, оставить в самом начале ее, рассыпать понемногу с уплывающими минутами, с вновь встречающимися впечатлениями.
И прежде, чем наступил вечер, уже полуулыбка, давно невиданная, играла на губах Тадеуша. Добрый Август рассеивал его живым рассказом, заставлял забыть о доме, о себе. Он подбирал самые веселые истории, удивительнейшие происшествия и чувствовал себя почти счастливым, когда увидел расцветшую на устах приятеля улыбку.
XV
Уляна осталась одна со своей страстью, печалью, думами. Одна, совершенно одна. Она не имела средств оторваться от них. Люди иного звания излечивают печаль, страдание, отчаяние, отдаляясь от причин, которые породили их, создавая себе новую, искусственную жизнь, взамен утраченной. Этого не могла сделать Уляна. Она оставалась одна на месте, где все напоминало ей Тадеуша; без занятий, без развлечения, она постоянно глядела на себя, на свои страдания. Прошла неделя. Уляна сидела у окна и напрасно глядела на дорогу; сидела под тополями, над озером, ждала Тадеуша, прислушивалась к каждому шуму. Сердце ее билось при каждом говоре на дворе. Не раз ночью вскакивала она и бежала смотреть, не приехал ли он, но его не было. Одна, совершенно одна, она считала длинные дни, пустые, бледные, проводимые за пряжей, в саду в грустных однообразных воспоминаниях. Не раз уже сожалела она о прежней жизни, с которой рассталась навсегда. Из деревни манили ее свобода, веселье, песни, голоса людей, которые счастливее ее. А эти люди глядели на нее, как на потерянную; ничто не связывало ее с ними, она была им чужая. Ее приветствовали насмешливой улыбкой, пасмурным взглядом; ни один не промолвил ей словечка, не протянул ей руки. Там, на другом берегу озера, на жнивье пели жницы, мелькали белые рубашки, и песни их доходили до ушей Уляны, напоминая ей прежнюю свободу. А она сидела с опущенными руками, без песни, без занятия, без цели, каждый день становясь грустнее, потому что каждый день напрасно ожидала возвращения Тадеуша.
Прошла неделя, другая. Он не возвращался, не давал даже знать о себе. Уляна с каждым днем становилась все беспокойнее и все была одна и одна. Никто ее не утешил, никто не заговорил с нею. Порой она кинет прохожему привет, попросит ласкового слова и встречает только суровый презрительный взгляд.
На другой неделе она вспомнила о своих детях и плакала.
– Сироты, – думала она, – сироты прежде времени. О, пойти бы посмотреть на них, поцеловать, приголубить.
И думала она идти к ним и боялась, чтобы Тадеуш не приехал в эту минуту; хотела она его встретить первая и первая поздороваться с ним. Она просила, чтобы ей привели детей. Вечером Прыська привела их во двор и оставила Уляне… Дети почти не узнали ее. Сердце ее было так полно иной привязанности, иных чувств, что не тронулось при виде детей. Она смотрела на них, ломая руки.
– Сироты, – думала она, – что я им! Разве я им мать? О, нет, я смотрю на них, как на чужих, я думаю о них, как о чужих. Но мне уж не быть и матерью.
И она снова плакала, чувствуя, что уже не может их любить, плакала и над собой, и над ними.
Детей отнесли назад, и ни сердцем, ни взглядом не пошла она за ними; в ушах ее постоянно стучал экипаж, который ждала она, сердце ее билось мыслью о возвращении Тадеуша.
А он? Он не возвращался.
Целые дни, сидя в своей комнатке, не отводила она глаз от окна на дорогу и часто, оборвав нить пряжи, по целым часам, напряженным взором и ухом, ждала желанного экипажа. Вечерами сидела на берегу озера, сидела, где с ним сиживала, думала о нем и поглядывала на дорогу, боясь отойти далеко, чтобы не потерять из глаз дороги, по которой он должен был возвратиться. В воскресенье благовест к обедне призывал народ к молитве, и все спешили по дороге в новых свитках, и белых платках, и накидках молиться Богу и поклониться Богородице. Уляна не могла идти в церковь: стыдно ей было людей, и страшно, чтобы он не приехал, когда она будет на литургии. Она садилась, оборачиваясь лицом к церкви, а глаза постоянно обращались на дорогу, и молиться могла она только об одном, чтобы Бог прислал барина, чтобы ее сокол прилетел опять в опустевшее гнездо.
На дороге пусто неделю, пусто две, и четыре, и шесть, и восемь недель, и десять. Сколько дней, столько разочарований! А сколько раз уже казалось, что вот он едет, вот она узнала лошадей и уже летит здороваться. А экипаж двигается по дороге и погнал дальше в лес. Это не он!.. Каждый раз опускает она печально голову, слезы льются из черных глаз ее, и она опять ждет, и опять напрасно.
Пришла осень, веселая пора для крестьянина; для нее печальнее лета. Ее не тешит урожай, потому что все у нее есть: ей все равно, много ли сжали на поле и какую Бог дал жатву. Его нет, и нет, и нет.
Уже с деревьев спал весь лист и желтый лежит под деревьями, в саду торчат только сухие корни и черные пни; северный ветер гонит тучи, и холодно сидеть над озером.
Она все еще там, потому что оттуда видно ей дорогу. Пуста дорога.
Однажды утром вошел в комнату пан Линовский.
– День добрый, – сказал он дружески.
Уляна вскочила с бьющимся сердцем.
– Я получил известие от барина.
– Скоро воротится? – воскликнула она. Линовский улыбнулся.
– Он именно и пишет, что воротится скоро, но воротится с гостями…
– С гостями? – прервала она, нахмурив брови, и прибавила, – ах, только бы уж воротился!
– С родными, – добавил, улыбаясь, снова Линовский, – в доме им будет тесно. Барин писал, чтобы вы перебрались в господский дом над озером.
Уляна смерила большими глазами управляющего, стояла и молчала.
– Хорошо, – сказала она, – сейчас иду.
И, утешая себя таким образом, она была неспокойна и Литовскому стало жаль ее.
– Не торопитесь, – сказал он тихо.
– Только бы барин воротился скорей, – шепнула она и пошла, думая про себя, – не напрасно было мое беспокойство. Он уже выгнал меня из дому. Люди его сбили. Люди хотят нас разлучить. Но он возвратится, а с ним и все.
И утешая себя таким образом, она была не спокойна и плакала. Она пришла к пустому домику и кинулась к окну, чтобы увидеть прежде всего, видна ли из него дорога. Ах, и дороги не видать. Села она без движения на запыленную скамью, оперлась на руку и просидела так до вечера. В доме была такая страшная пустота. С давних пор никто не жил в нем, кроме кротов и мышей; развалившийся камин, лопнувшая печь, сломанный стол, лавка по стене составляли всю его обстановку. И никого при Уляне, никого даже вблизи.
Приближался вечер, становилось холодно; дворовые сжалились, пришли, развели огонь, не большой, холодный, как сострадание посторонних. Она ни до чего не дотрагивалась и мысленно повторяла:
– Выгнал.
Целую ночь просидела она на скамье. Огонь погас, она не подложила дров; засветлел день, она не вставала, она потеряла последние чувства и память и остаток надежды.
И как волна приходит и отходит от берега, так приходила к сердцу и, разбиваясь, отходила надежда.
Прошла неделя в пустом домике, а его нет, еще не возвращается. Уже два раза падал белый снег, два раза берега озера покрывались стеклянными кусками льда: его не было.
Уляна все еще каждый день сидела на скамье под тополями, глядела, плакала и с каждым днем надеялась менее, с каждым днем пугалась сильнее.
Уже не раз возвращение Тадеуша казалось Уляне страшным; а что, как воротится иным, воротится и не взглянет, оттолкнет? Ведь вот же выгнал из дому.








