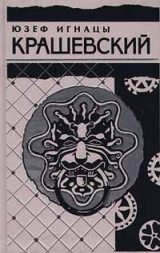
Текст книги "Уляна"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
III
Через несколько дней потом все были в поле, а Тадеуш, против своего обыкновения, направился по дороге, ведущей к деревне, в избу Гончара. Зачем, он сам не знал этого; а когда спросил себя и сознал, для чего делает это, то смеялся над собой, и, однако ж шел, словно зверь, которого тянут на веревке.
Как часто в одном человеке резко обозначаются два человека. Люди положительные и управляемые только рассудком никогда не чувствуют в душе этого раздвоения. Для иных же натур это составляет нестерпимое страдание. Часто в них один человек смеется над плачем другого, осмеивает его поступки и среди высочайшего блаженства, указывает тучи, сбирающиеся на небе, разбивает наслаждение, анализирует его, обнажая своим недоверием. Холодный разум, как страж сидит высоко, смотрит под ноги и остерегает, и осмеивает. Человек редко послушен ему, и разум мстит насмешками, мстит позднейшими укорами. Чем менее слушают его, тем сильнее допекает он, тем больнее кусает, тем более насмехается. О, это мученье! Сердце летит в свет, человек протягивает руки, чувствует себя уже счатливым, хватает свое счастье, а этот страшный голос Кассандры, которую человек носит в себе, кричит ему беспрестанно: – увидишь завтра твое счастье; или: – приглядись, чего добился. И тогда человек оглядывается, начинает не верить, перестает быть счастливым.
Этот нравственный голос всегда сопротивляется воле человека, всегда становится ему поперек дороги. Увы, он всегда пророк разрушения, и пророк справедливый.
И человек опускает голову, закрывает глаза и повинуется страсти, не поднимает век, пока не разбудит его сатанинский смех торжествующего разума. Разум этот, или назовите его как хотите, несносен, упрям, неумолим. Голос его беспрестанно звучит в ушах и не дает покоя; заглушить его нет возможности, он с тобой везде, как твоя совесть, он часть тебя, но часть оторванная, независимая, которая плюет тебе в лицо, валяется с тобой в грязи и не замарается, смеется над твоими наслаждениями, осмеивает неудачные намерения, горделивые планы показывает разрушенными.
Кто же из нас не знает этого неотступного товарища, этого змея, который, опоясав вас, сосет из груди вашей спокойствие и, заранее стращая черной будущностью, стирает сладкие чары жизни? Кто же из вас не знает этого несносного надоедалу, от которого не скроешься и в самой глубине собственного сердца? Не убежишь от него, не подделаешься к нему; несносный упрямец, чем больше хочешь остановить его, тем еще сильнее грызет он вас.
Тадеуш боролся именно с этим врагом. Два человека говорили в нем: один – холодный, рассудительный, насмешливый, другой неосмотрительный, страстный, неопытный.
И первый безжалостно смеялся над другим, мучил его, корил, а другой, словно не слышал, словно не чувствовал, словно не понимал.
– Что же это? Ты полюбил Гончариху, простую деревенскую бабу, – говорил насмешник. – Мерзость… Соблазн… Стыд… Неужто осмелишься отважиться? Знаешь ли что это поведет за собой?
На все это Тадеуш ничего не отвечал. Шел, слушал и молчал.
Действительно, с ним делалось что-то непонятное. Произошла какая-то перемена. Ночью, не город с своим шумом, не лес с качающимися соснами и благоуханными березами, но прекрасные глаза Гончарихи снились ему; и глядела она на него этими глазами с тысячью обещаний и с какою-то упоительною грустью.
Послушный непреодолимому желанию видеть глаза этой женщины, он шел к избе Гончарихи. В деревне было тихо, только дети играли на улице, старушка несла, покашливая, ведро и ежеминутно отдыхала, маленькие девчонки, в одних рубашенках, напевая, плясали по грязи перед избами, хороводом взявшись за руки. Войдя в деревню и приближаясь к избе, Тадеуш приостановился и устыдился самого себя.
– Безумный, – крикнуло ему одно я, то, которое никогда ничего не делает и беспрестанно смеется над всеми поступками человека. – Зачем ты идешь? Что ты думаешь?
А другое, послушное, я, оправдываясь в своем поступке, от которого не хотело отказаться, говорило:
– Перестань, ее верно нет в избе, она должна быть в поле. На это неотвязчивый насмешник шепнул ему на ухо:
– А если она дома, и ты войдешь к ней, все будут знать об этом; муж прибьет ее, хоть и не за что. А тебе разве будет от этого лучше свободнее, веселее? Поможет ли тебе это?
– Мы войдем только напиться воды, – сказало тихонько другое я. – Что же в том, в самом деле, дурного? Да мне даже и очень хочется пить, так жарко.
Он уже стоял перед низенькою дверью избы, тронул щеколду и вошел.
А насмешник хохотал совиным голосом и восклицал:
– О, прекрасно, превосходно, бесподобно! Иди же скорее за новым обманом и за новыми страданиями.
Уляна была дома, стояла в сенях около птиц и что-то работала. Заметив барина, она покраснела, побледнела и остолбенела от удивления и испуга.
Надо заметить, что Тадеуш никогда не ходил по деревне, не бывал в избах. Бедная женщина все это поняла, задрожала и молча ждала, что скажет он ей.
– Дайте мне воды, Уляночка, – сказал тихо Тадеуш, переступая порог.
Гончариха побежала за ведром в первую избу и, все еще красная и трепещущая, вынесла кувшин воды. Тадеуш, будто пьет, поглядывал, но пил он тихо, и смотрел пристально. Уляна закрывалась, утирая фартуком лицо, и не знала, что делать. Дворовые так приучили ее к грубым шуткам, от которых надо было защищаться пятерней и кулаком, как от волка, что наконец, глядя на спокойное, по-видимому, лицо пана, неподвижное его положение, она начала сомневаться в том, что прежде пришло ей на мысль.
– Что ж вы тут делаете одна? – спросил он ее через минутку.
– А что ж. Обыкновенно, в доме найдется работа.
– Все в поле?
Этот вопрос опять напугал женщину: она молчала, но, как бы вместо ответа, с улицы послышались детские голоса.
– Может быть не рада видеть меня в избе?
– О, и очень, – ответила она принужденно и холодно, снова отирая лицо фартуком. – Наша изба бедна, чем принять пана?
– Богата, коли ты хозяйка, моя красивая Уляночка, – произнес в замешательстве и сам не зная хорошенько, что говорил Тадеуш.
– Разве это богатство? – ответила Гончариха, вздыхая.
– Все тебя любят.
– Тем хуже.
– Отчего?
– Разве вы не знаете? Коли люди любят, так муж не любит, нет ладу в доме: только плач да беда… хуже голоду.
– А муж очень любит тебя?
– Не знаю, должен любить.
– Стар он или молод? Вы ведь иногда идете за мужей моложе вас.
– О, мой старик.
– Как, старик? Кто же тебе велел идти за него?
– Обыкновенно: я из бедной семьи, он богач.
– Бедная, – произнес тихо Тадеуш. – Такая красавица.
– Разве это надолго, – шепнула с презрением женщина.
Во всех ее ответах была какая-то грусть, которая, равно как и беспокойство, рисовалась в ее голосе и в ее фигуре. Тадеуш держал в руках кувшин, словно в оправдание своего продолжительного пребывания в избе; но выйти не мог. Сила взгляда этой женщины, взгляда, в котором было что-то непонятно очаровательное, взгляда, который красивее ее самое, держала его прикованным у двери.
– И ты даже не знаешь, любит ли тебя муж? – повторил Тадеуш.
Женщина взглянула на него и молчала.
– Должен любить меня, – ответила она через минуту, потому что очень ревнив. Сколько раз он бивал меня за то, что кто-нибудь из дворовых шутил со мной.
– Как это, бивал? – воскликнул удивленный Тадеуш. – Он смел тебя ударить!
– Что же тут удивительного, разве я не жена его!
– Правда. Но чем же ты виновата, что красива, и все это видят?
– Я в этом не виновата, но терплю за это. О, уже сколько раз молила я Бога и Божию Матерь, чтобы освободиться мне от той людской напасти.
– И тебе не по сердцу, коли кто-нибудь полюбит тебя?
– К чему это поведет? Да еще и муж бьет за это. А если бы не бил, что у них за любовь?
При этом восклицании, произнесенным тихим голосом и со вздохом, пан Тадеуш задрожал и уставил на нее глаза.
– Как это? А какую же другую любовь знаешь ты?
– О, знаю, – ответила женщина, опуская глаза, – слышала о ней, когда была во дворе; не раз слышала, как говорили, и видела, как любили по-господски. О, это не так, как дворовые и мы. Та господская любовь какая-то очень хорошая, хоть, грустная, а очень приятная. И она кончается, говорят, всегда печально. Так сказали мне дворовые.
– Правда, правда, это кое-что другое, не ваши, не мужицкие ухаживания, Уляночка, – отвечал Тадеуш. – Но у вас в деревне коли муж прибьет, мать побранит, женщина поплачет, а – мужчина напьется, тем и конец. Там этим и кончается, а за этой господской любовью следует часто болезнь, а часто следует и смерть.
Уляна ничего не сказала, но, скрывая какое-то чувство, ясно обозначавшееся на лице, или, может быть, вздох, отвернулась к курицам, и Тадеуш должен был выйти.
Выйдя, он почувствовал, как стыд охватил его вместе с блеском солнечного дня и свежим воздухом. Вспомнил он, зачем входил он в избу и с чем вышел из нее. Сердце его билось, а лицо пылало; и все это для простой деревенской бабы, для простой Гончарихи!..
– И она, – говорил он сам себе, – знает, что есть какая-то иная любовь, что есть какое-то лучшее счастье, стоящее жертв; что на том же свете Божием, на котором она проводит тяжелые часы между колыбелью дитяти, конюшнею и хлевом, есть иная жизнь чувств, жизни сердца, безумья и счастья. Бедная Уляна, зачем было заглядывать во двор и слушать сказки, и верить сказкам! Сказки господские – яд… Не лучше ли было бы ей остаться, как другие, счастливою испорченною, как ее сестры, чем бедною и чистою, как небольшое число избранных мучеников, каких не найдешь между ее ровнями. Теперь наслаждалась бы с каким-нибудь дворовым, не заботясь о муже, не чувствуя сожаления этого о другой какой-то любви, не было бы ей скучно в избе. Но это ребячество, ребячество, мечта, вздор! Это хитрость дворовая, и, конечно, ничего больше! Ха, ха! И меня надула на минуту! Плут-баба с своими россказнями о любви! Должно быть, попробовала ее!
Так думая, пан Тадеуш шел берегом озера к дому, опустив голову; изредка поглядывал он на дом, уединенный, тихий, как была его новая жизнь, то опять поглядывал на деревню и на черную старую церковь, и в поникшей, словно отяжелелой, голове его путались думы и беспокойные вопросы о будущем.
У каждого человека три жизни: одна, по которой он плачет, другая, которою он на деле живет, и третья, на которую он надеется. Эти три жизни должны быть у каждого и где не достанет одной из них, там пустое место заступает страдание, и всем нам необходимо равно оплакивать прошедшее и с грустью вспоминать о нем, страдать под тяжестью настоящего и заглядывать в ясное будущее.
Этой третьей жизни в эту минуту не доставало Тадеушу и потому-то так печальны были его думы. Одна женщина, один взгляд, одно слово сделали ему противной ту жизнь, которую, еще несколько дней тому назад, он считал наиспокойнейшею и наисчастливейшею. Одна женщина, и какая женщина!
А вечер спускался на землю тихий, спокойный, деревевский; солнце алело за сосновым лесом, рогатый скот возвращался с пастбища и, опустив головы, шел в свои хлева, прыгали козы, которых в таком большом количестве держат жители Полесья; несколько овец с длинною шерстью и на тонких ножках бежали, блея, к избам, дикие утки летели над озером; ветер подымал волны и разбивал их о берег у дороги, придавая им какой-то непонятный голос, пленительный, как все звуки окружающей нас природы. В этой картине, такой обыкновенной, такой повседневной, была какая-то печальная прелесть, была жизнь, но жизнь, которая не удовлетворяла бы сердцу, несколько взыскательнейшему, жизнь может быть слишком бесцельная.
Тадеуш смотрел, находя все, что окружало его, прекрасным, и в то же время так печально билось его сердце, что он остановился и сел, чувствуя потребность погрустить, потребность потосковать. Вся эта движущаяся панорама прошла перед ним по другому берегу озера и, миновав корчму, двинулась к селу. Он сидел и смотрел, а глаза его невольно обращались к Уляниной избе, из которой подымался черный, смолистый дым. Вместе с ревом скота слышались голоса возвращающихся с поля крестьян и веселый крик гусей и детей, встречающих матерей. «Есть же счастье и в этой жизни – подумал Тадеуш – и скорее еще, может быть, и дешевле достанется оно, чем другое. Хлеб для этих людей все, – а благодарение Богу, они не были и не будут голодны».
Какой-то шелест послышался за ним, кто-то прошел мимо. Как будто нарочно, чтобы раздразнить его, то была Уляна… Тадеуш встал, хотел удержать ее. Она несла ведро воды, взглянула, улыбнулась и убежала. Он не хотел догонять ее, потому что с дороги было их видно, мог кто-нибудь заметить, а если муж? Тогда изба превратилась бы в ад.
Стыдясь и сам себе говоря упреки, Тадеуш воротился домой и заперся в своей комнате.
IV
– Да, да, – говорил он два дня спустя, – плутовка дворовая, умеет она, как наши барыни, и вздыхать, и болтать, и глаза щурить. Их простота, коли замешается в нее хитрость, сто раз опаснее, потому что легче верится в ее искренность. Зачем мне унижаться до того, чтобы привязаться к этой женщине, к простой Гончарихе! Это старая болезнь отзывается, это слабость и непростительное ребячество. Мечтать о глазах мужички, которыми, может быть, распутство придает остроту и блеск, а хитрость делает их выразительными и робкими, это глупость.
Он вышел в сени, – хлопнул за собой дверью, и в сенях застал… кого же? Опять Уляну. На этот, раз она смелее подняла на него свои черные глаза.
– Что ты здесь делаешь?
– Так как я была прежде при дворе и умею стирать, меня взяли для стирки вашего белья.
– И дворовые, конечно, очень рады этому?
– О, только не я! Муж даже сюда приходил смотреть за мной. Вот несчастье!
Тадеуш пожал плечами и, заметив управляющего, крикнул:
– Пане Линовский, вели, чтобы Оксен Гончар!..
При этих словах Уляна побледнела и убежала.
– Чтобы Оксен Гончар, – докончил Тадеуш, – сию же минуту собирался в дорогу. Есть у него лошади?
– Есть, пане, и самые лучшие.
– Он поедет с тобой в Бердичев; ведь тебе нужна одна подвода.
– Хотел взять наших, фольварочных лошадей.
– Потому-то именно я и назначаю его, что мне понадобятся лошади. Их там, кажется, несколько человек в избе.
– Да, пане.
– Стало быть, он может ехать?
– Может, пане.
– Так сделайте так, как я сказал.
Управляющий принял это приказание за странную поблажку фольварочным лошадям и ушел. Но Уляны уже не было.
Тадеуш стоял в дверях и колебался. Потом вышел в сад; он знал, что там иногда в стороне озера вешали белье, носили оттуда воду. Прежде он не обращал никакого внимания, где и как и что делалось у него в доме; теперь же все мелочи приходили ему на мысли, а чего он не знал, то отгадывал. У рождающейся страсти всегда десять глаз.
Он пустился к озеру. Здесь, в самом деле, стояла Уляна, задумчивая, с опущенными руками; не замечая его, она пожимала плечами, качала головой и рассуждала сама с собой.
– Ну, на некоторое время ты отделаешься от него, – сказал пан. Уляна, обернувшись, вскрикнула.
– Муж твой сегодня уедет, – прибавил Тадеуш.
– О, даст он мне за это!
– Откуда же он узнает?
– Когда меньше будет знать, так больше станет догадываться, – отвечала Уляна.
– О чем же ты раздумывала и рассуждала сама с собой, когда я пришел сюда?
– Почем я знаю!
– Верно не о мне?
– Что мне о вас думать.
– Отчего же нет, когда я думаю о тебе?
– Обо мне? – спросила женщина, поглядев ему в глаза. – А зачем же это?
– Я и сам не знаю, – ответил наивно Тадеуш; – но когда я увидел тебя, с тех пор ты у меня постоянно на уме.
– Я?.. С нами крестная сила! Вы станете думать обо мне!
– Кажется мне, что я люблю тебя, Уляночка; но не по-вашему, не по-мужицки, и не так, как любят дворовые, но так, как любят господа. Очаровала ты меня, злодейка.
И он приблизился к ней, взял ее за талию и хотел поцеловать, но она в испуге вырвалась и жалобно крикнула:
– А мои дети!
– У тебя есть дети?
– Есть, – ответила она тихо, – двое крошечных младенцев.
– Да чего же ты боишься за них? – сказал он опять, приближаясь. – Разве я им сделаю что-нибудь? Разве муж твой сделает им что-нибудь?
– О, – ответила печально Уляна, – слышала я об этой любви; – это всегда кончается бедой, и моим детям будет плохо.
– О, не думай этого, Уляна, – сказал Тадеуш, отбрасывая у нее с лица волосы, словно вместе с ими хотел отогнать и мысли, – зачем же непременно худой конец?
– Когда кто поклялся кому-нибудь в церкви, и ксендз благословлял, обвел вокруг алтаря, и вместе целовали они крест и из одной чаши пили… О, не хорошо тогда нарушить клятву, и конец всегда дурной. Никто не принуждал к клятве и должно сдержать ее.
У Тадеуша не хватило слов.
– Послушай, Уляна, – сказал он, вдруг обняв ее, – сегодня твой муж уедет. Есть у вас в избе кто-нибудь?
Она молчала, потупившись.
– Что же это, не хочешь мне ответить? Ну, так я спрошу управляющего; пускай весь дом догадается зачем.
– Есть у нас несколько человек в избе! – вскрикнула поспешно Уляна, поднимая глаза. – Работник, девка, дети. Но на что вам это?
– Послушай, – сказал Тадеуш, – я буду сегодня у тебя.
Сказав это и не желая знать и слышать ответ, он быстро отвернулся и пошел домой: потом невольно оглянулся еще раз и увидел, что Уляна, стоя на том же месте, концом фартука утирала слезы.
V
Наступил вечер и за ним ночь. Тадеуш, который приучил уже людей к своим странностям, вышел тихонько из дому к озеру. Ночь была томная, в деревне огни погасли, светилось только в корчме, и светлое отражение окна блестело в воде спокойного озера. По временам слышен был кое-где отдаленный лай дворовых собак, шум плещущейся воды, скрип колодезной бадьи, качаемой ветром, пение петуха и мычание скота в хлевах.
С биением сердца, которое сопутствует всегда подобному похождению, Тадеуш шел задумчиво берегом озера; в голове у него все ворочалось, билось, ломалось, была только какая-то непонятная путаница мыслей; кровь огненной волной пробегала по жилам, зубы стучали, руки тряслись, на лице выступал холодный пот. Он не заметил, как очутился перед корчмой, которую должно было миновать на дороге от дома к деревне. По счастью, там уже никого не было, и только слышался голос ребенка. Ночь была совершенно темная.
Не обращая внимания на грязь, лужи и рытвины, Тадеуш шел к хорошо знакомой избе. Еще дитятей не раз он бегал с няней по деревне, помнил в ней каждое деревцо, каждый поворот улицы, каждый мосточек, колодезь… узнавал впотьмах каждый закоулок и уверен был, что не ошибется.
Когда же он приблизился к избе, то смешался и встревожился, как разбойник. Он остановился и прислушался: кругом была тишина. Подняв глаза, он увидел кого-то в белом, стоящего на пороге. И этот кто то и он почувствовали впотьмах присутствие друг друга, услышали и увидели предчувствием.
Тадеуш кашлянул, фигура в белом прижалась к двери; он молча подвинулся к ней. Он надеялся на свое положение, как на положение барина, и на испорченность этой женщины; рассчитывал на то, что она не была чиста. И что за наслаждение хотел он найти там? О, непонятное сердце человеческое, кто же разгадает тебя, когда ты бьешься желанием тела? Бедное, безумное создание, бедный жертвенник сумасшедших желаний!
Приблизившись, Тадеуш легко узнал, что фигура в белом была Уляна.
– Это ты?
– Кто тут?
– Это я.
– Ах, барин, барин, – повторила с беспокойством Уляна, тронувшись с места, – вы пришли. Зачем? На мое несчастие, на слезы мне, на беду, барин!.. Ах, уйдите, уйдите!..
– Уйти, когда ты ждала меня на пороге? – возразил, улыбаясь, Тадеуш.
– Ждала, правда, – ответила Уляна, – ждала нарочно, чтобы предупредить, чтобы никто вас не увидел, упросить, чтобы вы не входили. Несчастный крест и мне! Барин, барин! Я не такая, как вы думаете. Это-то ваша любовь! – прибавила она. – Это хуже ненависти.
Тадеуш, удивленный задыхающимся и дрожащим голосом этой женщины, в котором сильно высказывалось негодование, стоял не зная, что начать.
– Ну, ну, Уляна, – сказал он в замешательстве, приближаясь к ней, – пойдем в избу. Чего ты боишься?
– В избу? Зачем? Чтобы нас видели, чтобы нас слышали, чтобы я была несчастлива, чтобы… – И она заплакала. – Господь покарает меня на детях, на доме, на имуществе, на хлебе…
– Пойдем, пойдем, Уляна, – настаивал Тадеуш. – Если Господь должен кого покарать, то Он меня только покарает.
– На мне крест, барин! Не пойду, не хочу, не пойду! Крикну и разбужу всю деревню! Созову всех! Идите, барин, идите!..
– Так ты хочешь, – воскликнул Тадеуш, скрипя зубами, чтоб я озлобился, чтоб отомстил тебе?..
– А что же вы мне сделаете? – спросила она. – Велите бить меня? Разве и так не бьют меня! Отнимете хлеб? И так его немного, а дети малы, и в рекруты не отдашь их.
Тадеуш, насупившись, задумался. Он еще попробовал подступиться к ней, но баба в темноте блеснула ножом.
– Осторожней, – сказала она, – у меня нож, я взяла его нарочно и буду обороняться.
Услыхав это, Тадеуш остолбенел и остыл.
– Вы думаете, может быть, – говорила она смело, – что коли я красива, так у меня уже нет ни веры, ни сердца и не знаю я Бога. О, – и она засмеялась дрожащим голосом, тихо и печально (смех этот звучал как горькие слезы). – Ступайте куда-нибудь в другое место; найдете себе другую и третью, и десять, но не меня. Идите барин! Если придет кто-нибудь, я должна буду кричать и пристыжу вас…
– Так ты отталкиваешь мою любовь? – спросил Тадеуш пол-унасмешло, полусердито.
– О, разве это любовь? – спросила она. – Та, о которой мне снилось, думалось, о какой поется в песне и на вечерницах толкуют: барская, королевская любовь, чувствую я, совсем иная. О, та не для нас бедных, не в избе искать ее, не на мозольных черных руках укачивать ее!
– Удивительная женщина, – сказал сам себе Тадеуш. – Доброй ночи, Уляна!
И она насмешливо ответила ему потихоньку:
– Доброй ночи!
Он стоял, не зная, что делать, она уже исчезла. Полный стыда, потащился он тихонько восвояси, повторяя: «Удивительная женщина».








