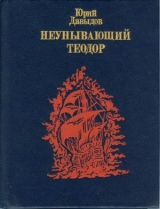
Текст книги "Неунывающий Теодор. Повесть о Федоре Каржавине"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Труд, выпрямив обезьяну, одарил человека речью. Не отменяя труд, указ отменял членораздельность. Если на то пошло, следовало учинить всеобщую ампутацию голосовых связок. Да где ж возьмешь прорву лекарей? И «вранье» продолжалось.
Петербург командировал г-на Шешковского. Особливый дар имеет допрашивать простолюдинов. Так говаривала государыня, прибавляя, чтобы не обижать Степана Иваныча, он, мол, любое самое трудное разбирательство доведет до точности; лучше бы, пожалуй, выразиться – до точки, после которой нет ничего, кроме отходной.
Его карету, запорошенную пылью петербургского тракта, увидел я на Лубянке. Там, где она переходит и Мясницкую, помещалась московская контора Тайной экспедиции. Духовная консистория – это потом, позже, а тогда, в годы, о которых речь, здешние «духовники», принимая «исповеди», губили души.
Степан Иваныч выпростался из кареты; его поддерживал под локоток верный Золототрубов, орясина, производившая некогда заарестование Каржавина-старшего. Как шилом кольнули меня востренькие глазки г-на Шешковского, усмехнулся презрительно: отмщение за мое давнее, шестьдесят второго года, злорадство. Не отрекаюсь, злая была радость, руки потирал.
Да, в начале шестьдесят второго, зимою. Императрицу Елизавету отпели, воцарился Петр III. Он, известно, пьяницей был. Не слыхивал, чтобы хоть единый сказал: пьян да умен, два угодья в нем. И вдруг разнеслось благовестом: ка-акое чувствительное сердце!
А началось с того, что государь явился в Сенат. Тотчас крепко, как в гвардейской караульне, запахло табаком-кнастером. Но спиртным не отдавало, тверезым явился. Возвестил: отныне Тайных розыскных дел канцелярия быть не имеет. И повелел изготовить высочайший манифест, имеющий быть объявленным со всех амвонов от моря Балтийского до моря Охотского.
Вообразите, что сталось с г-ном Шешковским: тьма в глазах, во тьме искры огненные. Гибель! Вообразите канцелярию: нос на квинту, мозги набекрень. Гибель!
Ужас и горе г-на Шешковского не были сугубо личными. Он знал твердо: упразднение тайного розыска есть ослепление державной власти. А уже возглашали манифест – Тайная канцелярия уничтожается. Г-н Шешковский страдал, его ужас тешил меня.
Увы, ни атмосферная гроза, ударившая в шпиль крепости Петра и Павла в тот день, когда Каржавин-старший вышел из застенка, ни даже божия гроза не испепеляет тайный розыск. Еще не улеглось ликование, еще скакали курьеры с манифестом, а брюхатый Сенат ужо разрешился от бремени: быть отныне Тайной экспедиции.
Это что же? Выходит, надули россиян? Отнюдь. Манифест упразднял канцелярию. Но не сам по себе розыск. Тайная канцелярия, умирая, приказала долго жить Тайной экспедиции. Г-на Шешковского из секретарей переименовали в сенатские секретари. Переименование учреждения ничего не переменяло. Переименование должностного лица давало майорский ранг и потомственное дворянство. Праздник!
Екатерина упрочила его положение. Пребывая формально в ведении Сената, он теперь важные дела докладывал только императрице. Она так рассудила: неблагопристойно многим знать многое. Не глупо! Степану Иванычу отвели в Зимнем укромный покой – для «особливых занятий».
Как сейчас вижу, царица-матушка в кресле чулок вяжет, а Степан Иваныч стоит, уронив руки, кажутся эти руки непомерно длинными, словно пришитыми. Солнце катится за Неву, льется червонный отсвет. Вдумчиво улыбаясь, говорит Екатерина Алексеевна:
– Ты, батюшка, помни, чем тягчайше приносится обвинение, тем глубочае исследовать надлежит. Глубочае, инако безвинно осуждение может быть.
– Всегда помню, матушка, – вздохнув, отвечает Степан Иваныч. Она, рассмеявшись, грозит ему пальцем.
Он душевно желал своей ровеснице многая лета. Сердцем ловил ее тревогу, ее пасмурные, косые взгляды, брошенные в сторону наследника. Государыня и секретарь майорского ранга отлично понимали друг друга. Ни в намеках, ни в понукании нужды не было: Степан Иваныч не упускал из виду тех, кто окружал цесаревича Павла, кто с ним сближался, кто к нему приближался…
Когда на Мясницкой, у Рязанского подворья, остановилась казенная карета, запорошенная белесой, подзолистой пылью петербургского тракта, шел я в Садовники. При виде г-на Шешковского, вылезавшего из кареты, подумалось о покамест слабенькой, как паутинка, ниточке, которую, среди прочих, уже ухватил секретарь Тайной экспедиции, ухватил и осязал с каким-то особенным, ему свойственным сладострастием.
Вернувшись из Франции (если читатель не забыл, на одном корабле с Каржавиным), Баженов некоторое время жил в Петербурге. Ему поручили возвести дворец на Каменном острове. Каменный остров императрица подарила сыну. Мальчику, живому и любознательному, понравился и зодчий, и его чертежи – хорошо «расположены», хорошо «вымышлены». Баженов стал бывать у Павла, «приглашался к столу». Презентовал он наследнику книгу архитектора Патта, обстоятельную сводку работ французских мастеров, прекрасный фолиант, приобретенный на улице Сен-Жак.
Ну и что из того, скажете вы, Павел-то был подростком. Справедливо. Но руководить – значит предвидеть. Г-н Шешковский руководил тайным сыском, а посему каждое лыко ставил в строку. Он заприметил благоволение наследника к Баженову. И сие упрятал в долгий ящик. Авось пригодится. Всему свой черед. «Несть тайны, иже не явлена будет».
А нынче г-н Шешковский пожаловал в белокаменную не ради архитектора, полюбившегося цесаревичу, а ради натаски московской конторы Тайной экспедиции в противодействии нарушителям указа «о молчании».
Черт с ним, надо идти за Москву-реку, в Садовники – узнать, когда ж наконец наш Федор избавится от монастырского плена? Бывал он в Москве лишь краткими наездами, гостил у Баженова, охотился за старинными книгами на развале возле Кремлевской стены. И возвращался в лавру пасмурный, ничуть не радуясь великолепным звонам колоколов, содержавших в металле своем изрядную долю серебра.
5
Садовники, вернее, Средние Садовники начинали застраиваться. У Баженова дом был каменный, с молоденьким яблоневым садом. Василий Иванович жил семейно. Папенька и маменька, если память не изменяет, родом были калужские. Простые, приветливые, милые. В жены Баженов взял сироту. И правильно сделал – ни фанаберии, ни тещи. Пример, достойный подражания.
Оставляя Петербург, он слез не пролил: душа Москве принадлежала. Он любил город любовью зрячей и вместе мечтательной. Многое мысленно видел иным, нежели очно. И прежде всего то, что картинно и пестро открывалось по ту сторону неширокой, неглубокой Москвы-реки.
Открывался Кремль, памятный с детства: родитель служил псаломщиком в одной из тамошних церквей, очень ласкала она взор своей скромной, тихой красой.
Где б ни был Баженов, смотрел он в сторону кремлевского холма; так правоверный смотрит в сторону Мекки. Но правоверный не желает перемен, и Мекка пребывает неизменной. Баженовский Кремль кутали пестрые туманы. Исподволь, аккордами, возникало Нечто,никому, кроме Баженова, не зримое; так из глубоких вод, зыбясь и покачиваясь, всплывает град Китеж. А Кремль зримый, Кремль реальный мучил Баженова хаосом пристроек, достроек, перестроек. Лишенные общей идеи, они, как стихия, увековечили вечное и вещее, то есть живое.
Робею изложить замысел зодчего. «Грандиозно», «колоссально», «гениально» – не пятаки ли давней чеканки? Внятно ли уподобление: мощь Баженова равна мощи Державина? И каждому ль понятно, что задуманное Баженовым превосходило храм Соломона или форум Траяна?
Он мыслил Кремль единством старины и новизны. Старины, освобожденной от сработанного на злобу повседневного. Новизны не заемной, не суетной, а вольно и гармонично объединяющей старину. Он мыслил кремлевский треугольник не пирамидой во славу монархии (хотя об этом твердил), а национальным символом (о чем, кажется, не обронил ни слова).
Но тут надо признаться, что не сам по себе проект – совокупность строгого расчета и пылающего воображения, не это брало за сердце, а бурный, мятущийся дух тридцатилетнего человека с темными густыми и легкими волосами, человека, весь облик которого… Понимаете ли, не в Париже, не в Санкт-Петербурге, а именно здесь, в Москве, вся сущность Баженова казалась мне насквозь русской. Отчего так? Да потому, что проект – уже одобренный, уже моделируемый из покорного рубанку и резцу мягкого липового дерева – проект этот не дарил зодчему величавого покоя. Снисходило, бывало, усталое удовлетворение; чувствовал, случалось, удовольствие; отступив и прищурившись, скрестив руки на груди и раскачиваясь на носках, бормотал: «Неплохо, неплохо… Даже и очень недурственно», эдак тоже бывало. Но покоя – свершил, сотворил – не было.
Видели бы вы Баженова в предвечерний домашний час, когда, сняв форменный зеленый кафтан с черными отворотами, облачившись в красный шлафрок, он придвигая кресло к окну и устремлял взгляд на Кремль. День мерк, ласточки реяли, река журчала, позванивала, все звало к отдохновению, а он испытывал и трепет сомнений, и отчаянную тревогу, и унизительное бессилие. Пляска нервов, зигзаги капризов? Другое! Страждущий дух, мука недостижимости и непостижимости идеала, неизбывное недовольство достигнутым и постигнутым – вот это и было истинно драгоценным в натуре Василия Ивановича Баженова, драгоценным и редкостным, присущим лишь истинным творцам, зиждителям, как говорится, милостью небес.
Он служил в Экспедиции. Не пугайтесь, не в костоломной тайной, а в Экспедиции кремлевского строения. Начальствовал генерал и камергер, коего за ненадобностью оставляю безымянным. Генерал вольготно княжил, Баженов рачительно правил. Правление обрушивало лавину хлопот. Начиная от устройства кирпичного завода и поисков строительного камня где-нибудь у Девичьего перевоза на Оке или близ дремотного Зарайска, на берегу Осетра, и кончая укомплектованием архитекторской: команды опытными геодезистами и лепщиками, искусными краснодеревцами и скульпторами, усердными мастерами и подмастерьями каменных дел.
– Уповаю, – сказал он, – уповаю видеть Феодора Васильевича. Вчерашнего дни писал в Петербург – присмотрел-де отличного помощника… – Баженов улыбнулся и слегка руками развел, означало это, что объяснять не нужно: он, Баженов, давно «присмотрел», еще в Париже уговор был. – Горяч Феодор Васильевич, – продолжал Баженов, – не перечил бы батюшке, набрался терпения, глядишь, из Петербурга да в Москву. А пришлось из Парижа чуть ли не напрямки да в лавру. Ну какое ему житье в обители? Он мирской, беспокойный, закваска крамольная. Страшусь, не угодил бы в худые композиции. Уж больно Федор Васильевич неоглядчив, я его знаю. Кругом, говорит, лжебратия. Ковы на бедного Феодора моего, ковы!
Собственно, ковы, коварные замыслы, были словесными, в поступки еще не материализованные, однако не велик был труд понять, как душно и уныло Каржавину в лавре.
Впрочем, Баженов надеялся, что ходатайство возымеет действие. «То-то будет восхитительно!» – заключил Василий Иванович.
6
Бабье лето стояло необыкновенное. В баженовском саду молодые яблоньки едва не зацвели. Гуси и утки вброд пересекали Москву-реку, плоскодонки, груженные дровами, сидели на мели. Ветер-тепляк, то южный, то восточный, выметал заблудшие тучки.
Похолодало внезапно, но снег еще долго не ложился. Лег только в декабре. И будто в тождество праздничному блеску пороши, совершилось формальное, с записью в журнале, назначение коллежского актуариуса Каржавина помощником архитектора Баженова.
Василий Иванович предложил кров в Садовниках. Федор благодарил и отказался. Ему отвели комнаты в Кремле, во втором этаже бывшего Потешного дворца, книзу помещалось что-то казенное, если не запамятовал, ревизион-коллегия. Отсюда рукой было подать до Модельного дома – мастерской, где работали громадную модель будущих кремлевских строений: в медных тазах кипел, пузырясь, рыбий клей, плотен был шорох александрийской чертежной бумаги, и плавно, как струги, скользили двойные рубанки, те, что берут мелко и часто.
Сказать: Федор охотно приступил к делу – ничего не сказать. Такая радость бурлила, что допоздна сон не брал, а спозаранку ото сна поднимался, приоткрыв окошко жаркой горницы, всей грудью забирал молодой, снежистый воздух и смеялся невзначай.
Не буду вдаваться в его «рассуждения математических и физических правил». Еще на школьной скамье проникся к ним отвращеньем, в чем и каюсь, краснея, Да и архитектурные трактаты – Федор переводил с латинского и французского – не будят любознательность. Нельзя, однако, не отметить, что наш актуариус еще и безвозмездно обучал баженовскую команду алгебре и механике. И словарь составил, словарь архитектурных речений. Каков Каржавин!
Так жил он на кремлевском холме.
А с плоских невских берегов Каржавин-старший, словно бы привставая на цыпочки, шею вытянув, хмуро поглядывал на Каржавина-младшего.
Из монастыря Федор писал почтительно, но прощенья не просил. Куда-а-а! Холодом несло, как от железа, стылого на морозе. Из Москвы – в том же духе. Должно быть, и вовсе нос задрал фаворит академика Баженоьа. То-то они с ним еще в Питере все это шу-шу. И вот извольте, академик выцарапал Федьку из Троицкой лавры.
Жене не сказывая и как бы прячась от самого себя, Василий Никитич от времени до времени наводил справки.
К заяузским Каржавиным Федор не наведывался. То были люди древлего благочестия, привечали странников из дальних скитов. Небреженье родней, казалось бы, давало повод к вящему неудовольствию, Василий Никитич, однако, не серчал. Враждебный расколу любого толка, а равно и православию, он не жаловал московских свойственников. Исключая разве что Ивана, Федькиного ровесника. По своим торговым делам тот изредка наезжал в Питер; Василий Никитич любил состязаться с ним, как на ристалище; сутулый, смуглый родственничек слыл тонким буквалистом и крепким начетчиком, в перекрестных спорах о бытии божием Василию Никитичу доставалось, коса находила на камень, что и прельщало.
Через третьих лиц этот Иван Каржавин вызнавал про Каржавина Федора. И сообщал на Адмиралтейскую першпективу. Примером можно привести такое: «Сын наш связался с молодой Лукерьей, стряпухой Троицкого подворья». Новости такого рода ничуть не задевала Насилия Никитича: быль молодцу не в укор. Задевало, злило другое: взял свое, предается наукам. Потом узнал, что «Федька-подлец» всех положил на лопатки, приняв участие в университетском конкурсе. Открылась вакансия на должность преподавателя французского языка; набежало множество московских французов; первенство досталось Каржавину Федору. [8]8
Ф. Каржавин единственный из русских участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности университетского преподавателя французского языка. И вышел победителем. Но совмещать две службы он не имел формального права. Отказаться же от службы у В. И. Баженова не хотел. Как победитель конкурса, Ф. Каржавин получил «привилегию на содержание публичной школы». Школа была открыта, однако просуществовала недолго, вероятно, по причинам финансовым. «Ст. Р.»
[Закрыть]Василий Никитич испытал досаду пополам с гордостью. Эва, подумал, словно бы руками разведя, катается, неслух, как сыр в масле.
Но едва невских берегов достиг страшный слух о моровом поветрии, Василий Никитич почернел. Когда-то просил Ерофея: бога ради не утрать ребенка. А теперь кому поклоны бить? Ни чинов, ни званий не разбирает моровое поветрие, ни дитя не щадит, ни старца не милует, а взяток не берет.
7
Чума!
Богатые фамилии спешно отъезжали в подмосковные. Фабрики закрывались. Церкви не вмещали молящихся. Полицейские солдаты волокли мертвецов к скрипучим фурам; фуры, глухо и страшно стуча колесами, волокли мертвецов к яминам, вырытым на неосвященной земле. Никто не желал укрыться в наспех сооруженных карантинах; лекарей били – злодеи они, отродье дьявола.
Модельный дом опустел. Караульных отпустили к семьям, в Преображенское, будто и там, за Яузой, не гуляла беспощадная зараза. Мастеровые мерли, шум работ смолк. Баженов и Каржавин угрюмо супились: существуем между животом и смертью.
В Модельный нередко приходил старец Амвросий – серебряная борода, тяжелые, иссиня-черные очи, мягкие южные интонации, наследие нежинской родины. Он был знатоком церковной архитектуры. Его строгим присмотром возобновлялась лепота кремлевских соборов. Архангельский уже воссиял, но Благовещенский с Успенским еще нет, и старец сокрушался, боясь, что не успеет запершить богоугодное, сердцу любезное дело.
Архиереев называли смиренными. Амвросий же вовсе не был смирен. Священство питало к нему неприязнь, многие – ненависть. Возлюбишь ли, коли из рук мошну выдрал? Амвросий, архиепископ Московский и Калужский, воспретил попам публичный торг требами – исстари рядились они с мирянами на Красной площади, предлагая платную обедню иль панихиду. А тут – шабаш…
Баженов любил старца, текли собеседования об архитектуре. Каржавин держался в стороне. Отдавая должное познаниям преосвященного, разве что терпел Амвросия, да и то ради баженовской приязни.
И не вытерпел.
Старец знай себе сетовал на мирскую власть. Вот-де наместник генерал-фельдмаршал Салтыков воинские команды из города вывел и сам схоронился за тридцать верст от белокаменной, в своем Марфине. Это было так. Но Каржавин, блеснув глазами, взорвался – нет у нас, нет иерея, подобного Франсуа Бельзену: славный марсельский епископ в чумную годину изо всех сил помогал горожанам, в первую голову беднякам, ничуть не заботясь о собственном здравии.
Смиренный смолчал. Громко стуча посохом, ушел в сопровождении послушника, белый клобук, казалось, подрагивал от негодования. К себе ушел, в Чудов.
Баженов укоризненно взглянул на Федора, хотел что-то сказать – не успел: вбежал мальчонка, сын сторожа, задыхаясь от восторга пополам с испугом, крикнул – со стороны Варварки валит на Кремль тьма-тьмущая. И, нe сдержав бурного прилива чувств, повернулся на одной ножке и был таков.
Слитный гул нарастал, приближался. На дворе заплясала факелы, колыхалась толпа, вооруженная дубьем, топорами, рогатинами, вилами. Бунтовщики не тронули капище Баженова: «Э, там одни щепки!» И косматый вал, обтекая Модельный дом, покатил к Чудову монастырю.
В Чудовом бросились искать архиерея. Старец надел мужицкий армяк и скрылся. (В намерении разделаться с Амвросием – явное наущение попов: они не прощали ему запрет поповского торжища на Красной площади.) Исчезновение преосвященного плеснуло маслом на огонь. Окна и мебеля – вдрызг… В ризнице слепли иконные лики – ножами в глаза, ножами… Взлетели, трепеща, клочья древних манускриптов, реяли, вспыхивая в желтых языках факелов, оседали черными мягкими хлопьями… Клочья манускриптов умирали покорно, беззвучно, винные же бочки трещали и словно бы даже повизгивали. Клубились винные пары под сводами подвала, факелы с шипением и чадом гасли, как драконы, на склизких от вина каменных плитах. И этот плотный плеск ячменного английского чина, и этот обвал водочных штофов и полуштофов, этот тяжелый, будто чугунный, стук бутылей венгерского шампанского. И этот рев, как на пожаре: «Дружней, братцы!» Клубились винные пары, шел буреломный гул. Гуляли уже во дворе Чудова, гуляли на площадях Кремля, по окнам метались, как лисы, отблески огней. А звезды стояли ясные, высокие, серебряной чеканки звезды золотой изначальной осени.
И там, вдалеке от Кремля, они были высокие и ясные – над Донским монастырем. Единой грудью выдохнул народ: «Святое место! Здесь нельзя!» Старика в мужицком армяке подхватили, легок был старик, пушинка. Понесли, пихаясь, каждый норовил ухватить за армяк, несли, голова моталась.
За монастырскими воротами, где место уж не свято, бросили старца наземь. Преосвященный медленно поднялся, губы вздрагивали, он искал отрока-послушника. Бедный вьюнош, ты, испугавшись, крикнул этой бессмысленной черни: «Архиерей на хорах!» Отыскали на хорах, волоком, волоком вниз и вот… Фабричный в опорках упоенно взмахнул дубиной и, хэкнув, как дровосек, хряснул смиренного по хребту. Охнув, осел старец, словно в безмерном удивлении. На него кинулись, изорвали в клочья. И отступили, попятились, ошеломленно втягивая головы в плечи. И вот уж, не оглядываясь, подались прочь, быстро растекаясь, быстро рассеиваясь.
Петухи пели в Донском.
Пели на Остоженке тож, на дворе генерала Еропкина.
Сказывали, человек простой и добрый. Судить не могу, однако отмечу: императрица пожаловала генералу орден Андрея Первозванного и тысячу душ; от ордена Еропкин не отказался, тысячу душ не принял – я, мол, сам друг с женой, всего хватает. Уникум!
Высокий, сутуловатый, мерно подрагивая икрами, он выхаживал по зале с навощенными половицами и штофной мебелью. В петушином распеве слышал боевой клич; щурил глаз, как прицеливаясь… Сберегая служивых от морового поветрия, Салтыков, фельдмаршал, переместил большинство воинских команд в Бронницкий уезд. Пока вернутся, голь обратит Кремль в руины.
Еропкин действовал быстро. С бору по сосенке сколототил воинскую команду. Послал за Тверскую заставу приказ пушкарям – везите пушки. Те повезли, да не довезли: охальники из ямской слободы не пустили. Ладно. Генерал раздобыл пушки на Пресне. И двинулся к Боровицким воротам.
У Кремля бунтовщики преградили дорогу. Еропкин ласково, как детям, приказал солдатам:
– Коли!
Пехотинцы ощетинились штыками, бунтовщики расступились. Еропкин подал знак кавалеристам:
– Руби!
Конница, дружно цокая, полетела к кремлевской Ивановской площади, запруженной бунтовщиками. На скаку офицер отменил генеральское «руби» – блеснув шалой улыбкой, крикнул:
– Опохмеляй эфесами!
Толпа слитно шарахнулась и откатилась, побежала; «опохмеляли» недолго – впереди были пушки. Кавалеристы осадили коней, кони заплясали, роняя пену с мундштуков.

Послышался тонкий, дерущий ухо, металлический визг картечи. Со всех колоколен сорвалось воронье, плотной стаей, треща крыльями, заходило кругами над Ивановской, предвкушая обильную тризну. Пало под картечью человек пятьсот; десятки, сотни, отчаянно стеная, ползли, брели, зажимая раны, кто пятерней, кто шапкой, кто полой.
Пехотная команда тем временем приблизилась к Чудову монастырю. Регулярная, мундирная сила и силушка бунтовская, холопская и фабричная, словно бы покачивались на незримых весах. Тихо было, тяжело дышали.
Но вот, как из лесу, грянуло атаманское:
– Бей солдат до смерти!
Громадный, косматый мужичина, кулачный боец Герасим, Москве известный по кличке Кобыла, грудью попер на штыки. Может, в последний миг ощутил за спиною зияющую пустоту, никто за ним не последовал, но нет, не задрожал, как не дрожал на гладком москворецком льду, когда стенка пятилась под ударами встречной стенки.
Штык достал Герасима трижды. Он взревел и, нагнув косматую голову, обрушил кулак-кувалду на здоровенного унтера. Тот повалился бездыханным, но и Герасим тоже – с распоротым брюхом, четвертый штык прикончил. И тогда воинскую команду бросило, как из пращи, на бунтовское скопище…
Чудово побоище угасло впотьмах. Спасские куранты, совсем еще новехонькие, чистым, без трещинки звоном отыграли десять пополудни. Крепкие караулы кряжисто летали у кремлевских башенных ворот.
Всю ночь, однако, бухал набат. Едва развиднелось, толпы, как волны, залили Красную площадь. Караульные надсаживались: «Расходись, хуже будет!», «Бунтовщик», бойчась друг перед другом, во всю глотку требовали: «Еропкина-убивцу давай!»
А тот тишком вершил обходной маневр: из Никольских ворот конницу вывел, из тех же ворот пушки выкатил. Крадучись зайдя в тыл несметных толп, внезапно охлестнул народ картечью и, как давеча, дал знак кавалерии: «Руби нещадно!»
И теперь уж рубили, рубили, а не эфесами шлепали. Свалка была скуловоротная, душа вон. Не бежали бунтовщики, нет, дрались с последним яростным отчаянием, успели даже пушку захватить, успели и развернуть к Спасской башне – ох, фитилей не было, фитилей не было…
В пять часов пополудни беглым шагом вступил в город Великолуцкий полк: восемьсот солдат, в сумке у каждого – сорок патронов. Час спустя сумки были пусты.
Полк встал биваком посреди Красной площади. Ни песен, ни смеха – молчание. И не зажглись в ту ночь ни звезды, ни месяц – тьма кромешная.
8
После Чумного бунта наехал на Москву г-н Шешковский со своими присными. В лубянскую контору Тайной экспедиции призвали «самовидцев бесчинства черни», Баженова и Каржавина тоже.
Осторожно ступая, будто боясь расплескать что-то, вышел к ним г-н Шешковский, оба дрогнули крупной дрожью – вурдалак! Голова была кроваво-красной, на лоб, на щеку текло что-то алое. Морщась, молвил домашним, жалобным голосом: «Очень она меня пользует…» Кто «она»? – оказалось, клюква. Маясь мигренями, Степан Иваныч повязывался тряпкой, вымоченной в густом клюквенном соку. Но хотя треклятая трескотня в мозгах отнюдь не способствовала отправлению служебных обязанностей, г-н Шешковский стоически превозмогал недуг.
Эти двое интересовали секретаря Тайной экспедиции. По разным причинам, но интересовали.
На Баженова хотелось взглянуть, каков из себя один из любимцев наследника престола. (Выше я уже приводил известную сентенцию: руководить – значит предвидеть.) Показания о «злодействе черни» дал Баженов нехотя, но с нажимом показал, что Модельный дом не тронули. Записали. Очередь была за Федором.
Г-н Шешковский смотрел на него с любопытством.
– Да-а-авно о тебе наслышан.
Федора бросило в жар. Сызнова, как в Питере, но сильнее, сильнее проняло чувством без вины виноватости перед батюшкой. Спасаясь от этого чувства, он, вопросов не дожидаясь, объявил, что, ежели здраво судить, московская власть причиною Чумного бунта… Странно, Степан Иванович хотя и пресек горячность молодого человека, однако не озлобился. Странно и то, что, выговаривая Федору за неисполнение отцовской воли, выговаривал опять же не злобно, а, скорее, благодушно.
Приоткрою душевную тайну секретаря Тайной экспедиции.
Он служил государыне истово, а не рабски, пусть и титулуясь неизменно рабом ее величества, но многих из столпов ее царствования презирал. За казнокрадство и взяточничество, за угодничество перед матушкой. Бояре! Он тоже брал взятки и тоже угодничал, да ведь не был же, не был потомственным дворянином, дед в денщиках ходил, отец – в приказных, не из благородных он, его высокоблагородие г-н Шешковский. И если берет, то сие столь же невинно, как прокорм халтурой, даровым угощением на поминках.
Так вот, он презирал «этих» – с младенчества все даром и все им мало. А «эти» презирали Шешковского. Он напускал на себя смирение, скрывая безбоязненность своего презрения. Но тут еще не вся задушевная тайна застеночного чародея.
В секретной сладости его отношения к вельможам бесшумно, как травка, проросло что-то похожее… Право, затруднительно определить отношение Степана Иваныча к людям третьего чина. Милосердие? Оно вообще не было ему свойственно. Снисходительность? Нет. Вот что, однако, примечательно. Бывало, «исследует» да и выставит резолюцию: признавая такого-то развращенным, уповаю, что оный по слабости духа не способен на пагубное деяние. И шабаш, не рвут ноздри, не гонят в Сибирь. Как прикажете понимать? Может, вроде кукиша «этим». Пусть в кармане, а все-таки кукиш. Тайная блажь секретаря Тайной экспедиции. Положим, так, но отчего благодушие в разговоре с Каржавиным-младшим? В пучок сошлось! Малый был первенцем Каржавина. А тот вроде был первенцем его, Степана Иваныча, нешуточного попрания указа о взяточниках. Но если так, почему ж Степан Иваныч не приструнил ослушника отцовской воли? Мешало презрение к «этим»; своих щенков в нарижах холят, они оттель мартышками выскакивают, а наши-то, такие-сякие, на черством хлебушке которые, соколами взлетают.
При всем том, отпуская Федора, назиданье сделал:
– А книжек-то больно много не чти, а то во ереси впадешь…
Ереси? То-то послушал бы Степан Иваныч, какие сюжеты обсуживают в Модельном доме и там, за Москвой-рекой, в Садовническом.
Московский бунт потряс душу. Баженов сокрушался: «Простолюдин подобен вепрю». Каржавин не спорил: «Кровавые нелепости». Тем и исчерпывалось согласие. Не потому лишь, что Каржавина восхищала отвага и удаль простонародья в яростной схватке на Красной площади, восхищал Герасим – Кобыла: «На штыки – грудью!» Нет, обнаружился водораздел. И размышления, как потоки, берущие начало на горном кряже, устремились в разные стороны.
Зодчий, созидающий зримое, как бы изнемогал под властью рационализма. И помышлял о созидании незримого Соломонова храма в душе своей. Каменных дел мастер тянулся к вольным каменщикам. Сущность масонства усматривал не в обрядности и даже не в филантропии. Полагал так: фундамент человеческого братства закладывается по кирпичику; общая гармония произрастет из гармоний «я», из гармоний личностей; начинай не призывом ко всем, начинай призывом к своему сердцу, живи жизнью духа, день без нее не имеет солнца, а ночь – звезд.
Каржавина рационализм не тяготил. День не имеет солнца, ибо солнце в тучах рабства. Ночь не имеет звезд, ибо звезды застит невежество. Рабство и невежество – сообщающиеся сосуды. Упразднив первое, упразднишь второе. Воспаряя в сферы духа, спускайся на грешную землю. Грешной земле нужны решительные перемены. Такие, чтобы заложили фундамент братства.
9
А фундамент Большого дворца закладывали в июне 1773 года. Толпы горожан, запруживая Кремль, теснились, рокоча, под высоким небом с неспешным наплывом обложных туч. Все московские сорок сороков благовестили. Рокот и колокольный звон накрывало, как шапкой, уханье пушек, и это мирное торжество Марса, казалось, останавливало тяжкий и плавный наплыв сизых, с рыжими подпалинами от солнца грозовых облаков.
Архитекторская команда шла церемониально во главе с Баженовым. На массивном серебряном блюде нес зодчий кирпичи из снежно-белого мрамора: один с вензелем государыни, другой – наследника. Бледное лицо Баженова было в крупных каплях пота.
Каржавин знал распорядок. Василий Иванович произнесет речь, совместно сочиненную с поэтом Сумароковым, а потом колокола и пушки грянут, и его сиятельство главнокомандующий Москвою свершит «положение первого камня» в фундамент Большого Кремлевского дворца.
Да, помощник Баженова шествует вместе со всей Архитекторской командой, шествует посреди несметных толп, все наперед расчислено, но помощник зодчего думает: «Пустили пыль в глаза, только всего и есть». Так думает он не о позабытом «Наказе», нет, о нынешнем празднестве.
Государыня, изнемогая под бременем военных расходов, и теперь пускала пыль в глаза. Внемлите, народы, покоритесь, языци – если мы ссужаем миллионы на украшение нашей древней столицы, стало быть, есть и золото в бочках, и порох в пороховницах. Кремлевская демонстрация была царскосельской мистификацией.
В крупных каплях пота прекрасное лицо зодчего Баженова. Вытянув руки, несет он напоказ всей Москве, всей России серебряное блюдо с беломраморными кирпичами. Баженову ли принять тайное известие о пресечении кредитов на строительство Большого дворца?
А помощник зодчего? Сердце сжимается при мысли о несчастии друга. Великий дар! И вот начало конца под этим июньским небом в обложных тучах. Душно!








