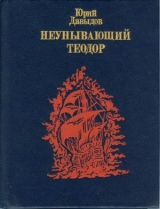
Текст книги "Неунывающий Теодор. Повесть о Федоре Каржавине"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Осмотрительный вице-канцлер опасался вражды англичан и был прав. Опрометчивый контр-адмирал не опасался и попал в беду.
Неудовольствие Потемкина, то, что светлейший прогнал Джонса, а царица не определила его в новую должность, поощрило «бульдогов». Еще громче, еще злобнее заклацали они челюстями и наконец вцепились в горло ненавистного бродяги. Не обошлось, думается, без потачки Степана Иваныча, г-на Шешковского.
Слушайте!
Джонс жил на Миллионной, в шереметевском доме, там квартиры сдавались внаем. Как-то, ненастным утром, сидел он у себя и писал в Париж Джефферсону. Слуга ушел в лавку, на звонок Пол сам отворил дверь. Он и моргнуть не успел, как смазливая девчонка лет этак-пятнадцати шмыгнула в комнаты и давай лепетать – буду, мол, стирать, шить, стряпать… И вдруг повисла на шее у Джонса, покрывая лицо его поцелуями. Сообразив, каков ее промысел, Пол выхватил кошелек, сунул девчонке несколько монет и выпроводил на лестницу. Ей бы кланяться, трудиться-то не пришлось, а монеты, вот они, но девчонка голосила, рвала на себе платье, царапала щеки. Невесть откуда вывернулась как на помеле, патлатая ведьма и тоже заголосила. Сбежались жильцы, дворники, горничные. Старуха и девица, тыча пальцем в обомлевшего Джонса, визжали, как бесноватые: «Обесчестил! Обесчестил!»
В управе благочиния что-то уж больно спешно встали на защиту попранной невинности. Над Джонсом почернело небо. Ему грозил адмиралтейский суд, а там заседало несколько «бульдогов». Он обивал сановные пороги, дальше порогов его не пускали. Дворцовый камер-лакей с наглой улыбочкой указал адмиралу на дверь.
Джонс отчетливо, яростно сознавал, что девку подослали, а ведьму подкупили. Англичане гадили, проклятые англичане! Но кто, кто именно? Даже под угрозой колесования Пол вспорол бы подлецам брюхо.
Его раскаленное отчаяние можно было погасить лишь кровью. Пол Джонс, адмирал, сорока двух от роду, зарядил пистолеты… Но тут-то и вмешалось провидение. Такое случается: за минуту до того, как щелкнет курок, провидение резко меняет курс событий. На сей раз оно вышвырнуло моряка на улицу, будто пылающую головешку. Его лихорадило, прохожие сторонились Джонса. А провидение влекло Пола в 7-ю линию Васильевского острова, в дом Козлова.
Гаврила Игнатьевич еще не закончил поясной портрет Джонса, однако на пороге самоубийства вряд ли помышляют о совершенстве собственного изображения. А раз так, стало быть, именно провидение влекло несчастного в дом профессора живописи.
Гневный и вместе растерянный адмирал вторгся в компанию пирующих. Он озирался, как затравленный. Клянусь, даже у сторожа покойницкой защемило бы сердце. Пригубил бокал и с отвращением отставил. Грохнул по столешнице: «Подлейшая клевета!» Вскочил, стал ходить и рассказывать, как было дело. Его понимал один Каржавин. Прочие, не разумея по-английски, испуганно таращились: господин адмирал рехнулся.
Заступник нужен, заступник, решил Каржавин, ужасаясь положению Джонса. Сильного мира сего, казалось Федору Васильевичу, можно было бы без особого труда сыскать среди знакомых там, где мир перевернулся вверх тормашками, но здесь… Он будто бы лбом уткнулся в шлагбаум. И вдруг как осенило: Сегюр!
В филадельфийском отеле «Тронтин» граф Сегюр провозгласил: «Каждый, кто воюет за свободу Америки, мой ратный товарищ!» Теперь граф представлял Францию при дворе петербургском. Веселый, остроумный, он пленял высший свет; пленяя, обзавелся важными дворцовыми связями и в Петербурге, и в Гатчине, у наследника престола.
Итак, нынешний посланник протянет руку бывшему ратному товарищу? Увы, дипломатическая служба не только не способствует расцвету товарищества, но и предполагает увядание этого похвального чувства.
Ах, как радостно каяться – худо думать о человеке, а тот, оказывается, способен на порывы благородства.
Сегюра тоже возмутило непотребство, учиненное «бульдогами» над бесстрашным шотландцем. Свежее лицо посланника – приятная вмятинка на подбородке, темные блестящие глаза и подвижная, словно бы порхающая, когда он смеялся, левая бровь, – лицо его выразило досаду, гнев, озабоченность. Собравшись с мыслями, он взял бумагу, обмакнул перо и стал писать.
Около полуночи карета Сегюра остановилась у ворот шереметевского доходного дома на Миллионной. Граф взбежал на третий этаж. Он застал Пола в мрачно-нетерпеливом ожидании.
– Полноте, дорогой адмирал, успокойтесь, – мягко сказал Сегюр. – Кажется, и на море бывают бури, а? Не так ли? – И протянул заготовленное письмо на высочайшее имя. – Перепишите и подпишите. Отправьте почтой: императрица запретила вскрывать письма, ей адресованные. Она выслушала клевету. Пусть теперь выслушает опровержение клеветы. А я, – замкнул посланник, – я, дорогой адмирал, постараюсь все уладить.
Луи-Филипп Сегюр постарался. Грозовая туча адмиралтейского судилища растаяла. Но, увы, это же верно: клевещите, клевещите, что-нибудь да останется. Все уладить не удалось. Нового назначения Джонс так и не получил, а получил двухгодичный отпуск, в сущности увольнение вчистую.
Он уезжал осенью. Лил дождь, лохматил лужи ветер. Джонс ехал в Варшаву, далее – в Париж. Каржавин дал ему письмо и деньги для Лотты.
5
Враги человеку – домашние его. Под отчей кровлей ели поедом, и Каржавин отряс прах со своих ног. Поселился сперва в 15-й линии Васильевского острова, потом перебрался на Екатерининский канал.
Жил скудно. Лотте посылал изредка; она обижалась на его скаредность, он – на ее обиды. Экономный во всем, себя не экономил. Спозаранку дотемна писал, переводил. Писал трактат об американской революции. Переводил пусть и чужое, по душе близкое – с французского и английского.
В те времена гонорар определяли так. Возьмет покупщик-издатель рукопись – плод непорочного зачатия, трудов и вдохновений, – подержит на ладонях да и шмякнет на весы.
– Тэ-экс, извольте двести рублев ассигнациями.
А ты, автор, ты бумаги, чернил да свечей извел на двести пятьдесят. Но покупщик неумолим.
Скудно жил Каржавин, однако как не накрыть стол для тех, кто не живет хлебом единым.
Эти петербуржцы в разбитых сапожонках, в одежке на рыбьем меху, эти писаря, регистраторы, выученики Академической гимназии, младшие служители кадетского корпуса, эти люди третьего чина были милы Каржавину своим неприятием самодержавства, ломоносовское верой в знание, ощущением в себе энергии первого толчка.
Чаще всех приходил к Федору Васильевичу Федор же Васильевич. В Кречетове, отставном поручике, было сходство с Полом Джонсом – вспыльчивость, страстность, неуживчивость. Да и некоторое внешнее сходство – низенький, жилистый, быстрый.
В молодости Кречетов служил аудитором Тобольского полка Финляндской дивизии; дивизионным обер-аудитором был Радищев. Не утверждаю, будто обер-аудитор и в неслужебно влиял на подчиненного аудитора. Утверждаю: годы спустя, когда на Петровском острове и в своем городском доме на Грязной дописывал Александр Николаевич «Путешествие из Петербурга в Москву», тогда же на Екатерининском канале, в сиром и сумрачном каржавинском углу выписывал Кречетов страницы из американского путешествия своего тезки. Потом отдавал верным друзьям для снятия копий – поручение мучительное: неразборчивость почерка могла свести с ума. Копии пускал по рукам; «рук» не жадных, а жаждущих находилось немало. [44]44
Историк литературы В. П. Семенников подчеркивал, что в Петербурге 80-х годов XVIII в. распространялись рукописи об американской революции. «Ст. Р.».
[Закрыть]
Бывший аудитор исполнял поручения клиентов по разного рода судебным тяжбам. Пробавляясь на медяки, громоздил циклопические проекты – от упразднения крепостного состояния до «скороучения читать и писать», от введения конституционного правления до учреждения «общего банка». Каржавин, случалось, посмеивался над его «булыжным» слогом. Кречетов огрызался полушутя-полувсерьез: меня, мол, не холили в коллеже.
Он сам себе был коллежем. Каржавин дивился его начитанности. И ставил выше всех, с кем свел знакомство в России.

Кречетов был человеком дела. Он учредил просветительское общество; выдал в свет журнал «Не все и не ничего». Обладая аттестатом учителя словесности, намеревался открыть училище. Ему говорили: «Зачем? Милостью государыни они уже есть». Он саркастически усмехался: «Государыня только по губам мажет. Тщеславия у царей всегда с избытком». И объяснял близким людям: «Не такие заведем школы. А такие, чтобы учить простолюдие, баб тоже, не одной лишь азбуке, нет, – направлению к вольности, отвергающей всевластие самодержавия». В годы полковой службы присмотрелся к солдатам, разделил угрюмую, тяжелую, неизбывную ненависть к барам, равно цивильным, статским и к армейским да гвардейским. И теперь, доверяя сокровенное ближайшим из близких, говорил: «Убеждать надо солдат, любым предлогом пользоваться и убеждать: без вашей, ребята, подмоги мужики так и пребудут в позорном ярме, а вот ежели вы, ребята, в урочный день командиров-то к ногтю, вот тогда…»
Колючий и гневливый, не имея за душой и гроша, имел он в душе сокровище – недремлющую совесть. И Каржавин не только уважал Кречетова, нет, любил. Сильно, скрытно, нежно любил. (Несколько лет спустя, в девяносто третьем, убивался Каржавин, плакал, слез не стыдясь, – Кречетова заточили в крепость Петра и Павла. [45]45
Ф. В. Кречетов был арестован в мае 1793 г. Содержался в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, затем в Шлиссельбурге. Из заточения вышел в 1801 г. Вольной, измученный, отправился в пермскую ссылку.
Сравнительно недавно обнаруженное «Дело по просительному письму…» Ф. В. Кречетова, датированное 1808 г., свидетельствует о несломленности его духа: он добивался разрешения издавать книги. Бумаги Ф. В. Кречетова, составляющие шесть томов, находятся в Центральном государственном архиве древних актов (Москва). «Ст. Р.».
[Закрыть]) Сдается, и Кречетов платил Каржавину той же монетой. Не было случая, чтобы вспылил, поссорился. Напротив, замечалось даже и нечто ему несвойственное – что-то похожее на смирение: Федор Васильевич Каржавин воочию видел революцию, восставший народ видел. Передуманное там не коснело, не остывало, а сызнова обдумывалось здесь, под крышей дома на Екатерининском канале. И с пером в руке, зависавшей над раскрытой чернильницей. И за столом в час вечерних собраний.
Учительство было его призванием. Оно брезжило еще на берегу Сены, на антресолях, где мальчик Теодор учил грамоте девочку Лотту. И в Троицкой лавре, где коллежский актуариус натаскивал семинаристов. И потом, и Виргинии, где его ученики зубрили французские вокабулы. Покойный дядюшка Ерофей внушал племяннику: уча других, мы учимся сами. Но лишь теперь, вечерами, за столом, глаза в глаза, лишь теперь это обрело отнюдь не школярский смысл.
Когда королевская рать сложила оружие, Радищев сложил оду. Жалея о личном неучастии в американской войне за независимость, славил воинов-победителей. Обращаясь к Америке, восклицал: «Ликуешь ты!»
В послевоенной Америке Каржавин видел то, что провидел Джефферсон: спуск по склону холма, небрежение правами народа. Негодовал: власть по деньгам возрастает, древо Свободы не зеленеет. [46]46
Критическое отношение Ф. Каржавина к послереволюционной Америке косвенно подтверждается некоторыми строками письма к нему из Вильямсберга от К. Беллини (1788 г.). «Ст. Р.».
[Закрыть]
Радищев в оде «Вольность» пел победителей. Каржавин скорбел о фермерах Даниела Шейса. Обращаясь к Америке, Радищев восклицал: «Ликуешь ты!» И прибавлял: «…а мы здесь страждем!..» Теперь он знал – Америка уже не ликует, а «мы здесь» еще страждем.
Но навещал ли Каржавин Радищева? О, странные законы памяти – не смею ответить утвердительно. Однако, перечитывая «Путешествие», слышу и американский мотив, навеянный неким другом. Нет, гадать не буду. Не потому лишь, что боюсь наврать, а и потому, что шибко подался вперед и пропустил событие чрезвычайное: летним днем восемьдесят девятого года столичные «Ведомости» уныло, как на панихиде, известили о парижском мятеже и падении Бастилии.
Какой день, читатель, какой день!
Незнакомые люди обнимались на улицах, поздравляя друг друга. Глаза Кречетова блистали слезами восторга. Голос Каржавина пресекался: «Вельможи нам кажутся сильными только потому, что мы на коленях. Так встанем же!»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Маститого ученого спросили однажды, какие документы прошлого обладают на его взгляд наибольшей ценностью.
– Если бы вы, – улыбнулся метр, – предложили антиквару неопубликованное письмо Наполеона, вы сразу стали бы богатым человеком… Минутку, мсье, – уже серьезно продолжал метр. – Минутку! Вот если бы в ваших руках оказалась совсем простая вещь… Ну, скажем, приходо-расходная книжка времен революции: сколько заплачено за пучок лука в день взятия Бастилии, сколько стоил фунт хлеба в то утро, когда королевская голова слетела в корзину… Вот такая простая вещь, понимаете? Вы несете ее антиквару и, буде он предложит вам столько золота, сколько весят эти записи, пошлите наглеца ко всем чертям. Вы должны получить куда больше! Да-да, такие документы – клад для историка.
«Кувшин Перетты» не назовешь приходо-расходной книжкой, хотя будни революции, включая «пучок лука» и «фунт хлеба», отразились в Лоттиных тетрадках. Отнести антикварам? Дудки! Держу при себе. И заглядываю в этот «Кувшин», описывая дальнейшее.
2
Теодор уехал, Лотта сменила гостиницу «Иисуса» на затхлые меблирашки, населенные прощелыгами. Конечно, дешевле, но какая неосмотрительность: триста ливров, присланные Теодором на акушера и сиделку, как ветром сдуло.
Лотту выручили супруги Плени. Если бедняки не всегда добряки, то и добряки не всегда бедняки: Плени владели гостиницей.
Они ничем не были обязаны Лотте. Наоборот, она была обязана г-же Плени несколькими заказами на шитье. Теодор клеймил скаредность буржуа вообще, парижских в частности. Он был не совсем не прав. В отношении же супругов Плени оказался бы совсем не прав.
Люди почтенные, они испытывали желание отдаться заботам дедушки и бабушки. И обратить свои заботы не на мальчика, а на девочку. Правда, это желание шло вразрез с желанием Теодора, ожидавшего сына, но Лотта не возражала. Когда же она, расплакавшись, призналась в своем «банкротстве» – утрате трехсот ливров, – старики забрали Лотту из меблирашек и поместили у себя, на своих хлебах. А когда Лотта заверяла в непременном погашении долга, они махали руками, как маленькие мельнцы на картинке из детской книжки.
Она сообщила мужу о перемене адреса и перемене обстоятельств. Ответ Теодора дышал нежностью: «Целую тебя, по крайней мере твое изображение», – у него был Лоттин портрет, им же исполненный. [47]47
Ф. Каржавин был отличным рисовальщиком. Альбом его хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. «Ст. Р.».
[Закрыть]
В конверте находилось и письмо для Плени. Оказывая внимание моей жене, писал Каржавин, вы, сударь и сударыня, отдаете дань человечности; вскоре ей потребуются особые услуги, прошу вас, помогите; если возникнет опасность, пожалуйста, спасите мать даже за счет ребенка; не отказываясь жить ради него, мне хотелось бы жить для него только вместе с матерью.
Роды близились. Старики удвоили заботливость. Запретили Лотте даже рукоделие, требовали долгих прогулок. И она гуляла часами, пока боль в пояснице не уложила ее в постель.
Акушер ничего не понимал. Лотте стало совсем невмоготу, г-жа Плени послала за другим акушером. Этот мял и ломал бедняжку так, словно она не хотела подняться на эшафот, воздвигнутый посреди Гревской площади. Опуская в карман гонорар, палач объявил, что мадам вообще не беременна, а опасно больна и ей давно пора лечиться, но только не у акушеров. В прихожей добавил с уха на ухо: она не протянет и полгода.
– О чем вы с ним говорили? – спросила Лотта, приподнимая голову с подушки.
– Милая, он сказал мне не больше, чем вам. Я не верю ему.
Г-жа Плени не отходила от Лотты ночь напролет. Утром отправилась за другим врачом. Этот ощупывал грациозно. Его заключение гласило, что мадам, несомненно, беременна, нужно брать ванны и пить воду вишийскую или седлицкую.
Лотта послушно исполнила назначения, и наконец началось. Последнее, что запечатлелось в ее меркнущем сознании, было выражение крайнего любопытства на физиономии грациозного медика и отчаяния в глазах г-жи Плени.
Позже, когда уже все было позади, она передала Лотте резюме эскулапа: «Мы с вами, любезнейшая, свидетели феномена – мясо и кровь, и ничего больше».
Поправлялась Лотта на удивление быстро. Минула неделя – передвигалась по комнате без посторонней помощи. Но даже уйди Лотта на край света, она не ушла бы от тоски. И прежде случалось печалиться, тосковать, но прошлая тоска была усиленным продолжением печали, а эта была иной, никогда не испытанной, телесной.
Теодор, известившись, утешил Лотту. Теперь, написал он, меньше забот, меньше трудностей, покоримся и начнем сначала… Грубоватая, нарочитая бодрость, маскирующая страдание? А на Лотту так и прянуло равнодушной холодностью, у нее брызнули слезы, и сквозь эти слезы она взглянула на письма Теодора.
Первое – после отъезда – было из Гавра. Ни тени грусти! О, конечно, на крыльях летел в Россию, да ведь та, которой он писал: «моя дорогая жена», осталась в Париже. И вот ни тени грусти, просто-напросто подробности. Начиная от приятности путешествия в наемном кабриолете (дилижанс обошелся бы втрое дешевле, но дилижанс, видите ли, оказался переполненным) и кончая прекрасной постановкой танцев на сцене гаврского театра. Ни единым звуком не обмолвился о чувствах, которые, казалось бы, должны были быть особенно острыми в первые дни разлуки. А ведь ее сердце трепетало от страха за Теодора. Едва корабль оставил Гавр, над Францией разразилось бедствие. Небо ниспослало не град, а куски льда фунтов по восемь, даже и вдвое весомее. Многие провинции сильно пострадали, нижнюю Нормандию постигло наводнение. О, с каким ужасом она думала, каково на море. Теодор родился в рубашке, ничего не приключилось, о чем он и удосужился известить лишь полтора месяца спустя.
Неделя за неделей, месяц за месяцем Лотта жила ожиданием его писем. А письма приходили все реже. Нет, Лотта не допускала мысли о том, что Теодор ведет недостойную игру, однако срок супружеского воссоединения оставался неопределенным, и эта неопределенность была худшей изо всех, что существуют на свете.
К тому же эти редкие, нерегулярные поступления денег или векселей. У Теодора скверное обыкновение: вместо того чтобы прибегать к посредству голландских банкиров, обеспечивающих семь с половиной процентов, он зачастую полагается на оказии. Вот и стучись в чужие двери, как просительница, – омерзительно, утомительно, обидно.
Лишь однажды оказия выдалась аккуратной. Едва приехав в Париж, Пол Джонс представился мадам Каржавиной. В «Кувшине Перетты» отмечено: «Человек в высшей степени благовоспитанный». [48]48
П. Джонс умер в июле 1792 г. Революционная Франция проводила его в последний путь депутацией Национального собрания. Это вызвало злобную реплику Екатерины II: Пол Джонс «совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом». «Ст. Р.».
[Закрыть]Он лестно отозвался о Теодоре, и это не вызвало поджатия Лоттиных губ – она сразу прониклась доверием к г-ну Джонсу. Э, упреки Теодора были бы тут и вовсе неуместны. Совершенно неуместны!
Теодор, случалось, раздраженно упрекал жену за то, что она прежде всего видит в его знакомых недостатки, а не достоинства, и что в такой предвзятости кроется ее, Лоттин, собственный недостаток. Она отвечала, что жизнь развеивает иллюзии и что его, Теодора, знакомые, считавшиеся даже друзьями, нимало ею не интересовались во все годы его отсутствия. Теодор пожимал плечами: «Твоя гордость слишком требовательна, ты желаешь, чтобы тебя ценили так же, как меня. А еще больше желаешь, чтобы меня не ценили, дабы я не переоценил самого себя».
Право, не так уж и ошибался Каржавин. У Лотты, когда хвалили Теодора, словно бы повышалась кислотность. Не то чтобы она так уж опасалась зазнайства, задранного носа. Нет, другое. Странно, но похвалы Теодору отзывались в душе как бы умалением, если не отрицанием, ее собственных достоинств. Он неутомим, он трудолюбив? Ха, что ж тут такого! Каждый, кто не рожден с фамильным гербом на заднице, трудится в поте лица. Он пи-и-ишет? Прекрасно! Но сие вовсе не значит, что он занимает особое место под солнцем. У каждого свое «перо» и своя «чернильница», будь то башмачник, будь то швея. А его отношение к парижским друзьям? Когда-то она была доверчивой; минувшие годы сделали ее подозрительной, она сильно сомневалась в искренности парижских приятелей Теодора. И еще: любишь жену, оскорбись за жену. Этого не было, и это было оскорбительно.
И все же после того, как Теодор уехал в Россию, она навещала его парижских знакомых. Однако не учтивости ради, а ради исполнения мужниных поручений: он заказывал типографский шрифт, клейма, штемпели, слал граверам-картографам карты Балтики и Крыма, книги… Лотту расспрашивали, каково Каржавину после столь долгого отсутствия? Все хорошо, все очень, очень хорошо, отвечала она, то есть говорила обратное действительности.
Да, отдавала визиты, скрывая неприязнь, смиряя гордыню, умеряя подозрительность.
Вот уж чего не было, так не было, когда визиты отдавали ей, ибо визитерами были не парижане, а русские, жительствующие в Париже, – г-н Дубровский, секретарь посольства; отец Павел, священник посольства.
Первый – дородный и румяный, лукавый и добродушный – казался Лотте более русским, нежели второй – бледный, нервный, горячий. Но оба были соотечественниками Теодора, и это решало дело – веяло приобщением к его родине и почему-то вселяло надежду на скорую встречу.
Этой встречи и они желали, но не там, в Петербурге, а здесь, в Париже. В тождестве желания отсутствовало тождество мотивов, хотя последний определялся одинаково: французские условия очень бы споспешествовали трудам Федора Васильевича.
Лотта недоумевала – что за условия, какие? Революция – это множество «нет»: нет хлеба, нет дров, нет заработка, нет свечей. Условия!
Дубровский, соглашаясь, стоял на своем: нет управы благочиния, нет цензорства полицеймейстеров. «Менее русский», не оспаривая Лоттиных «нет», отодвигал их в сторону: в годины революций его бывший учитель дышит полной грудью – мысленным оком он видел Каржавина в городе, где гудит набат.
3
Гудел набат и в ночь на понедельник. Поднял бы на ноги весь Париж, если бы весь Париж спал. До сна ли беднякам? – дети терзали душу протяжным, жалобным: «Хочу-у-у е-е-есть… Е-е-есть хочу-у-у…»
А в версальском зале пировала королевская гвардия. Топтала трехцветную патриотическую кокарду, нацепляла белую, королевскую, дамам прикалывала на платье белые королевские лилии. В разгар оргии Людовик вернулся с охоты. Пирующие обнажили шпаги: «Государь, разгоним чернь!»
Звон версальских бокалов отозвался парижским набатом.
Лотта увидела толпы женщин. Кричали о заговоре версальцев, намеренных покончить с Национальным собранием. Кляли короля и королеву, королеву злее и непристойнее. Кричали, что короля со всем его выводком надо привезти в Париж, как заложников, и пусть-ка аристократы шевельнут мизинцем.
Затрещали барабаны, солдаты вышли из казарм. Женщины простирали руки: «Дайте нам оружие!» Солдаты смеялись: «Ступайте в ратушу! Берите даром!»
Раздобыв оружие в Отель де Виль, тысячи женщин устремились на площадь с конной статуей Людовика XV. Этот сладострастник говаривал: «После меня хоть потоп», – и вот потоп запруживал площадь, где в девяносто третьем гильотинируют его внука.
Оттуда, с площади, по очереди впрягаясь и катя пушку; тоже захваченную в ратуше, двинулись через весь город, к заставе, к дороге на Версаль.
День был холодный, то грозно блистающий осенней синью, то грозно шумящий проливным дождем. На лафет вскакивала, размахивая саблей, Теруань де Мерикур, амазонка революции – шляпа с большим пером, талия стянута широким кавалерийским ремнем, голос сильный и звонкий: «Мы победим!»
Шествие миновало заставу и, обретая стройность, устремилось по дороге на Версаль. Из задних рядов передавали, что следом идут ремесленники и грузчики во главе с великаном Журденом, мясником Крытого рынка, известным парижанам по кличке Головорез. На Лотту он всегда производил неприятное впечатление – воплощенная кровожадность, – но теперь она была рада, что этот Головорез тоже направился в Версаль.
А национальные гвардейцы все еще оставались в городе. Они пререкались со своим начальником маркизом Лафайетом. Герой американской войны, похвалы которому не однажды слетали с уст Теодора, медлил с приказом о выступлении. Он сел на коня лишь после того, как услышал: «В Версаль или на фонарь!»
Лафайет пришел в Версаль поздним вечером, а там уже с четырех пополудни гремело: «Хлеба! Хлеба!»
Все началось у дворцовой ограды, сквозь которую виднелся огромный двор с отрядами лейб-гвардии и еще каких-то полков.
Женщины приблизились к начальнику караула.
– Пропустите нас, господин офицер.
– Это невозможно, – надменно ответил лейтенант. – Да и не к чему.
– Надо бы потолковать с королем.
– Чего вы хотите от его величества? – брезгливо осведомился лейтенант.
– Сущего пустяка: пусть подаст в отставку.
Раздался хохот: «В отставку! В отставку!»
И парижанки в замызганных юбках сплясали сарабанду. Еще не отдышавшись, крикнули:
– Ну и довольно, ребята! Отворите, мы пойдем к нему.
Караул не двигался.
– Не хотят, – пронеслось над толпой. – Не хотят!
– Ну так глянем на них в подзорную трубу!
Толпа расступилась.

Жерло пушки, облепленной дорожной грязью, уставилось на гвардейский караул. В толпе, пришедшей из Парижа, была и прислуга, но только не артиллерийская. Никто не управился бы с этой пушкой, да она и не была заряжена. Однако караул внезапно открыл огонь.
Лотта будто оглохла. К ногам ее упала девушка, передник мгновенно набух кровью Лотта отшатнулась, ее затолкали, завертели, едва ие сшибли, и вот уже ее несло, как в ревущем потоке, – на караул, на ограду, на дворец.
– Хле-е-еба! – прокатилось под дворцовыми окнами.
– Хле-ба, хлеба, – дробилось о дворцовый фасад.
– Хлеба-а-а-а, – взлетело выше дворцовой крыши.
А там, во дворце, тряслась губа королевы: «Решайтесь! Надо же решиться…» Король мямлил: «Осторожно… Необходима осторожность…» Наконец он решился, но совсем не на то, чего требовала королева: принял депутацию.
Потом говорили, что при виде короля депутация оробела. Людовик ободрился: мегерыоказались нестрашными. Он приобнял одну из них и велел передать товаркам, что король прикажет накормить своих добрых подданных.
Тем временем в рядах лейб-гвардейцев все громче раздавались призывы покончить с «рыночными торговками» и «парижскими шлюхами». Однако солдаты других полков, совершенно не считаясь с обстоятельствами, позволили себе роскошь дискуссии о средствах достижения «победы над бабой». Все соглашались, что холодным оружием ее, шельму, не проймешь; несогласия и притом резкие обнаружились в рассуждениях на тему, что предпочтительнее: ружье или пушка? – первое быстрее перезаряжается, зато удар второй мощнее. Бесспорным же было то, что лейб-гвардейцы не дождутся поддержки этих двух полков, недавно расквартированных в Версале.
Но вот вернулась депутация. Посулам его величества никто не поверил.
– Король врет!
– Австриячку – на вертел!
– Хлеба! Хлеба!
Стемнело. Полил дождь, деревья зашумели. Слышалась перебранка лейб-гвардейцев с армейцами. Мелькали огни. Около полуночи прибыли парижские национальные гвардейцы. Спешившись, Лафайет отправился во дворец.
– Вот явился Кромвель, – зашипели придворные. – Он обезглавит короля.
– Кромвель не явился бы один, – обиделся маркиз.
Лафайет заверил Людовика в своем желании избежать крови. Ваше величество, надо взбрызнуть огонь мятежа водой уступок. Пусть лейб-гвардия, увы, ненавистная народу, покинет дворец, а караулы займет Национальная гвардия. И тогда он, маркиз Лафайет, ручается за безопасность их величеств. Людовик вяло согласился. Во втором часу ночи дворец затих.
Дрожа от сырости, Лотта прикорнула под какой-то аркой рядом с оранжереей. Отошедший день был днем движения, действий. Лотту поглощало чувство единения, согражданства, а теперь, в сырой версальской тьме, это чувство, поникнув, съежилось; Лотта ощутила усталость и беспомощность. Она забывалась тяжелой дремотой, пробуждаясь внезапно, пугалась так, словно сейчас умрет, потом опять дремала, поникнув и ежась.
И вдруг вскочила, словно ее ударили по лицу.
– Ага! – воскликнул тот, кто направил на нее фонарь.
Сердце Лотты билось неровно, быстро.
– Мадам, – сказал тот, кто держал фонарь, – не бойтесь, это я, Максим.
Белым днем в Париже Лотта сразу признала бы драгуна, одного из гостей Каржавина в отеле «Иисуса», но сейчас, здесь, признала не сразу, а Максим уже набросил на Лотту свой мундир, заставил вдеть в рукава и весело приказал: «Вперед, мадам! Наши уже там!»
Лотта очутилась на плохо освещенной дворцовой лестнице, услышала топот и голоса и, еще не понимая, что же, собственно, происходит, прониклась давним, позабытым детским азартом, с каким бежала вверх по крутым склизким ступенькам, когда Теодор, он же разбойник Мартен, беспощадный мститель за бедняков, брал штурмом Пале-Бурбон и, оглядываясь на Лотту, патетически шептал об ортоланах, воробьиных филе, лакомстве вельмож. А драгун Максим опять рассмеялся: «Скорее! Мы опаздываем в театр!»
Тот самый лейтенант, что не хотел пропустить женщин, а потом внезапно открыл огонь, этот командир лейб-гвардейцев – в правой пистолет, в левой шпага – отважно сопротивлялся натиску взбесившейся толпы. И это его вопль донесся со ступеней мраморной лестницы: великан Журден оторвал лейтенанту голову. И вот уж она кивала, покачиваясь на острие пики.
Шум схватки разбудил Лафайета. Длинноногий рыжий маркиз, соскочив с постели, ринулся на звон оружия. Вскочил на стол, раскинул руки, воззвал натужно – прекратите насилие! Негодующий клич едва не опрокинул маркиза:
– Короля в Париж!
Лафайет опрометью бросился в апартаменты Людовика. Извинился за беспорядок в своем туалете, склонился в глубоком поклоне: добрый народ желает видеть доброго короля в столице королевства. Опустив глаза, Людовик согласился.
Запрягли лошадей. Остатки дворцового рыцарства, обнажив шпаги, выстроились по бокам королевского экипажа. Но сказано было:
– Шпаги – в ножны или головы – на пики!
Рыцари покорились. Король, шмыгая носом, вымученно улыбался. Королева, поводя плечами, зябко куталась в черный траурный плащ.
Ликующая процессия двинулась, кто-то весело крикнул:
– Версаль сдается внаем! [49]49
«Поход на Версаль» состоялся в октябре 1789 г. «Ст. Р.».
[Закрыть]
4
За годы отсутствия Каржавина число петербургских книжных лавок значительно возросло, и это не «статистика», а на самом деле: была одна-единственная, теперь – пятнадцать, двадцать. Большей частью в Гостином и поблизости от Гостиного.
Иоганн же Карлович Шнор обосновался на Мойке, рядом с Демутовым трактиром, в доме 283. (Несколько лет спустя в доме 284 открылся первый в Петербурге писчебумажный магазин; торговали прекрасной бумагой: возьми с золотым обрезом, возьми без золотого обреза – летит перо, как пух от уст Эола.)
Так вот, г-н Шнор, человек осмотрительный и основательный, держал лавку на Мойке. Не поручусь, что некий сын туманного Альбиона, окажись он в Петербурге, вышел бы из его лавки с пустыми руками. Этот малый был не промах – скупал по дешевке заведомый книжный хлам, дабы правнуки разбогатели: ведь хлам-то с течением времени все дороже, все дороже, словно бы в водах этого могучего течения смывается дрянь и обретаются свойства не только почтенные, а и достопочтенные. Малый, скупающий макулатуру, был, право, не дурак. И какая трогательная забота о потомстве! [50]50
Вероятно, имеется в виду персонаж книги Г. Девиса «Путешествие по библиотеке страстного охотника до книг…», изданной в 1822 г. в Англии. «Ст. Р.».
[Закрыть]
Макулатура, однако, занимала в лавке темный угол, сочинения серьезные теснились на полках. В год, о котором сейчас речь, то есть 1790-й, у г-на Шнора продавался трактат Себастьяна Леклерка об архитектуре в переводе Каржавина. Надо было видеть, как Федор Васильевич оглаживал, ощупывал, перелистывал свежее типографское изделие. Да вдруг и нахмурился. Блеснув глазами, словно испепелил оборот титульного листа – дозволение печатать удостоверяла управа благочиния:








