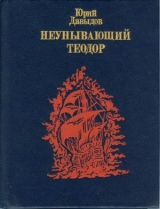
Текст книги "Неунывающий Теодор. Повесть о Федоре Каржавине"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Лотта, ученица белошвейки, по-прежнему жила в ветхом, неопрятном доме на левом берегу Сены. И по-прежнему любила Теодора. Правда, Теодор переселился на улицу Сен-Жак – дядюшка Ерофей, прощаясь с Парижем, устроил племянника пансионером состоятельного букиниста г-на Гериссана. Правда и то, что г-жа Гериссан, ужасная злюка, отпускала Теодора только в коллеж. Но Теодор ради Лотты сбежал бы даже из Бастилии. Лотта гордилась Теодором – крестик в петлице: знак победителя в классных состязаниях, происходивших каждую пятницу.
Федор считался не просто успевающим, а преуспевающим. Он подавал сочиненья на сорбоннские конкурсы. Профессоры усматривали самостоятельность суждений и умелость изложения. Однако лаврами не венчали.
Лотта ошибалась, думая, что г-жа Гериссан никуда не пускает Теодора. Это не совсем так. Он бывал в особняке на тихой улице де Граммон. Обязанности нашего посла при версальском дворе отправлял Дмитрий Алексеевич, князь Голицын. Дидро говорил: князь не кичится значительностью своего положения и происхождения; не рассудочно, а душою верит в равенство людей всех состояний; из титулов чтит первый – титул человека… Серьезный дипломат был и серьезным ученым; его занимали физика, астрономия, политическая экономия.
Дмитрий Алексеевич привечал отпрыска московских ямщиков: «Из сего молодого человека может быть со временем искусный профессор». Лестная аттестация была по душе Федору; он мысленно показывал кукиш сорбоннским метрам.
А в доме букиниста его не баловали.
Г-н Гериссан принадлежал к тем книгопродавцам, которые, слава богу, не переводятся, хотя и редчают: дорожил не столько красной ценой товара, сколько посильной помощью ученым мужам. Никому бы и в голову не пришло спросить в его лавке издания «Голубой библиотеки» – перелицовки ветхих рыцарских романов. Не могу, однако, утаить и позорное обстоятельство: букинист был из жалкого племени подкаблучников. Супруги боялся больше, чем вельзевула. Впрочем, что странного? В существовании вельзевула г-н Гериссан крепко сомневался; в существовании г-жи Гериссан сомневаться не приходилось. А Федор уподоблял ее собаке г-на Вольтера – той, что рычала даже на собственную тень.
Тайком, не у себя, в Лоттиной комнатенке Федор писал родителю: свободные дни сижу дома, а с дядюшкой, бывало, осматривал библиотеки и кабинеты ученых; просил г-жу Гериссан заменить на моем черном камзоле шерстяную подкладку летней, но она этого не захотела; на деньги, присланные вами, купил книг по философии и физике, ботанике, хирургии, химии, остальные придется отдать г-же Гериссан; у нее сохраняется мой пенсион, но она никогда не дает мне отчета; словом, ничего не было бы лучшего, как избавиться от г-на и г-жи Гериссан.
И вдруг студент избавился от тирании.
Избавитель был высоколобый, плотный, плечистый. Книги выбирал тщательно, это нравилось букинисту. Держался с некоторой важностью, это нравилось супруге букиниста. Несмотря на молодость, состоял членом нескольких академий, это внушало почтение и букинисту и его супруге. Откажешь ли г-ну Баженову, желающему прогуляться со своим соотечественником? Извольте, мсье! Как вам будет угодно, мсье!
Берущие на поруки снисходительны; Баженов охотно отпускал Федора к Лотте. И, отпустив, провожал улыбкой завистливой. Право, он бы тоже отправился к возлюбленной. Увы, его солидность, его серьезность, видать, пугали Эрота, и этот шалун не решался натягивать свой гибкий лук.
Впрочем, Федор чем дальше, тем чаще устремлялся не к Лотте, а к Баженову. Он увидел Париж его глазами. Площадь Дофина прекрасна, Королевская площадь очень хороша? Несомненно. Но город, мой друг, надо зреть словно бы с высоты птичьего полета. Париж прелестен частностями. И плох в целом, у него нет капитальной идеи… Баженов импровизировал. Импровизации не витали над Сеной – витали над Москвой-рекой. Баженов был свободен в самом несвободном из искусств: оно требовало примирения, казалось бы, непримиримого – эфирной фантазии и грубого материала, вдохновения поэтического и вдохновения геометрического.
Слушая Баженова, Федор слышал звуки родной, позабытой речи. В устах Василия Ивановича была она величавой, подчас выспренной. Федор обладал, так сказать, филологическим слухом, но тут другое: в звуке был зов. Он ощутил свое житье в стороне, как бы на обочине, и это вызывало прилив тоски, внятной, как тонкий запах кипарисовых карандашей и теплый запах заготовок для архитектурных моделей, отдаленно напоминающий пасечный, в тесной квартирке на улочке Фромантен.
Теперь уж Федор не просил избавления от Гериссанов – просил вызволения из Парижа: государь мой батюшка, ссудите деньгами на дорогу; даже и постель продал, на соломе сплю, а все не хватает; ссудите, батюшка, домой надо, хоть в солдаты, хоть в чистильщики сапог, кем угодно, куда угодно, лишь бы домой, в Россию.
Ему было трудно расставаться с Лоттой, но и тяжко оставаться в Париже. Есть любовь к женщине, но есть и любовь к судьбе. Последнее не всегда нечто фатальное, нет, иногда иное, совсем иное – неодолимое желание испытать судьбу.
Деньги были присланы. Пусть возвращается, решил Василий Никитич, знания у Феденьки достаточные, дабы успешно подвизаться в большой коммерции.
Каржавину исполнилось двадцать от роду. Уехал он в 1765-м, на одном корабле с Баженовым.
2
Маменька обнимала первенца:
– Ох, кожа да кости… Ох, чужбинка-то непотачлива…
Здешнюю домашность Федор соизмерял с парижской. Там, в Париже, младшие держались вольно. Бывало, и главе семейства храбро подпускали шпильку. А тут… Василий Никитич шевельнет бровями, никто не смеет спросить: «Чего сердитесь?» – потупившись, шелестят: «Почто изволите гневаться?» Принесет из Гостиного подарочек, не скажут: «спасибо» – нет, в пояс кланяются: «Покорно благодарим за ваше пожалование»… Федор втихомолку посмеивался: ни дать ни взять «Наставление об учтивости благонравных детей». (Так называлась инструкция иеромонаха парижского посольства; призабыв русский, Федор выпросил рукопись, читал с пером в руке, очень это было полезно в грамматическом и лексическом смысле.)
Благодушно посмеиваясь над домашними строгостями, Федор неулыбчиво слушал, как отец убеждает их степенства сплотиться в компанию. Все это не по душе было Федору. Один лишь из посетителей отца всерьез интересовал Каржавина-младшего: Гаврила Попов.
Родом из Торопца, Новгородского уезда, жил тот некогда в Кенигсберге, подвизаясь по торговой части. Василий Никитич «корреншондировал» с Поповым. Да и позже, в годы службы Гаврилы Ивановича таможенным надзирателем, тоже встречался.
Наружность этого Попова совершенно не вязалась с ого натурой. Был этот Попов неказист, рябенький, бородёнка мочалкой; ходил бочком, будто робея, голосок имел слабенький и словно бы с трещинкой. Душевные же свойства решительно выдвигали его из общего ряда. Был он начитан, читал не только по-русски, а и по-немецки; читал не для приятной отрешенности от обыденных забот, а ради пущей сосредоточенности на предметах, по его разумению, наиважнейших – зло, исходящее от государственного правления, вожжи коего в руках жестокого барского сословия; неизбежность погибели последнего, ибо мужицкое терпение «исполнит свою меру»; необходимость личной свободы крестьян.
Судьбу Гаврилы Попова не так уж и трудно провидеть. Досталось ему заточение в Спасо-Евфимиевском монастыре, где содержали его «в одиночестве, под крепкою стражей, не дозволяя писать». Этого «рассеивателя вредностей» изъяли из мира дольнего годы спустя. А в год возвращения Каржавина-младшего Гаврила Иванович жительствовал в Москве и, наезжая в невскую столицу, наведывался в дом на Адмиралтейской першпективе.
Рассужденья свои зиждил Попов на заветах священного писания. По заповеди божией, говорил он, каждый обязан возлюбить ближнего, как самого себя. А выходит иначе: человек у человека стал изнуренным невольником. Невольников же несть числа; взбунтовавшись, сделаются фуриями и, пролив кровь, что опять-таки противу слова творца вселенной, превратят дворянство в ничтожество. Отселе непреложная необходимость убедить барство отказаться от рабов.
Федора ничуть не огорчало возможное превращение дворянства в «ничтожество»; обращение же крестьянина в «фурию» – ничуть не пугало; а благое желание убедить рабовладельцев перестать быть рабовладельцами – смешило. И если он не смеялся, то лишь из сердечной уважительности к собеседнику…
Между тем время шло, надо было думать, куда натравить стопы свои. Федор полагал так: определюсь в иностранную коллегию, избавлюсь от родительской опеки и родительского кошелька, займусь переводами, как дядюшка Ерофей.
Ерофей Никитич уже выслужил чин поручика. Женился невыгодно, зато по любви. Не так, как старший брат. Не скажешь, конечно, что Василий из одной корысти, этого не скажешь, но Анна-то Исаевна купеческого корня, московских Тумборевых, весьма состоятельных. У Федосьи эк только и было что салопчик, полушалочек и колечко серебряное. А сердечко? Золотое сердечко, высшей пробы! Ни малейших посягательств на мужнин кошелек. Супруги исповедовали правило столь же необходимое, сколь и уныло-томительное: по одежке протягивай ножки.
Они нанимали скромную квартирку на Васильевском острове. После службы, в сумраке, при сальной свече дядюшка Ерофей переводил «Путешествия Гулливеровы». Не с английского – с французского. Французский текст гладок был, щеголеват. Дядюшка Ерофей чутьем угадывал подлинник, грубоватый и крепкий, будто сработанный корабельным бондарем. Жалел, что недостаточно владеет английским. Право, лучше, куда лучше было бы обойтись без изящного французского посредника.
За Невой, у старшего брата, Ерофей Никитич не появлялся. В споре о Федином будущем разверзлась пропасть. Кончилось тем, что Василий Никитич, гневно пеняя прошлыми денежными субсидиями, затопал ногами: «Неблагодарный ты змей, Ерошка! Сгинь!» Оскорбленный поручик заклеймил брата тиранствующим гарпагоном, перед которым нечего метать бисер, и в сердцах хлопнул дверью, Василий же Никитич рывком отворил и засвистал вдогонку двупалым свистом.
Зная братнин характер, Ерофей Никитич не надеялся на исполнение Фединого желания. Скорбел: все мое тщание пойдет прахом. Господин Дидро, разумеется, прав: коммерсантов обвиняют в том, что они – космополиты; это равносильно обвинению воздуха и воды в том, что они полезны всем; упускается из виду общее благо всего мира. Да, господин Дидро прав, но только не Федя, только не милый Федя. Встречаясь, племянник и дядюшка обменивались как паролем и отзывом: «Не коммерция…»– насмешливо произносил племянник, «а служение обществу знанием», – торжественно произносил дядюшка. Они испытывали не просто обоюдную приязнь, а нежность, избегая, однако, внешнего изъявления ее.
Отец не скрыл от сына разрыв с «Ерошкой». Сын не счел нужным скрывать от отца благодарность дядюшке Ерофею. Василия Никитича злили хождения на ту сторону Невы. Он, однако, не допускал возможности сыновнего бунта. Но смутные опасения возникали: угадывал в сыне свое – упор и напор. И пускался в рассуждения окольные.
Пусть вникнет в отцовский проект о российской коммерции. Пусть вникнет в суть новых времен. Зри поверх суши: российский торговый корабль бороздит Средиземное море – мал почин, да дорог! Со дня на день государыня утвердит устав нижегородской купеческой компании. Распорядилась отпускать детей купеческих в заграничное ученье. Слышишь: ку-пе-чес-ких! А ежели вострым умом проткнешь завесу годов, постигнешь, что власть помаленьку утечет от земли к деньгам. Гоже ли нам, Каржавиным, сиднем сидеть?! Негоже! Под лежачий камень, сам знаешь… И вот еще: мы, купечество, державу в гору подъемлем, а шапку ломаем перед каждым пустельгой, который при шпаге…
Слушал сын серьезно, это было хорошо. Нехорошо было, что слушал холодно. Похоже, душа Федора отнюдь не ликовала от этого «перетекания» – весьма, впрочем, неприметного – одной власти в другую.
Василий Никитич сам прочел и сыну на подушку положил философический роман из русской жизни с нерусскими именами в заглавии – «Письма Эрнеста и Доравры». Здешнего, петербургского сочинителя. Сообщил, словно подмигнул: этот господин Эмин – сослуживец и благоприятель твоего любезного дядюшки. Понимай, значит, так: романное у господина Эмина не чуждо и Ерофею Никитичу.
Не чуждым, понял Федор, была некоторая близость романиста к духу Руссо, к «Новой Элоизе». Да вот разница высветилась: превознося свободу негоциации, сочинитель отвергал капитальное у Руссо – чтоб все было общественное. Глумливо отвергал: мысль, мол, совершенно циническая… Гм, не чуждо и Ерофею Никитичу? Отец был прав. Дядюшка чтил Жан-Жака, высоко ставил, но как раз в этом пункте заминался и спотыкался. А он, Федор…
Промолчать бы сыну, промолчать. Нет, преступил границу: сия мысль, батюшка, мне свет в окошке, звезда в небе.
– Красно глаголишь, – с грозным сожаленьем в голосе ответил Василий Никитич, – красно, да глупо. Все для всех – это ничего ни для кого. Это… это дух святый.
Они молча смотрели друг на друга, будто грудь с грудью сошлись. И легла тишина, такая тишина, что мыши в подполе замерли.
Василий Никитич темной кровью налился, желвака напряг.
Сплыли годы, как ладожские льдины, истаяли годы, как петербургские дымы, а февральская поземка десятилетней давности курилась, курилась, курилась. Мясничья рожа, Тайной канцелярии служитель, батально рыкал, будто редут брал… В крепости Петра и Павла пуговицы, срезанные с кафтана, щелкали о каменные плиты… Старичина унтер, дуб мореный, шамкал под скрежет ржавого засова: «Здесь келья – гроб, дверью – хлоп»… Сплыли годы, истаяли, но нет, не выросла трава забвенья. Кто не был, тот будет; кто был, тот не забудет. В этом присловье мрачно поблескивала соль отнюдь не аттическая. Дети – вот казнь наша. Неровен час, с твоим кровным, с плотью от плоти злосчастье повторится. Нынче заграничное ученье не возбраняется, а завтра, глядишь, и такое лыко в строку; нынче книжники в чести, а завтра побьют каменьями; нынче циническую мысль этого самого Руссо твердит, как «Отче наш», а завтра рябой Малафеич брякнет пыточным железом… Дети, дети, вот она, казнь наша…
Так знобко думалось Каржавину-старшему.
Он темной налился кровью и желваки напряг.
Ерошка скорбит: ужель его старанья прахом пойдут? А его, Василия Никитича, застеночные муки, ужас при известии о Фединой болезни, это все для чего, зачем? Для чего и зачем Василий Никитич данником у г-на Шешковского, как у хана ордынского? Для чего и зачем дом г-ну Шешковскому своим коштом поднял на окраинной, тихой Коломне? Для того, выходит, чтобы родной сын предал родного отца! О-о, не только отца – сословие; не все поголовно, а самых разумных, тех, кто у него, первой гильдии Каржавина, в союзниках.
Так с непереносимой, жгучей обидой, с гневом, распиравшим горло, думал Каржавин-старший, напрочь перечеркнув то, в чем прежде себе признавался: все претерпел и все терпит не токмо ради сына, а ради себя. Но сейчас, когда сын, не потупливаясь, в бунте своем, в молодой гордыне своей смотрел на отца, на отцовские седины, Василий Никитич слова ронял, будто бабу-снаряд на сваю: из-за тебя, из-за тебя в кабале… «Батюшка, милый батюшка», – вдруг прерывисто выдохнул Федор и облился слезами. Впервые так пронзительно вообразилось все, пережитое отцом в зловещей крепости Петра и Павла.
Без вины виноватость гнет подчас сильнее вины. Клонясь долу, клонился Федор к смиренью. А дядюшка Ерофей правоты за Каржавиным-старшим не усматривал. Когда он, Ерофей, заеденный парижской нуждой, едва не наложил на себя руки, Василий Никитич отписал, усмехаясь: в тебе, Ероня, страсти сильнее рассудка. Так ли, нет, да вот он-то, Ерофей, никого никогда не неволил. Федя ж в капкан попал, бьется, бедненький. А ведь не скажешь так: друг мой Теодор, батюшка и с тебя желает получать проценты, ты ему вроде капитала о двух ногах, перестань терзаться, у каждого своя стезя, не зарывай талант в мешок с деньгами… Не скажешь, а надо бы. Ерофей Никитич отводил глаза. Молчанье дядюшки не было знаком согласия. И молчаньем своим выпрямил он племянника. Ну нет, тысячу раз нет, не станет конфидентом отца своего, не нужен ему, Федору, телец златой.
Опять налился темной кровью первой гильдии Каржавин, тяжело дыша, как топором отрубил: «С глаз долой! Попляшешь! Согнет беда в бараний рог, не вздумай простирать руки. Ты – сын блудный, не отец я блудному сыну».
Все в доме ходили, точно в воду опущенные. Мать косилась на сына, как на отступника. Только Лизонька, сестрица, похожая на Лотту, украдкой поцелует в плечико и шмыгнет мимо. За семейным столом не было Федору куверта, места не было, кормили его отдельно, как зачумленного.
Сдается, не без потачки г-на Шешковского помешал Василий Никитич поступить сыну в петербургскую службу. Определили Федора учителем в семинарию при Троице-Сергиевой лавре, что под Москвой. Таил Василий Никитич злую надежду – изведется неуломный Федька монастырщиной – кинется в ноги, а Василий Никитич и бровью не шелохнет.
3
На парижских антресолях трескал пустое, постное. А тут и говядинка, и курятинка, уточки, индеечки, белужинка, осетринка. И «штей сколько потребуется». На день – четверть ведра пива. Янтарь! Меды, крепко варенные. Золото!
В городе Париже бегал в сквозной одежке, башмаки каши просили; в столице королевства, пансионером, на соломе спал. А тут, в монастыре, на пуховиках нежился. Сшил мундир обыденный, сшил и мундир праздничный – тончайшее сукно, хоть младенца пеленай. И шпагу прицепил – знак светского звания. Жалованье? С дядюшкой Ерофеем вдвоем ста рублями обходились; в семинарии – одному сто рублей положили.
Ох, не хлебом единым жив человек. (При достатке хлеба единого.) Последователя энциклопедистов мутила окружающая «клерикальность». В чужой монастырь он пришел со своим уставом, почерпнутым из «Философского словаря» г-на Вольтера, из книги «Об уме» г-на Гельвеция, из «Писем с горы» г-на Руссо.
Ему советовали: прими постриг, удостоишься прибавки жалованья. Он насмешничал: Париж стоил мессы, клобук не стоит прибавки жалованья.
Ему внушали: «Иночеством избавишься от мирской суеты и достигнешь горней премудрости». Он отвечал: «В мирской суете – корень познания сущего».
Ему говорили: «Служивый алтарю от алтаря и кормится». Он дерзко парировал: «Служивого солдата с розгой к семинаристам приставили – для унимания от резвости, а вас самих давно бы унять от поборов».
Старец-иеромонах приятность сообщил: «Помню, был у нас в Лужицкой обители Иосаф Каржавин, добротою славился. Не кровный ли тебе, сын мой?» А он отверз уста грубианством: «Если бы и кровный – не велика честь. По крови и зверь в родстве. По духу – только человек».
Хранитель библиотеки, тощий монах с плаксивым лицом кающегося грешника, указал на лондонские и амстердамские тиснения, указал, демонстрируя богатства лаврского книжного собрания, и услышал презрительное: «Типографический станок тем плох, что ложь вперемешку с глупостью быстро множит».
Чернецы, забыв смирение, перстом грозились: парижанские ереси разводишь, епитимствовать тебе в Соловках. Ои разражался богохульным смехом. Рясоносцы каркали: смех в обители – кощунство. Учитель французского пронзал, как рапирой, французским: потерян тот день, когда мы ни разу не улыбнулись.
От мира сего монахи хоронились в кельях. Каржавин и в келье пребывал в мире сем. Не потому лишь, что читывал «Энциклопедический журнал», [6]6
Двухнедельный «Энциклопедический журнал» издавался в 1756–1793 гг. Один из наиболее последовательных печатных органов энциклопедистов. «Ст. Р.»
[Закрыть]а потому, что составлял прибавления к «Прибавлениям» и примечания к «Примечаниям».
Там – в «Прибавлениях» к московским и петербургским ведомостям, а также в журнале «Примечания на Ведомости» – публиковались отчеты о занятиях Комиссии. Занятия эти, Комиссия эта были Каржавину предметом пристального интереса, сперва восторженного, потом насмешливого, а затем и саркастического.
Комиссия созывалась и призывалась, дабы даровать стране новое Уложение, новые законы. «Наказ» Комиссии составила императрица – восемьсот страниц, обряженных в малиновый бархат. И малиновым звоном разливалось по всей Руси великой, по градам ее и весям: «Закон христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно», а «всякого гражданина особо видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы его благосостояния…»
В мартовский день – снег на припеке ноздреватый, в тени слюдяной блеск – у окна кремлевской Грановитой палаты стояла императрица; в ту минуту хороша была матушка – глаза голубизной сняли, грудь мерно вздымалась, щеки румянились. Свершилось! Московские депутаты шествовали в Успенский собор. Там, где витал призрак стародавней земщины, отслужили литургию, приняли присягу. Свершилось! Печатные заведения Европы, оттиснув листы «Наказа», явят миру мудрость российской монархини. И возликуют философы, узрев философа на тропе.
А летом следующего года в Грановитой открылись занятия Комиссии; газеты и журнал публиковали отчеты. Каржавин испещрял листы пометками, острыми, как шило, краткими, как щелчок курка.
Напечатано: государыня желает блаженства всех и каждого. Гневным пером: «пыль в глаза».
Напечатано: депутаты имеют счастье быть руководимы императрицей. Саркастическим пером: «то-то и глупо».
Напечатано: депутаты призваны выказать гражданские добродетели. Ироническим пером: «то ли у вас на уме?»
Напечатано: занятия Комиссии временно прекращаются. Не пером, а словно ружейным беглым огнем: «Распускают домой! Выгоняют вон! Чем меньше их будет, тем скорее сломают: а то заболтались, из десяти выберут по одному и прикажут им молчать».Убежденным повтором: «Пустили пыль в глаза; только всего и будет».И лапидарным итогом: «обман».
Какова трезвость! Никаких надежд на коренные перемены, дарованные с высоты трона, а ведь сам Дидро, великий Дидро верил и в благие намерения российской монархини, и в то, что Комиссия – начало представительного правления…
Монастырские же, семинарские будни гуськом шли, неразличимой чередою. Зимою в шесть, летом в пять начинались классы.
Что сказать об учительстве? Карал не розгой, карал насмешкой: «Ты, малый, с ленцой, не пылаешь жаждой знания, ну и незачем тлеть». Подчас изменяло терпение; недостаток существенный. Зато доставало изобретательности; достоинство важное. К чертям заскорузлый учебник Бюжо «Краткие правила французской грамматики»! Вот другой – «Вновь выработанный прием изучить французский язык смеясь, без серьезного усилия и в то же время играя». В книжке двести анекдотов, занятных, веселых историй. Забавно соединять анекдот с грамматическим разбором! Последний тупица и тот запомнит.
Любил ли он бурсаков? Не уверен. Но был благожелателен к этим мальчуганам в сермяжных камзольчиках, отпрыскам пахарей и солдат, деревенских дьячков и пономарей.
К двум из семинаристов испытывал Каржавин привязанность. Взявшись учительствовать, он обещал выпестовать воспреемника, а Харламов поразительно быстро овладевал французским, Федор возлагал на него особые надежды и в Харламове не обманулся. Паша Криницкий тоже зубрил вокабулы, но, обладая умом без зазубрин, тянулся к мирскому чтению, и Каржавин поощрял бурсака. В галоп не пускался, неспешно, наводящими вопросами. И ответами, уводящими с избитой тропы. Осторожничал, побаиваясь кары властей предержащих.
А кары небесной не страшился. Высшее существо дало первый толчок развитию мироздания и больше уж не вмешивалось ни в сущность вещей, ни в ход вещей. Попы насчитывают миробытию несколько тысяч лет? Пустое! Морские песчинки сочти – вот тебе лишь мгновение. Бог создал человеков по образу и подобию своему? Пустое! Человеки создают богов. Возьми чернокожих – бог у них черный, а дьявол – белый. Поп и пастор, раввин и мулла – все проповедуют рабское повиновение владыкам земным. А владыки земные в долгу не остаются, потакают попу и пастору, раввину и мулле.
Уподобляя богов самим себе, люди не уподоблялись друг другу. Изволь, вот пример, шутил Каржавин, – Пашка Криницкий не уподобился доносчику Петрухе Дементьеву. Вот уж когда пожалеешь, что нет в мироздании геенны огненной – очень подходящее местечко для доносчиков.
И верно, Криницкий крепко держался бурсацкого правила: пашквилей и подметных писем не писать. Были и другие правила, они тоже нравились учителю Каржавину. Вот, скажем, такое: товарищам жить братски, не ссорясь, а стараясь переносить неудовольствия. Или такое: подарков из дому не принимать, дабы равенства не потерять. По душе были Каржавину эти правила. Ах, если бы на таких китах обосновалось взрослое человечество.
Учительство, Харламов с Криницким – продушины в душной монастырщине, но Федор тосковал: ему был нужен не звон монастырских колоколов, а захлеб поддужных колокольчиков.
Рядом с лаврой находился ямской стан. Федор смотрел вслед тройкам. «Дуй по пеньям – черт в санях!» Тройки, истаивая в снежной пыли, летели в Москву.
4
Москву изобразить – не поле перейти. То мелкие строения, сбившиеся тесно, будто сошлись посудачить; то раскидистые усадьбы, хоть зайцев трави; то пожарища, взявшиеся лебедой. На высоких дворовых воротах с крышами-навесами прибиты медные восьмиугольные кресты. По колдобинам влекутся дроги, запряженные одрами. В обгон переваливаются экипажи, лоснятся вороные, а на запятках, по-тогдашнему сказать, букет: красный камзол великана-гайдука, белая чалма черного арапа в желтой куртке. А впереди пара скороходов в высоченных шапках с узкой тульей и широким козырьком.
Желаете единым взглядом окинуть «общество»? Поезжайте за Москву-реку, поезжайте в Сокольники. Ехать не на чем? Это уж точно, извозчиков не сыщешь днем с огнем. Но, может, кто-нибудь пригласит вас в свою карету.
Замоскворецкие гулянья? Извольте.
Бархат, атлас, окатный жемчуг на купеческих женах. Сразу видно, знать не знают о диетическом питании. Не оттого ли щеки-то маком цветут? Ошибаетесь – румянятся, без румян показаться на людях – «сделать невежество». Бородачи в глухих кафтанах гамбургского или английского сукна. Тупорылые «степенства»? Ошибетесь. Лица дышат жаждой деятельности. Вот уж второй десяток лет отменены внутренние таможенные сборы, а эти ворочают всероссийской коммерцией. Не путайте с мелкотой, что на торжищах вскрикивает, подвизгивая на первом «и»: «Ниточки! Ниточки!», а с подвизгом на «и» концевом выпевает: «Платочки! Платочки!» И не путайте с приказчиками, что за полы хватают: «Шляпы фундаменталь-ныя!» «Шинели обстолтель-ныя!» «Ленты презентабель-ныя!» «Хомуты субтиль-ныя!»
Гулянье сокольническое? Извольте.
Спозаранку шатры разбиты, снедь и вина припасены. Прикатывают господа в синих кафтанах и снежных жабо, барыни в шелках и кисее, в атласных туфельках. Все знают друг друга; знают друг о друге все. Украдкой от маменек и тетушек зефирный шепот: «О, мой болванчик…» – уморительная трансформация французского: idole, кумир… Старушки, тряся чепцами и прыская в ладошку горстью, пеняют забавнику-рассказчику: «Ах, монкёр, совсем уморил…» [7]7
Монкёр – от фр.mon coeur – мое сердце.
[Закрыть]И эти восклицания: «Бесподобно! Бесподобно!» И чье-то насмешливо-носовое, но и не без завистливости: «Быть не может: три го-о-ода женат и все еще во блаженстве?» И уже задействована (так, кажется, нынче говорят?) особая знаковая система: мушки задействованы. Эти крохотные кружочки из черного пластыря на ланитах и подбородках щеголих, они ведь, мушки-то, хитро расположены: если так, значит, указывают время и место секретного рандеву, а если этак, то – градус чувства, и еще и еще по-разному для разного рода сигналов. Забавно! А там, на поляне, слышите, там уж дуэт сладился: «Не кидай притворных взоров и не тщись меня смущать».
А чаепития, московские чаепития? Летние, когда млеет закат. Зимние, когда изразцовые голландки колышут комнатный воздух мягкой теплынью своей. Нет, невозможно представить без чаепитий первопрестольную, златоглавую, белокаменную. Однако осторожнее. А то вот романист напишет: «чаепитие» – и тотчас: «самовар», «позвякивание серебряных ложечек»… Э, за самоварами тогда не сиживали, медные чайники были, на жаровни ставили, на алые уголья с быстролетной голубизной. А чайные ложечки – тогдашний дефицит. У какого-нибудь богача пять тысяч душ, а ложечек чайных знаете сколько? Две! В особой готовальне сохраняются.
Но полно! Негоже демократу услаждаться кущами Сокольников, чаи гонять в хоромах. Назвался демократом, полезай в демос. Благо недалеко ходить: в господских домах людей содержалось множество. Лакеи выездные и невыездные; повара и официанты, дворники, парикмахеры, камердинеры, музыканты и певчие, девки-пряхи и девки-скотницы, сторожа и псари, а то и медвежатники, нет, не поводыри, что косолапого напоказ водят, а те, что приглядывают за домашним Топтыгиным.
Как расхожей рифмы, ждет читатель суждений о барском своеволии, о барской жестокости. И скулами мелко подрагивает, подавляя зевоту. Что так? Оскомину набили школьные прописи? Неохота держать в памяти страданья минувших времен? Посвист батожья да крутость рекрутчины, да куплю-продажу, когда оптом за тридцать рублев, а в розницу – не меньше сотни… Потянувшись всеми хрящиками, не худо бы и задуматься. В конце-то концов, барское своеволие, барская жестокость – очевидность. А вот соль холопства…
В городском господском дому челяди жилось вольготнее однодеревенцев. Не только кус с барского стола, не только кафтанец с барского плеча. Холоп тащил что ни попадя: от барина не убудет. И ленился, отлынивал: ничо, сойдет, больно мне нужно. И льстил, и лукавил, н ябедничал: а как иначе? – не ровен час, в деревню отошлют. А ежели кого и уважал душевно, то разве что угрюмого ярославца Герасима, победителя кулачных боев на москворецком льду.
Слышу: клевещет мемуарист, ни почвы у него, ни корней. Помилуйте, речь-то о рабстве. Несчастны холопы не оттого, что холопы, а оттого, что не сознают своего холопства. Тут он, корень-то.
Императрица Екатерина серчала: многовато на Москве бездельников-дворовых. Заботило же, тревожило иное: безрассудное, по ее мнению, заведение фабрик с чрезмерным количеством работного люда, который страсть любит ум свой питать россказнями о всяческих бунтах. Гневалась: вранья на Москве без конца и счету. И вот изобрела указ, прямо скажу, курьезный: о молчании. Не оговорился! Вот так в одно слово все вместилось – молчать!
Ударили барабаны, стабунивая толпы; полицейские офицеры, надрывая глотки, объявляли указ. Действо! Любо-дорого глядеть, как уста запечатывают. Не скрытно, а громогласно: нишкни и ни звука. Между нами сказать, это еще полдела. Один из римских цезарей, забыл, как звали, тот и в молчании порицание себе чуял; повелел не молчать, а денно-нощно восхвалять; и, понятно, восхваляли, куда денешься. А Екатерина II, или, если угодно, Великая, она, значит, указом возвестила – нишкни и ни звука, а не то батогами, батогами, и притом публично, на площади.








