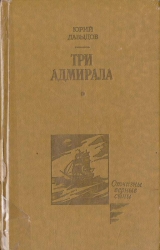
Текст книги "Три адмирала"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Два года, два месяца и двадцать шесть дней минуло с того часа, когда Василий Михайлович в последний раз спустился по трапу своего корабля. 7 октября 1813 года он поднялся на палубу «Дианы». Он был встречен не просто офицерами, не просто матросами нет, «братьями и искренними друзьями».
В тот же день – день радостных слез и бурного ликования – на «Диану» хлынули солдаты и рыбаки, горожане и крестьяне, молодые и старые, женщины и дети. «Мы, – пишет Головнин, – не хотели отказать им в удовольствии видеть наши редкости, которые для них были крайне любопытны, а особливо украшения в каюте, убранной Рикордом с особенном вкусом… Посетители наши не оставляли нас до самой ночи; только с захождением солнца получили мы покой и время разговаривать о происшествиях, в России случившихся, и о наших приключениях».
Последним с ними простился Такатай-Кахи. Годы спустя и капитан Головнин и капитан Рикорд поместили в своих книгах изображение Такатая-Кахи.
Одиссей закончил одиссею прибытием на остров Итаку. В одиссее Головнина остров Хоккайдо лежит на полпути.
Глава пятая
1
Если говорить о воде, то за эти семь лет невской воды утекло пропасть. Если говорить о совпадениях, то они действительно приключаются: Головнин оставил Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1807 года, Головнин вернулся в Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1814 года…
Еще недавно казармы пустовали: войска были в походе. Опустели посольства: послы, кроме английского, уехали. Чиновники со своим домашним добром, потеснив казенное имущество, ретировались на баржах. Эрмитажные сокровища увезли. Банк и ломбард закрыли.
В каналах стояли наготове разномастные посудины, готовые принять беженцев. Фельдъегерей из армии боялись как вестников новых несчастий. Государь скрылся на Каменном острове, курьеров к нему не пускали, заворачивали на Литовку, к дому Аракчеева.
Но вот грянуло наступление. Все оживились. На театрах затанцевали и запели. Император поехал к победоносным войскам.
В разгар лета 1813 года Петербург погребал Кутузова. За две версты от заставы толпы простолюдинов выпрягли лошадей и медленно, с опущенными головами, повлекли колесницу к Казанскому собору.
В разгар весны 1814 года в Казанский собор внесли французские знамена. Падение Парижа возвестил сто пятьдесят один залп орудий Петропавловский крепости.
Начались торжества. Из Франции возвращались дивизии. Они слушали благодарственный молебен. Полиция, как сообщает очевидец-офицер, «нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление».
Так было близ Петербурга, в Ораниенбауме. Потом в город, где уже неделю жил Головнин, вступала 1-я гвардейская дивизия. Государь, обнажив шпагу, гарцевал на рослом рыжем жеребце. Все сияло, все сияли. Публика кричала «ура». Император улыбался. «Мы им любовались, – признается будущий декабрист, – но в самую эту минуту перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было первое мое разочарование на его счет».
Император, преследующий русского мужика, одного из тех, кто кровью оплатил победу, полицейские дубинки на его кручинной голове – какова картина, каков символ! Контраст между освобожденной Европой и освободителями Европы блеснул в глаза. А на триумфальных арках начертано было: «Награда в Отечестве».
Первые неблагоприятные впечатления, первые разочарования. К ним прибавились иные, набегая и наслаиваясь. Возникал оппозиционный дух.
А что же бывший японский пленник?
Минуло три четверти года, как Головнин оставил Хоккайдо. Распрощался с Рикордом, распрощался с «Дианой», решительно и вдруг одряхлевшей, как бывает и с людьми и с кораблями. И конечно, особенно сердечно обнял тех, кто делил с ним горечь плена. Головнин, рассказывает современник, «назначил из собственного незначительного состояния единовременные пособия всем бывшим с ним в плену матросам, а одному из них производил пенсию до конца жизни».
Рикорд принял бразды камчатского правления, а Головнин повторил недавнее странствие своего друга, то бишь добрался до Иркутска зимней дорогой, вернее – бездорожьем: на собаках, на оленях, на коне. А из Иркутска, летним уже путем, сквозь пыль и дождики, пустился Сибирским трактом в беспредельность вновь обретенной родины.
Лоренс Стерн, автор «Сентиментального путешествия», лукавства ради определил странствия по полочкам: праздные, лживые, гордые, мрачные, чувствительные и т. д.
Полковник Федор Глинка, современник Головнина, издал в 1808 году «Письма русского офицера»; в них прощупывается радищевская традиция. К следующему изданию полковник добавил «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии».
Федор Глинка как саблей отсек свое авторское «я» от стерновской классификации. Глинка бранился: «О дураки, дураки – чувствительные путешественники».
Головнин, конечно, читал «Замечания» Глинки. Но читал-то уже тогда, когда написал свои записки о пребывании в японском плену. А еще раньше он вел дневник на великом пути от Тихого океана, то есть именно в «отечественных губерниях». Этот путевой журнал хранился в гулынском именье: в 1848 году сын Головнина передал автограф историку Погодину[96]96
Судьбы рукописей и людей порой причудливо сплетаются. В 1864 году старец Ф. Н. Глинка сообщал из Твери М. П. Погодину: «Знаете ли, что у меня находится большая тетрадь… (неразб. одно слово) бумаги, исписанные мелким почерком. Эта тетрадь – японская бумага; это собственноручный почерк Вас. Мих. Головнина. Драгоценный в своем роде, этот манускрипт принадлежит П. Ив. Рикорду».
Одаривая Глинку, адмирал Рикорд сказал: «Возьмите же в коллекцию Ваших любопытных бумаг этот портфель. В нем вся жизнь друга моего Головнина, написанная им в японской клетке».
Разбирая портфель. Глинка «не один раз испытал чувство глубокого умиления, читая строки, на которые, может быть, падали слезы благородного узника. Положение его было ужасно!».
Письмо Ф. Н. Глинки находится среди неопубликованных документов М. П. Погодина, хранящихся в отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина.
А в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится рукопись спутника В. М. Головнина штурмана А. Хлебникова «Японский плен семи россиян…».
[Закрыть].
Только про то я и дознался в материалах отдела рукописей бывшего Румянцевского музея. Однако об «отечественных губерниях» критически рассуждал Василий Михайлович и в камчатских заметках и в карандашных примечаниях на полях «Двукратного путешествия» Гаврилы Давыдова. Нет сомнения, что и в дорожном журнале Головнина звучала радищевская интонация. «Записки» Головнина соседствовали с «Записками» Глинки и совсем не походили на гоголь-моголь эпигонов Карамзина.
В Петербурге Василий Михайлович очинил перья. Он был полон энергии. И бодрости: через день после приезда в столицу капитан-лейтенанта «всемилостивейше пожаловали» капитаном второго ранга, пожизненным пенсионом в полторы тысячи рублей годовых.
В ту пору город на Неве видел немало славных воинов, громкие имена раздавались повсюду. Но положение Головнина было уникальным: русский из Японии, русский из какой-то неведомой, загадочной страны. У Василия Михайловича хватало ума понимать, что исключительность создали обстоятельства, от него не зависевшие. Как бы ни было, положение обязывало не ударить лицом в грязь. И он усердно трудился.
В Московском архиве литературы и искусства мне попался листок от 11 ноября 1814 года. Коротенькая записочка Головнина каким-то образом очутилась в коллекции поэта Тютчева. Вот она:
«Милостивый государь Карл Иванович, имею честь препроводить к Вам десять тетрадей моего путешествия, к переводу коих Вы можете приступить. Прошу покорнейше работу нашу держать в тайне».
Кто сей Карл Иванович, архивисты не установили. Отгадать нетрудно: на лейпцигском двухтомном издании Головнина значится имя переводчика Карла Иоганна Шульца. Главное, впрочем, не фамилия, а то, что за несколько месяцев Головнин написал десять тетрадей, и эти тетради получил переводчик. (Почему Василий Михайлович просил «работу нашу держать в тайне», не догадываюсь.) И опять-таки главное не в наличии десяти тетрадей, а в их содержании.
«Записки» эти явились русской публике как откровение. Автор совлек сумеречный, зыбкий покров с удивительного островного государства. Головнин навел на него то заветное зеркало, о котором позже сказал Пушкин: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии».
Что сыскал бы о Японии русский книгочей 1814–1815 годов? Жалкие крохи. Чуть не столетней древности перевод с французского – «Описание о Японе». Семь страничек в «Полном географическом лексиконе»; переведенную со шведского статейку в «Новых ежемесячных сочинениях»; заметочку Карамзина в «Вестнике Европы»; брошюру о первом русском посольстве в Японии; три странички во «Всемирном русском путешественнике» да столь же в переводной с французского «Дорожной географии»…[97]97
Во второй половине XVIII века среди раскольников имела хождение рукопись о путешествии инока Марко в Японию. Путешествие по тем временам огромное: из Архангельской губернии, Кемского уезда, в Китай, из Китая в Японию. Можно только дивиться семимильным сапогам отважного северянина. Любопытный факт: Марко нашел в Японии русских староверов, потомков тех, кто укрылся там от преследования властей еще при царе Алексее Михайловиче. Следствие по делу «японских» раскольников производилось в 1807 г. (См.: Мельников-Печерский П.И. Поли. собр. соч. – СПб., 1909. Т. 7. С. 22–23.)
[Закрыть]
Географ Венюков еще и полвека спустя отмечал: «Головнин к описанию своих приключений присоединил и систематическое описание Японского государства – единственное оригинальное сочинение на русском языке».
Какой же приманчивой новинкой было это оригинальное сочинение в начале века! Чернила еще не успели высохнуть, а уж в типографии Дрехслера набирали отрывок из «Записок» мореплавателя для очередного номера «Сына отечества». Семь раз популярный журнал «изымал» у Василия Михайловича его тетради. Спохватились и москвичи – лидер тогдашней периодики «Вестник Европы». А «Русский вестник», тоже московский, напечатал сверх того рассказ Рикорда о плаваниях к японским берегам ради спасения Головнина. Наконец, в 1816 году книгопродавцы получили отдельное издание в трех частях.
Читательская жадность во многом, конечно, объяснялась сенсационностью материала. Но не только. Мореплаватель Крузенштерн говаривал, что моряки пишут худо, зато искренне. Искренность головнинских «Записок» подкупающая. Но и самое изложение отличается той легкостью, которая дается нелегко, и той выразительностью, которая присуща художническим натурам.
В январе 1817 года в Петербурге, в зале Публичной библиотеки, выступал Николай Иванович Греч (тогда еще не холопствующий). Греч критически обозревал русскую литературу минувшего двухлетия. Он сказал:
– На «Записках» господина Головнина наблюдатель отечественного просвещения не может не остановить особенного внимания, какого книга сия во всех отношениях достойна. И в самом деле, сколько положение самого сочинителя в плену возбуждает любопытство читателей, столько необыкновенный своей простотою и истиною слог его вселяет к нему совершенную доверенность… Кроме, может быть, путешествия английского капитана Флиндерса, во всей Европе в последние годы не выходило по сей части книг, которые важностью и занимательностью своею могли бы сравниться с сими записками.
В феврале того же восемьсот семнадцатого поэт Батюшков, сидя в деревенской зимней глуши, познакомился с книгой Василия Михайловича. Батюшков отозвался кратко и сильно: «Недавно прочитал Монтеня у японцев, то есть Головнина Записки. Вот человек, вот проза!»
Французский философ Монтень писал свои знаменитые «Опыты» в трудные, бурные времена, «при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием», а между тем сумел сохранить спокойную объективность. Такую же благородную сдержанность уловил Батюшков и в прозе капитана «Дианы». (Много позже, десятилетия спустя, расслышал ее и автор журнала «Морской сборник»: «Головнин, несмотря на перенесенные им бедствия, неразлучные с положением пленного, отзывается вообще о японцах как о племени великодушном и кротком».)
Друг Пушкина поэт-декабрист Вильгельм Кюхельбекер дважды обращался к творчеству Головнина. Высокое достоинство его прозы отметил Кюхельбекер в статье для журнала «Невский зритель». А в 1832 году, будучи узником Свеаборгской крепости, занес в дневник: «Целый день читал записки В. Головнина. Книга такова, что трудно от нее оторваться». И далее: «Записки В. Головнина – без сомнения, одни из лучших и умнейших на русском языке и по слогу и по содержанию».
Еще при жизни Головнина был у него жадный благодарный читатель: будущий автор «Фрегата «Паллада». Ссылки на Головнина у Гончарова неоднократны. Суть, не только в том, что знаменитого романиста занимали мнения предшественника. Суть еще вот в чем: «Гончарова не мог не привлекать поистине реалистический метод, которым пользовался Головнин как художник-очеркист, хотя в «Записках» есть и некоторые элементы сентиментального стиля. Не мог не увлечь Гончарова и великолепный русский литературный язык Головнина, сочный, образный, меткий»[98]98
В. Михельсон. «Записки» В. М. Головнина и «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова». Эта обстоятельная статья, единственная, кажется, в своем роде, помещена в Ученых записках Краснодарского педагогического института (вып. XIII, 1955). Подробнее см.: Михельсон В. «Путешествие» в русской литературе. – Ростов н/Д. 1974.
Вообще же Василию Михайловичу, что называется, не повезло: литературоведы, даже авторы узкоспециальных работ, замалчивают Головнина. В. П. Вильчинский. исследователь русской маринистики, лишь мимоходом назвал его имя. Приходится довольствоваться общим (впрочем, справедливым) утверждением: «Жанр морских путешествий, в истории которого необходимо учитывать его ранних представителей, получил широкое распространение в середине XIX в. в творчестве выдающихся мастеров критического реализма» (Вильчинский В. П. Русские писатели-маринисты. – М. – Л., 1966).
[Закрыть].
Век минувший не баловал сочинителей тиражами. И переизданиями тоже. Общий тираж книг Головнина я не сумел установить. Переиздания легко определить по каталогам. Каталоги свидетельствуют: книги Головнина не утрачивали притягательной силы, читательский интерес к ним не затухал. Они сходили с типографских станков и при жизни автора, и после его кончины. И не в одной лишь России.
Лондонские книгопродавцы получали их трижды: в 1818, 1824, 1835 годах. Французы и немцы, швейцарцы, датчане, голландцы – в один год, в восемьсот восемнадцатом. Поляки – в восемьсот двадцать третьем. Это была всеевропейская известность… А японцы увидели записки Василия Михайловича только сто с лишним лет спустя. Первое (иллюстрированное) издание осуществило 2-е управление Военно-морского штаба; затем, в 1943 году, в Токио появился двухтомник, еще несколько лет спустя – трехтомник.
«Записки» Головнина, адресованные вовсе не отрокам, утвердились и в круге юношеского чтения. В 1864 году было выдано в свет первое издание для детей. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия «Записки» шли нарасхват: издания девяносто первого года и девяносто шестого, девятьсот второго и девятьсот девятого. К тому же и беллетристы частенько баловались переложением прозы Головнина. Правда, не ей на пользу, а самим себе…
Признание досталось Василию Михайловичу в зрелую пору жизни. В марте 1818 года Вольное общество любителей российской словесности почтило Головнина званием почетного члена. В списке имя его значилось тридцатым. Ниже читаешь: «Ермолов Алексей Петрович, Крылов Иван Андреевич, Жуковский Василий Андреевич, Батюшков Константин Николаевич…»
Общество негласно примыкало к декабристскому «Союзу благоденствия» (подобно «Зеленой лампе», Военному обществу при штабе Гвардейского корпуса). В среде любителей российской словесности подвизались и господа, чуждые не только революционности, но даже оппозиционности. Однако, быть может, достойно внимания время баллотировки Головнина. Буквально только что, в конце февраля, писатель Федор Глинка – фактический лидер общества и видная фигура «Союза благоденствия» – добился уставного избавления от «случайных людей». Глинка с единомышленниками клонили к тому, чтобы создать «ученую республику». Они своего добились. Ядром стали будущие деятели 14 декабря. В этой-то «республике» Головнин не считался лишним.
«Форма избрания» предусматривала непременную явку избираемого. Правда, почетные члены «из сего правила изъемливались». Впрочем, и не случись «изъятия», Головнин никак не мог бы явиться: в марте 1818 года он огибал Маркизские острова.
Не явился он и на Васильевский остров, в Академию наук, где с мая 1818 года «почтенного мужа, г. флота капитана и кавалера» дожидался диплом члена-корреспондента: в мае Василий Михайлович был уже на другом краю России, в Петропавловске, там обнимал старинного друга своего Петра Ивановича Рикорда, который, кстати сказать, почти одновременно с ним удостоился той же академической чести. Но с некоторой разницей: Головнин – «за отличное в науках упражнение», Рикорд – «по разряду географии и навигации».
2
Молодой Брюсов однажды заметил: «Никогда самая искусная марина не заменит путешественнику вид на океан, уже по одному тому, что в лицо ему не будет веять соленый запах и не будет слышно ударов волн о береговые камни».
Не знаю, украсил ли Головнин свой петербургский угол (по чину полагались две комнаты) или гулынский дом (где пожил в шестнадцатом году) «искусными маринами». Если и украсил, то они и впрямь не заменили ему «вид на океан».
Было бы куда как романтично описать порыв героя к убегающему морскому горизонту, жажду буйных ветров, тоску по белоснежным парусам и т. д. и т. п. Но с Головниным не управишься традиционными приемами.
Противоречивые чувства владели Василием Михайловичем при назначении командиром кругосветного корабля. Предстоял долгий поход на два-три года. А в Петербурге – Евдокия. Евдокия Степановна Лутковская, дочь отставного офицера, сестра четырех моряков. Головнин посватался, ему не отказали. Ничто не загораживало аналой. Ничто не мешало священнику цитировать у аналоя апостола Павла: «Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя».
И вдруг – шлюп «Камчатка», кругосветное плавание, десятки тысяч миль, тысячи дней и ночей в разлуке. Он не повел Евдокию под венец. Он просил ждать его.
Было ль то испытательным сроком? Или беспредельностью веры? Или не хотел Головнин обречь ее на вдовство, памятуя участь мореходов? Или сам не хотел оставаться соломенным вдовцом?
Как бы там ни было, а свадьбу не играли. И ничего не сделал Головнин, чтобы увильнуть от похода. Между тем человеку его положения, известности, веса удалось бы пристроиться либо в Адмиралтействе, либо в Кронштадте, либо на каком-нибудь балтийском корабле.
Принимаясь готовить экспедицию, Василий Михайлович испытывал то душевное состояние, которое не располагает к улыбчивости. И кто поручится, не посещали ль его слабость, уныние, печаль? Но сказано: работа – губка, она поглощает сердечную боль. А работушка привалила многопудовая.
Десять лет назад лейтенанту, командиру «Дианы», дали некоторые письменные напутствия. Десять лет спустя почетному члену Адмиралтейского департамента, капитану второго ранга, командиру «Камчатки», объявили:
– Ныне департамент, удостоверясь на опыте в ваших познаниях и способностях, не находит надобности повторять тех же предписаний и полагается во всем на ваше искусство и благоразумие.
Экспедиция преследовала троякую цель. Две – копировали задачи «Дианы»: доставка тяжелых грузов в Петропавловск и Охотск, картирование тех островов и берегов в северной части Тихого океана, которые еще не были определены астрономическими способами. Третья цель была весьма щекотливого свойства: Головнина посылали ревизором.
Его обязали исследовать положение коренного, туземного, населения в колониях Российско-Американской компании. Требовался человек, по должности независимый от компанейских купцов-воротил. Головнин, офицер флота, от них не зависел. Он «зависел» от своих взглядов. Честность и прямота его были известны. И надо полагать, главные акционеры не очень-то радовались сему «препоручению», хоть и состояли «под высочайшим покровительством».
Российско-Американская компания жирела на добыче пушнины. Самыми желанными считались морские бобры. А самыми лучшими, сноровистыми, неутомимыми добытчиками считались алеуты. Их-то и ввергли в холопство. Никакими параграфами, пунктами, законами отношения предпринимателей и туземцев не регулировались. В стране огромных и громоздких канцелярий верховодила, в сущности, незримая Канцелярия-По-Ограблению.
Из-за тридевяти земель, с океанских островов и прибрежий, доносился такой тяжкий стон, такие слезные мольбы, что даже привычно глухих сановников иногда подирал морозец.
В пору снаряжения «Камчатки» генерал-губернатором Сибири был Пестель, отец декабриста. Герцен определял Пестеля-старшего сатрапом, да еще из худших. Так вот, генерал-губернатор летом 1817 года просил морского министра маркиза де Траверсе отрядить ревизором «морского чиновника». Пусть-де удостоверится в «обидах беззащитных островитян».
Маркиз прохлаждался неподалеку от Петербурга, в имении. Он лакомился русской природой и продувной француженкой, которой, говорят, строил куры сам государь. На лоне министр и подмахнул инструкцию № 1510 – инструкцию о «рассмотрении положения жителей колоний, принадлежащих Российско-Американской компании». Как Василий Михайлович исполнил ее – увидим позже.
А пока он в хлопотах, в разъездах из Петербурга в Кронштадт и обратно. Благо дымит и колотит плицами «Елизавета», и теперь от столицы до кронштадтских рейдов добираешься часа за три[99]99
Первый русский пароход, построенный петербургским заводчиком Карлом Бердом, совершил свой первый рейс Петербург – Кронштадт в ноябре 1815 года. «Елизавета» имела машину в четыре лошадиные силы и покрывала в час около девяти верст.
П. И. Рикорд опубликовал в «Сыне Отечества» специальную статью о преимуществах паровых судов и блистательной их будущности. «Классик» парусного флота, он прежде многих и многих коллег разглядел «закат парусов».
[Закрыть].
Он не изменил своему правилу: команду набирал по доброму согласию, офицеров тоже, и притом лишь тех, чье мастерство не вызывало сомнений. Впрочем, нет, были исключения из правила. Одно по просьбе безвестного мичмана, другое по просьбе известного мореплавателя, третье, очевидно, по просьбе столь «важной» особы, что Головнин не устоял.
Безвестный мичман не отличался богатырским сложением. Рыжеватый блондин, он смотрел на Василия Михайловича преданно и восторженно, как паж на короля. Фердинанд Врангель самовольно покинул фрегат, на какой-то лайбе пришел из Ревеля и вот бил челом: сделайте милость, возьмите! Может, Головнину вспомнился другой мичман? Тот тоже не имел покровителей во флоте. И Головнин «устроил» нарушителя дисциплины на шлюп «Камчатка».
Ну, хорошо, Врангель мог козырнуть аттестацией, полученной в Морском корпусе. А вот этот едва оперился в Царскосельском лицее. Лицеисты, поди, не отличают грот-мачту от якорного каната! Да что тут попишешь, коли просит за Федора Матюшкина старший и старый товарищ – Крузенштерн? (А Крузенштерна просил директор лицея, известный педагог и добрейшая душа Егор Антонович Энгельгардт.) И вот уж в июле 1817 года читает Головнин благодарственное письмо из Царского Села, письмо, поныне хранящееся в Пушкинском доме.
Если радеешь незнакомым, как не порадеть почти родственникам? И наш мореход, большой противник протекций, не противится настояниям невесты. У Евдокии-то братья в корпусе. А какой гардемарин не жаждет кругосветки? Гм! Так-то оно так, да вот этот самый Ардальон не медальон. Непутевый малый, ей-богу. Подумать только, молоко на губах не обсохло… Э-э, какое «молоко», ежели разжалован Ардальон из гардемаринов в матросы второй статьи за пьянство! А у Евдокии вся надежда на тяжелую крепкую женихову руку. И Головнин принимает под свою руку бесшабашного Ардальона Лутковского. Но вроде бы и «компенсирует» его другим Лутковским, Феопемптом – спокойным, дельным, знающим английский и французский языки[100]100
Ардальону Лутковскому (очевидно, заступничеством будущего шурина) вернули звание гардемарина. Служил он недолго: в 1822 году погиб у берегов Голландии.
О Феопемпте Лутковском см. примеч. 57.
Двое других Лутковских, Нил и Петр, были удачливее Ардальона. Нил дрался с французами во время Отечественной войны, получил боевой орден; в год отправления «Камчатки» находился в Свеаборге. Петр Лутковский пережил братьев и умер в 1882 году полным адмиралом. Его бумаги, в том числе письма В. М. Головнина, хранятся в отделе рукописей библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Любезно сообщено Ц. И. Грин.
[Закрыть].
В конце августа кончились сборы. «Камчатку» снарядили, экипаж снарядился. Гребные баркасы вывели шлюп на Большой рейд. Туда, откуда «в предназначенное плавание идут тяжелые корабли».
Бердовская «Елизавета» привезла в Кронштадт бывшего лицеиста Федора Матюшкина. Строгий и осторожный ученый М. А. Цявловский указывает: «Если Пушкин вернулся в Петербург из Михайловского до 26 августа, то, возможно, он провожал Матюшкина до Кронштадта».
Они были однокашниками и друзьями. Академик Е. В. Тарле в письме к автору этих строк говорил: «Пушкин, может быть, только Дельвига и Пущина так любил, как Матюшкина».
Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!
Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!
Поступая в ученье к Головнину, Матюшкин имел дружеское и настоятельное поручение Пушкина. Долгое время считалось, что Матюшкин не выполнил его. Нет, выполнил. Убедимся чуть позже.
Было бы очень и очень заманчиво свести под кронштадтским небом юного Пушкина и капитана Головнина. Увы, даже если Пушкин и ездил в Кронштадт, Головнин его не видел. И порукой тому дневник Федора Матюшкина: Матюшкин уже расположился на борту «Камчатки», а Василий Михайлович все еще задерживался в Петербурге. Чертовски жаль! Что бы это ему появиться несколько раньше. Впрочем, кто знает, может, сурово-задумчивый Головнин вовсе и не приметил бы молодого Пушкина?
3
Моря разъединяют континенты, корабли соединяют. Вахты, мили, ветры, погоды существенны в жизни морехода. Но подлинное золотое руно аргонавтов в том, что открывается уму и взорам. «Камчатка» шла в мир. Мир наплывал на «Камчатку». Сто тридцать человек смотрели на этот пестрый, этот переменчивый, этот движущийся мир.
Стремление запечатлеть увиденное – не суетность, а потребность благородная. В каютах шлюпа четверо (по крайней мере) склонялись над столом с пером в руках.
Журналы Головнина были изданы, мы в них заглянем. Записки мичмана Федора Литке и волонтера Федора Матюшкина больше века покоились под спудом. Дневник мичмана Врангеля исчез, кажется, навсегда.
Василий Михайлович адресовался в два адреса: к тем, кто пойдет курсом «Камчатки», и к тем, кто, не покидая очага, хотел видеть далекие страны. Молодые люди, подчиненные Головнина, не рассчитывали на типографию.
Два с небольшим месяца после отплытия из Кронштадта, в ноябре 1817 года, корабль отдает якорь у берегов прекрасной и нищей Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Путешественники съежают на берег.
Можно услышать грохот огромного водопада, и они слышат его. Можно посетить театр, и они посещают. Можно насладиться игрою гитариста Жуана Мануэля де Сильва или ученика Гайдна пианиста Нейкома, и они наслаждаются.
Можно приятно и не без пользы побеседовать с натуралистом Лангсдорфом, русским консулом в Рио, и они беседуют с Григорием Ивановичем Лангсдорфом. А еще можно попасть на улицу Волонга, где рынок черных рабов, или на невольничий корабль и призадуматься о многом.
«Сколь прискорбна мысль, – пишет мичман Федор Литке, – что одна из плодоноснейших стран в свете не может быть возделываема, словом сказать, не может иметь политического бытия, не лишая некоторого числа на несчастье рожденных людей драгоценнейшего и священнейшего права свободы. Португальцы говорят, что это необходимо, и преспокойно торгуют невольниками… Здесь есть улица, в коей продают негров. Она состоит из домов или, лучше сказать, сараев, разгороженных на две половины. В одной продаются мужчины, в другой – женщины. Желающий купить является. Хозяин показывает ему своих негров, заставляет их делать разные телодвижения в доказательство здоровья их. Покупающий смотрит у них язык, как коновал смотрит у лошадей зубы. Товар продан – и бедный негр делается собственностью другого»[101]101
Двухтомные записки Ф. П. Литке находятся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота (Ленинград).
[Закрыть].
Матюшкин согласен с Литке. Но гнев Матюшкина накаленнее. Он был и на улице Волонга, и в плавучем португальском застенке:
«Там можно видеть все унижение человечества как со стороны притесненных несчастных негров, так и со стороны алчных бесчеловечных португальцев… Все, что себе можно вообразить отвратительного, представляется глазам нашим… Негры валяются везде и от боли стонут, другие с нетерпением и остервенением срывают у себя нарывы, по всему судну распространяется несносная, неприятная духота. Везде нечистота, неопрятность и нерадение португальцев видно. Они спокойно обедают (я был там в полдень), а недалеко от них несчастный полумертвый негр мучится, стонет и, кажется, издает последний вздох».
Матюшкин спустился в трюм, у него захватило дух: ребятишки, черные ребятишки. Он спросил, что же это такое, как же это можно? Ему отвечали «с совершенным хладнокровием: «Мы нашли за выгоднейшее возить детей, взрослых стараемся избежать и когда уж нельзя избежать, то их содержим весьма строго, в цепях».
Матюшкинские записи отличаются особенным звучанием – тираноборческим. На «Камчатке» был он, пожалуй, самым «левым». Тому и причины есть, и доказательства.
Восемнадцатилетний волонтер шагнул на корабль «с лицейского порога». Лицей пушкинской поры не тихая заводь, не питомник благонамеренных чиновников, но рассадник вольномыслия. «Краеугольный камень» положили в души юношей Куницын и Малиновский, последователи Радищева. Они воспитали «пламень», который освещал и согревал пушкинский круг. К нему принадлежал и Федор Матюшкин.
У пушкинистов существовало предание: отправляясь в плавание с Головниным, волонтер собирался вести записки «по совету и плану Пушкина». А пушкинист М. А. Цявловский уже прямо указывал, что именно Пушкин изъяснял однокашнику и единомышленнику «настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы».
Десяток с лишним лет назад мне посчастливилось читать то, что по плану и совету своего друга исполнил Матюшкин на борту головнинского шлюпа.
В отличие от Литке он не ограничился сочувственными эпитетами. Он жалел, что бразильские негры не «составят меж собой тайной братский союз!» Позднее, в Перу, он называет индейца, вождя повстанцев, «народным благодетелем!» И наконец, завершая дневник, берет грозный аккорд: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтоб доставить подданным счастье, безопасность, но надобно изгнать его из колоний – для блага всего человечества».
Русские «кругосветники» наложили позорное тавро на работорговлю, на рабство. Записки моряков смыкаются с «негритянской темой», которая громко и явственно, долго и настойчиво звучала в русской литературе, у Радищева и у тех, кто «вослед Радищеву».
Негрофильство их не было лишь подражанием аббату Рейналю, автору «Философской и политической истории о колониях и торговле европейцев в обеих Индиях». Оборотной стороной негрофильства было русофильство. Русофильство вполне определенного, хотя и потаенного, толка – печалясь о черном рабе, печалились о рабе белом, о крепостном; клеймя португальского или испанского изверга, клеймили изверга русского, крепостника-помещика. То были не просто кивки в заокеанскую сторону, но и призывы: «Оглянись во гневе!»
Путевые записки мореходов при всем различии уровней – литературного, исторического, политического – схожи в одном: хоть убей, не выжмешь из них и пригоршню сведений о самой корабельщине. Фамилии названы, и только. Ни внешних, ни внутренних примет. В дневнике Матюшкина ни строки о начальнике, о товарищах. Дневник Врангеля куда-то запропастился. Лишь из его беглых, отрывочных записей, изданных в Штутгарте в 1940 году, можно установить, что рыжеватый блондин был на шлюпе «правым», что ему претило «материалистическое направление» Литке. И только вот этот самый «материалист» помогает нам представить и «Камчатку», и – что важнее – командира «Камчатки».
Пятьдесят лет минуло. Бывший мичман, проказник и весельчак, обратился в знаменитого путешественника, члена-учредителя Русского географического общества, президента Академии наук. И тогда-то Литке помянул своего давнего наставника, капитана второго ранга Василия Михайловича Головнина:
«В его глазах все были равны… Ни малейшего ни с кем сближения. Всегда и везде командир: steif (непреклонный и недоступный) донельзя… Все его очень боялись, но вместе и уважали, за чувство долга, честность и благородство». И далее: «Его система была думать только о существе дела, не обращая никакого внимания на наружность… Щегольства у нас никакого не было, ни в вооружении, ни в работах, но люди знали отлично свое дело, все марсовые были в то же время и рулевыми, менялись через склянку, и все воротились домой здоровее, чем пошли… Я думаю, что наша «Камчатка» представляла в этом отношении странный контраст не только с позднейшими николаевскими судами, но даже с современными своими. После того что я сказал о характере нашего капитана, излишне упоминать, что на «Камчатке» соблюдалась строгая дисциплина. Капитан первый показал пример строгого соблюдения своих обязанностей. Ни малейшего послабления ни себе, ни другим». Великолепная характеристика. Не только человеческих свойств, но и профессиональных качеств, головнинской «науки побеждать» непобедимое море. И она, наука эта, обратила шлюп в школу мореходного искусства.







