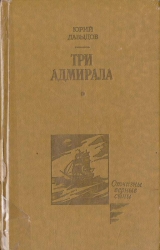
Текст книги "Три адмирала"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Старики в то время, конечно, мало знали; да иначе и быть нельзя – они знали одно только свое дело, а в дела посторонних служб не вмешивались. Румянцев, Потемкин, Суворов признавали себя чуждыми в познаниях морских, но зато прославили себя навек своим ремеслом, кажется, и довольно бы. Нет, нонича, не говоря о генералах, каждый армейский офицер анатомирует всякого рода службы и дело, хвалит, осуждает и все знает, о чем только речь зайдет.
Они рассуждают и решают важные вопросы, например: надобен ли России флот или нет, они отвечают – можно легко обойтись без флота, были бы только солдаты, к тому же прибавляют, что держание флота дорого стоит.
Петр Великий сказал, кто из государей имеет армию и флот, тот имеет две руки. В царствование Екатерины, можно сказать, при скудном положении государственных финансов, но о дороговизне содержания флота никогда и никакой речи не было, да и не могло быть; распорядись только хорошо…
Эти говоруны ничего не знают и не понимают, они похожи, как кажется мне, на глупых тетеревов глухих, бормочут с ними одинаково, как говорится, ни складу ни ладу, с тою только разницей, что тетерева во время бормотания вредны для себя, а наши глупцы вредят много государству, их, дураков, слушают и соглашаются иногда с ними.
Насчет тогдашних и нынешних распоряжений ясно можно видеть разницу и пользу оных, которые покажутся во всех отношениях, конечно, неимоверны.
Беспрестанно нонича толкуют, что в Кронштадте жить матросам негде и тогда еще, когда весь флот имеет с небольшим 10 кораблей. Спрашиваю, где же помещались прежде люди, когда флот имел более 40 кораблей? Ответствую, и верно ответствую, что помещались они в губернских домах, ныне еще существующих (то есть в домах, выстроенных на счет губерний. – Ю. Д.), в одной деревянной для артиллеристов казарме и по кватирам, ибо флигелей каменных и гошпиталя (что теперь на канаве) тогда еще не было, они построены после шведской войны, и люди жили, и жили, как говорится, припеваючи. Больных было весьма мало, а о повальных болезнях никогда и слышно не было. Не теснота делает болезни, а угнетение человека в духе. (Здесь и ниже подчеркнуто Сенявиным. – Ю. Д.)
В то время люди были веселы, румяны, и пахло от них свежестью и здоровьем, но нонича же посмотрите прилежно на фрунт, что увидите – бледность, желчь, унылость в глазах и один шаг до гошпиталя и на кладбище. Без духа ни пища, ни чистота, ни опрятство не делают человеку здоровье. Ему надобно дух, дух и дух.
Пока будут делать все для глаза, пока будут обманывать людей, разумеется, вместе с тем и себя, до тех пор не ожидай в существе ни добра, ничего хорошего и полезного».
Вспоминая, Дмитрий Николаевич забывал: свойственно памяти – «что пройдет, то будет мило». Но не только избирательность памяти окрашивала все розовым. На мемуариста (неприметно для него самого) влияли два обстоятельства. Сугубо личное. И неличное, а, так сказать, общефлотское; стало быть, отчасти и государственное.
Десятилетия его жизни пришлись на эпоху, которая в прежних курсах истории метилась екатерининской. Для Сенявина она озарена черноморским солнцем, солнцем большой страды, забиравшей все силы, все помыслы. А время ревельское выдалось для него мрачноватое. Оно, как тамошнее небо, затмевалось мглою и, как тамошняя морось, пробирало до костей. И Дмитрий Николаевич Сенявин, сидя за столом, за письменным своим занятием, тоже испытывал «угнетение в духе». Ибо, говоря красиво (хотя красиво говорить и не следует), Сенявин после Средиземного моря получил не лавровый венок, а терновый венец.
Рассуждая о екатерининском флоте, Сенявин был не совсем прав; рассуждая о флоте александровском, Сенявин был совсем прав.
Приводя известное изречение Петра, Дмитрий Николаевич допустил неточность, и, по-моему, нарочитую. Петр Великий говорил не о двух руках государя, нет, о двух руках «патентата», то есть государства. А Сенявин, повторяю, намеренно говорит о царе, об императоре. Почему? Да потому, что как раз Александр Павлович был отчимом «дорогостоящего» флота; детище Петра казалось ему и лишним, и чужим, и докучным; Александру Павловичу принадлежала ведущая роль в умалении русской «морской идеи».
Сенявин с умыслом клеймит не просто глупцов, а уточняет – «глупых тетеревов глухих», от которых беда державе. Фиговым листком множественного числа прикрыта нагота «числа единственного»: Александр I был туговат на ухо, непочтительные люди окрестили его «тетеревом».
Знаменательны и мысли Сенявина о том, что мы теперь называем фактором моральным: «надобно дух, дух и дух». Солдатчина никогда не была лубочной разлюли малиной. Однако при Суворове и Румянцеве, которые «знали свое дело», – одно; и совсем другое – при Павле и Аракчееве, которые «анатомировали», но прежде того умерщвляли (конечно, из милосердия).
Заметьте, куда приглашает вас Сенявин, чтобы поглядеть на «нижних чинов»: не на палубу и не на реи, не в полевой лагерь и даже не в казарму – к фрунту, на плац-парад, в «святая святых» аракчеевщины, где вы и увидите «бледность, желчь, унылость», где никакого духа нет, кроме госпитального или кладбищенского.
И от всей этой подлости и пошлости Дмитрий Николаевич мысленно бежит в невозвратное – в причерноморские степи, на Черное море.
С удовольствием, охотно и бойко рассказывает он, как возникал Севастополь, как черноморцы бились с турками, как капитан 2-го ранга Сакен взорвал свой корабль, но не сдался…
Вот здесь-то, эпизодом 1788 года, и обрываются записки Дмитрия Николаевича. Во всяком случае, продолжение, если оно и существует, не обнаружено. И потому, ахнув, хватаешься за голову, когда Л. Г. Бескровный, автор содержательных очерков по источниковедению военной истории России, утверждает: «Большой интерес вызывают «Записки адмирала Д. Н. Сенявина», в которых описываются действия русского флота в Средиземном море». Что там «большой» – громадный: ведь основное сенявинское дело вершилось на Средиземном море! Да только где эти «описывающие записки»??? Нету. А если они и ведомы автору «Очерков» (в чем позвольте усомниться), то он ревниво не указал их местонахождение…
Аракчеев, отправляясь в лучший мир (хотя и в здешнем не пришлось ему солоно), завещал миллион историку царствования Александра Благословенного. Один из тогдашних писателей съязвил: лучше бы, мол, Аракчеев оставил вдесятеро меньше денег, а написал «какие-нибудь записки о своем благодетеле». И уже серьезно добавил, что записки очень и очень нужны, ибо «трудно будет историку находить правду в реляциях».
Думаю, от записок «без лести преданного» проку было бы чуть; в них обнаружилось бы правды не больше, чем в реляциях. Однако в замечании писателя – тоска по живым, неофициальным свидетельствам о минувшем.
Ни полушки не перепало от Сенявина жрецам Клио. Но тоску и жажду их, хоть и малость, он утолил. Многие «зеркала» разной степени кривизны отобразили придворное, петербургское, парадное, фейерверочно-праздничное или альковно-екатерининское. Огорчительно мало тех, что отобразили будни «будничных» людей. И вовсе нет иных, кроме сенявинских, страничек, на которых бы так картинно запечатлелась флотская обыденность.
Почему ж он не продолжил? (Полагаю, не продолжил!) Отчего? Какая тому причина?
Писать мемуары, говорил Пушкин, заманчиво и приятно. Приятно, ибо никого так не любишь, как самого себя, иронизировал Пушкин. Писать мемуары трудно, уже не иронизируя, продолжал Пушкин, очень трудно: не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая.
Самовлюбленности в Сенявине не приметно. Самоанализа, свойственного другим поколениям, тоже. Очевидно, не страх суда над собственным «я» заставил Сенявина бросить перо. Что же?
Мемуары требуют досуга. А тут накатил такой вал, когда «заманчивое и приятное» откатилось.
3
Двенадцатый год. Отечественная война помнятся каждому словно бы какой-то иной, не школьной, что ль, памятью, а «священной памятью», и, войдя в сознание еще почти детское, никогда уж не отрываются от понятия «родина»…
«Есть точные указания, что впервые не только размышлять вслух о войне с Россией, но и серьезно изучать этот вопрос Наполеон начал с января 1811 года, – говорит академик Е. В. Тарле. И продолжает: – Военная и дипломатическая подготовка к концу весны 1812 года была Наполеоном в основном и отчасти в деталях закончена. Вся вассальная Европа покорно готова была выступить против России».
В России даже политические младенцы не видели в том ничего внезапного и вероломного. И Александр тоже. В этом он не был похож на Николая I. Николай принимал как личное оскорбление, как недоверие к его государственному разуму всякое упоминание о подготовке Англии и Франции к войне, названной впоследствии Крымской. Он и мысли не допускал, что кто-то может переиграть русского самодержца в политических или военных комбинациях. Александр, напротив, внимательно прислушивался к сообщениям о подготовке Франции; его дипломатическая служба (не в пример николаевской) не ежилась от страха огорчить повелителя «пренеприятными известиями».
Весною 1811 года, когда император французов «размышлял вслух о войне с Россией», было велено повысить боеспособность русского флота и главные командиры портов получили весьма подробные предписания.
Одно из них адресовалось в Ревель, вице-адмиралу Сенявину: «Государь император высочайше указать соизволил состоящие в Ревело 15 канонерских лодок и один провиантский транспорт приготовить и вооружить для кампании к первому числу будущего апреля».
Сколачивая Великую армию. Наполеон не имел возможности сколотить Великую армаду, однако поначалу не отказывался от мысли двинуть на Россию и свои морские силы.
Об этом в Петербурге узнали не весною одиннадцатого года, а ровно годом позже – из депеши русского посла в Швеции. Смысл ее сводился к тому, что Наполеон намерен отправить на Балтийское море флотилию канонерских лодок для поддержки левого фланга своих армейских частей. И верно, Наполеон тогда планировал наступление на Петербург, а не на Москву.
Началось усиленное строительство канонерских лодок. Началось не менее спешное вооружение корабельного флота. К действительной службе срочно призвали опытнейших офицеров, «повинных» в английском происхождении.
После Тильзита Александр исполнил пожелание Наполеона, похожее на приказание: удалить из флота людей с английскими фамилиями. В число изгнанных попали не только Тет и Кроун, очень дельные адмиралы, но и Белли с Грейгом, имевшие прочную боевую репутацию. Все они очутились в ссылке. Многие влачили жалкое существование, особенно Белли, сподвижник Ушакова и Сенявина.
Русские офицеры жаловались (и основательно) на предпочтение, которое правительство оказывало чужеземцам. Однако тех, что вернули из ссылки, радушно приняли на кораблях: эти служили честно, а их оскорбили в угоду Наполеону. Многим тогдашним флотским было свойственно чувство справедливости. Во всяком случае, по отношению к сослуживцам.
И как раз это же чувство, а вовсе не огульное отчуждение от людей с нерусскими фамилиями, выказалось и во флотском неудовольствии, когда Александр, воздав должное Тету, Кроуну, Грейгу и другим, «позабыл» Сенявина.
Ни у кого не возникало и минутного колебания: именно Дмитрий Николаевич, герой морей, победитель французов, именно Сенявин самим господом богом определен в командующие. Тут дело было не только в его флотоводческом даровании. Тета и Кроуна уважали, Сенявина и уважали и любили. Ничуть не обижая первых, флота лейтенант Н. Д. Каллистов отметил, что последний пользовался «восторженным обожанием подчиненных».
Однако Александр Павлович, как все самодержцы, полагал, что «восторженным обожанием» должен пользоваться лишь он, самодержец, и никто более. «Восторженное обожание», обращенное на кого-либо другого, всегда настораживало, всегда пугало верховных правителей. И этого «обожания» Александр не прощал Кутузову, не прощал и Сенявину. Русский царь говаривал, что все русские либо плуты, либо дураки. Однако плуты и дураки спокойно уживались подле трона. Не уживались те русские, которые позволяли непозволительное – мыслить самостоятельно…
Началась война. Наши армии откатывались на восток.
Пал Витебск. Пал Смоленск.
Сенявин сидел в Ревело. Над Олай-кирхой реяли ласточки. Ночные сторожа, медлительно ударяя колотушкой, выкрикивали, который час.
Армия Кутузова отходила.
Эскадра адмирала Кроуна следовала из Архангельска на Балтику. Кронштадтская эскадра адмирала Тета готовилась к заграничному походу: действовать вместе с англичанами.
Сенявин сидел в Ревело. Густела зелень Екатериненталя. Рейд отражал пухлые кучевые облака. Старики удили рыбу.
Громадная война решала судьбу родины.
Сенявин сидел в Ревеле. Были страшные дни, страшные недели: очень тихие и очень спокойные. На свинцовых и черепичных крышах тлели отсветы нежаркого солнышка. На зорях стучала повозка молочника. Море простиралось чуть замглившееся.
Он сидел в Ревеле. О нем не вспоминали. Он послал «всеподданнейшее прошение» – назначьте в дело, дабы «служить противу неприятеля». Царь не ответил. Может, прошение не дошло до царя?
«Милостивый государь мой, Дмитрий Николаевич! На всеподданнейшее прошение вашего превосходительства, представленное мною государю императору относительно желания вашего служить противу неприятеля, его величество вопросить изволил: «Где? В каком роде службы? И каким образом?» О чем уведомляя вас, милостивый государь мой, есмь с истинным почтением и преданностию вашего превосходительства покорнейший слуга, маркиз Иван Траверсе».
Сутки, как в беспамятстве, Сенявин не брался за перо.
Потом написал морскому министру:
«Милостивый государь маркиз Иван Иванович! Вчерась, с приездом курьера, я получил письмо вашего высокопревосходительства от 31 числа минувшего июля (1812 года. – Ю. Д.) за № 1570 и вследствие высочайшего его императорского величества вопроса, объявленного в оном письме, где? в каком роде службы? и каким образом? желаю я служить противу неприятеля, ответствовать вашему высокопревосходительству честь имею.
Намерение мое есть, по увольнении отсюда, заехать в Петербург и, повидавшись с женою и детьми, ехать потом к маленькому моему имению… Там отберу людей, годных на службу, возвращусь с ними в Москву, явлюсь к Главному предводителю второй ограды, подкрепляющую первую, и вступлю в тот род службы и таким званием, как удостоены будут способности мои. Наконец, буду служить таким точно образом, как служил я всегда и как обыкновенно служат верные и приверженные русские офицеры государю императору своему и отечеству».
Шла война национальная, отечественная. Сенявин, нарочито повторив издевательские вопросы царя, предложил себя народной войне. Он хотел вступить в ополчение, хотел защищать Москву вместе с крестьянами. Он не оговаривал себе никаких чинов, никаких должностей: «как удостоены будут способности мои».
Маркиз Иван Иванович де Траверсе мог занимать кресло морского министра, не выиграв ни единого морского сражения. Дмитрий Николаевич Сенявин не мог служить так, «как служил всегда». Ему отказали даже в праве на боевую, солдатскую смерть.
Он подал в отставку.
Император, не сказав ни слова, уволил его.
Прибавить к тому нечего.
4
Строки послужного списка:
«По прошению уволен от службы…» – апрель 1813-го.
«Вне службы находился 12 лет, 8 месяцев и 3 дни» – декабрь 1825-го.
Какая точность, какое бесстрастие! Впрочем, чего ж требовать от формуляра? Но в формуляре, как в футляре, упрятаны годы и годы сенявинской жизни.
Отставка Сенявина – это не только годины, когда Аксаков видел «господина, так гадко одетого», когда «великий человек» почти христарадничал. Отставка Дмитрия Николаевича – это пора, когда он ждал, «чтоб с сумрачной зарей погас печальной жизни пламень».
Некий автор «Воспоминаний и впечатлений» оставил «впечатление», сжимающее сердце: «Дмитрий Николаевич Сенявин, этот знаменитый адмирал и политик, находился в полнейшем забвении», он жил в домишке «на пустыре, вблизи казарм Измайловского полка. Летом, во всякое время, можно было его видеть задумчиво сидящим на деревянной лавочке у ворот своего дома».
Пустырь под бледным питерским небом. Рядом, в слободе, – барабан, отбивающий такт аракчеевщины: десять убей, одного выучи. И не в такт с барабаном – черные думы.
Еще весною Дмитрий Николаевич представил «по команде» длинный, обстоятельный рапорт; вот этот рапорт в отрывках:
«Отправленные из Кронштадта в 1804, 1805 и 1806 годах три дивизии (то есть эскадры. – Ю. Д.) и особо бывшая до того еще в Корфу дивизия из Черноморского флота составили эскадру из 15 кораблей, 6 фрегатов и до 20 других военных судов, которая состояла на Адриатичеческом море и в Архипелаге и которою я имел честь командовать.
Самое время, в которое дивизии сии вышли из портов, показывает, что сколь избыточно ни были они снабжены в России, но в продолжение пребывания их за границей, считая до прибытия моего в Англию, то есть по октябрь месяц 1808 года, все запасы не могли быть достаточны к содержанию всех судов в должной исправности.
В бывшую войну с Францией я должен был, во исполнение данных мне высочайших е.и.в. повелений, иметь все суда в движении и, следственно, во всегдашней готовности к действиям; и сколь чувствительные на то требовались издержки, столь затруднительные были способы к получению наличных денег.
Не распространяясь описанием предстоявших затруднений, я приведу токмо на вид, что от переводов денег, которые доходили ко мне через третьи и четвертые руки и по низкому курсу, казна имела великий убыток. К сему я присоединить должен, что доставленный от правительства еще до прибытия моего в Адриатическое море к контр-адмиралу Грейгу кредитив на 100 000 руб. не мог быть употреблен в дело и мною возвращен государственному казначею.
Оба сии обстоятельства я привожу для того, чтобы показать, сколь убыточно, затруднительно и даже вовсе невозможно было получение наличных денег. Впрочем, сие правительству совершенно известно.
В 1807 году настала война с турками. С оною представилась надобность привести эскадру в вящую исправность соответственно новым данным мне высочайшим повелением, но с тем вместе прекратилось сообщение с черноморскими портами, откуда невозможно уже было получить ни припасов на вооружение судов, ни провизии для продовольствия морских служителей и сухопутных команд, кои для десантов были необходимы.
Итак, все доставать должно было за наличные деньги, но получение оных тогда еще более затруднилось. Находясь в таковом положении, я должен был обратить попечение к различным предметам, то есть к неотложному удовлетворению предстоящих надобностей, к сбережению, по возможности, казенной пользы и к соответственным тому хозяйственным оборотам. Потому старался я заимствоваться деньгами сколько возможно меньше, и счеты мои показывают, сколь ограниченны чинимые мною издержки.
К уменьшению займа денег я нашел себя в необходимости обратить на казенные надобности всю сумму, какая состояла в моем ведомстве, принадлежавшая морским командам, и для того не только не выдал им заслуженного жалованья и следующих им по закону от казны призовых денег, но, сверх того, удержал 106 507 голландских червонцев, которые выручены были за проданные призы, которые состояли налицо и которые я обязан был тогда же им раздать…
По прибытии моем в Россию я представил о сем, куда следовало, счеты; но команды не только следующих им от казны вышеписанных призовых российскою монетою денег, но и собственных их, употребленных мною на казенные надобности, равно как и заслуженного ими жалования, еще не получили…
Выше приведено, что казна осталась должною командам 281 917 голл. червонцев и 635 367 рублей… показанная сумма составляет на ассигнации 4 1/2 миллиона рублей… К тому я смею присоединить еще, что если бы сию сумму раздал я служителям, а на место оной, по дозволению министра морских сил, занял бы такое же число, то сколько казна через то понесла бы убытку от заплаты процентов, за комиссию, по упадку курса и на другие издержки?
Но, употребляя деньги, принадлежащие командам, в противность моего звания, которое я имел честь носить, главнокомандующего эскадрой, я уверил команды, что по прибытии в Россию долг мой будет пещись о возвращении собственности их, мною самовластно удержанной для пользы службы и казны. Они мне верили и не только не роптали за то во все время бытности за границею, но и по возвращении в Россию уже около 8 месяцев удерживаются просить им принадлежащего, конечно, оставаясь в уповании на мое ходатайство».
Вот в чем была жгучая мука. Не мог он, не в силах он был всем и каждому из прежних своих подчиненных разобъяснять, что Государственный совет решил так, а государственный контролер «встретил затруднения», что департамент экономии определил так-то, а другой департамент так-то.
Лишь в ноябре 1817 года, спустя восемь лет по сдаче отчетных документов, назначили возместить морякам Сенявина три миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести семьдесят шесть рублей и восемь копеек. Эти восемь копеек, должно быть, свидетельствовали о тщательности восьмилетних подсчетов?
Восемь лет ходил Сенявин, опуская глаза при встречах с сослуживцами. Восемь лет обивал казенные пороги, ощущая на себе косящий взгляд любой торжествующей свиньи, никогда не нюхавшей пороха, и ловил насмешки столоначальников, никогда не слышавших свиста ядер. Восемь лет старел и горбился на мостовых Петербурга, занимая прожиточные рублики и недоумевая, отчего это господь не призовет его к себе…
Да, восемь лет убито. Однако и теперь, осенью семнадцатого года, хотя и вышло определение об уплате, но еще долго-долго дожидаться «высочайшего утверждения».
А тот, кто «высочайше утверждал», давно прочел письмо, похожее на вопль: примером достойнейших людей, умиравших в нищете, оставляя жен и детей «в самом горьком положении», этим примером я, Сенявин, еще могу жить; «но от стороны чести, государь, чувствительность уязвляет меня до глубины души»; «я соделываюсь виновником лишения собственности даже служителей вашего императорского величества, сих верных и мужественных воинов…»
Из Зимнего ни звука.
Сенявин, несомненно, понимал, откуда дует ветер.
Жалкий Греч назвал морского министра де Траверсе «жалким». Но дело было не в маркизе-царедворце. И не в директорах департаментов или членах комиссий, не в контролерах и казначеях, хотя все они приложили холодную руку к сенявинскому «вопросу».
Не со своим временем конфликтовал Сенявин и не со своей средой. Сенявин конфликтовал с личностью, которая была недостаточно личностью, чтобы быть выше личного но вместе с тем была достаточно личностью, чтобы одним поджатием губ диктовать свои желания машине державного делопроизводства.
«Характер императора Александра мало выяснен», – задумчиво молвил Герцен. Кажется, он не совсем прав. Конечно, в любом человеке есть что-то «мало выясненное». Однако множество высказываний о «Благословенном», и притом высказываний отнюдь не противников монархии, слагаются в весьма ясный портрет этого монарха.
Вот тот же Греч: «Злопамятен; не казнил людей, а преследовал их медленно… О нем говорили, что он употреблял кнут на вате».
Шведский дипломат: «Фальшив, как пена морская».
Прусский канцлер: «Властолюбие и коварство под плащом любви к людям и благородного либерального настроения».
Голландская королева: «Кокетка».
Русский генерал: «Дух неограниченного самовластья, мщения, злопамятности, недоверчивости, непостоянства в обещаниях, обманов и желания наказывать выше законов. Но таковые его поступки оказывал он наиболее против одних военных людей… А также нужно упомянуть и об особой его склонности и внутреннем удовольствии продолжать, сколько можно, несчастья человека».
В последней характеристике примечательно отношение к военным. Марсово поприще манило Александра Павловича. Там он намеревался блистать, но именно там выказал унылую тусклость. И потому блестящие военные таланты ему хотелось ущемлять и унижать в первую голову.
Александр не терпел Кутузова. Однако гроза двенадцатого года не позволила обойтись без Кутузова. Без Ушакова и Сенявина обойтись удалось: помог континентальный оборот антинаполеоновской войны.
Кутузов умер еще до окончания войны, хотя исход ее уже был предрешен. Но Михаил Илларионович умер и тем избавил Александра от «дележки» лавров. С Ушаковым делить было нечего. К тому же Ушаков канул в тамбовской глухомани, где и кончился.
Но вот с Сенявиным! Как ни держи его в небрежении, с Сенявиным приходилось считаться, хотя бы потому, что этот вице-адмирал был «ходячим» укором, несносным напоминанием о том, о чем лучше было бы позабыть. Этот вице-адмирал поступал в Адриатике вопреки августейшей воле (и за сие еще получал монаршие похвалы); на сенявинской эскадре после Тильзита был «дух нехорош»…
Как все слабые люди, Александр не прощал тех, кто видел его слабость: Кутузову – свое аустерлицкое унижение, Сенявину – послетильзитское. Особенно выигранную Сенявиным тяжбу с Наполеоном за судьбу эскадры и моряков, тяжбу, в которой он, Александр, уступил. Теперь, когда Наполеон был сокрушен, Александр Павлович очень хотел, чтобы все думали о том, как русский император всегда и везде, при любых обстоятельствах был, что называется на высоте. Но в том-то, видимо, и штука, что Александр сознавал: этот вице-адмирал так думать не станет; не то чтобы не может так думать, а не хочет, не станет, и баста.
Как все некрупные фигуры, Александр подозревал фигуры крупные в тайном уменьшении его, Александра, значимости. Он был ревнив. Старые психологи остроумно определяли манию величия: повышенное самочувствие. Повышенное самочувствие в душах, подобных душе Александра, перемежается с самочувствием пониженным, но воображение терзает самолюбие в обоих случаях.
Наконец, этот вице-адмирал, словно назло ему, Александру, сберег и людей и деньги. Старика Прозоровского однажды попрекнули затратами на лечение нижних чинов; фельдмаршал ответил: «Русский солдат дороже серебряного рубля!» А этот вице-адмирал и людей сэкономил, и серебряные рубли сэкономил. Да еще во времена острой нехватки матросов и недостатка звонкой монеты.
Казалось бы, самое отношение Сенявина к коронным нуждам, к финансам государства должно было бы радовать тогдашнего «хозяина земли русской». Но в том-то и суть, «хозяину» втайне претило все, что выдавалось из общедворянской нормы нравственности, или, вернее, безнравственности.
И Екатерина, столь нарумяненная Сенявиным, и Павел, столь ему неприятный, доили казну своею собственной рукой. «Государственное имущество», «государственное добро» представлялись категориями почти заумными. И если, например, адмирал Мордвинов толковал о таких отвлеченностях, «тузы» усмешливо или злобно пожимали плечами: Николай Семеныч «больно затейлив».
В то самое время, когда Сенявин изворачивался, страшась обременять бюджет, генерал Савари видел толпу петербургских вельмож, «алчущих роскоши» и прибегающих к «непозволительным средствам», проще сказать, к размашистому грабежу казенного сундука.
А тут, извольте радоваться, этот вице-адмирал тычет в нос свою бережливость, да еще в придачу выставляет бескорыстие офицеров и матросов, которые «удерживаются просить им принадлежащее».
Александр душил Сенявина, но в бархатных перчатках; он его стегал, но кнутом на вате. И все же унижение Сенявина не сравнишь с долей Барклая де Толли:
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье!
«Век» не ругался над Сенявяным. Его понимали, ему сочувствовали. И не только те, кто был с ним в морях и сражениях. В одном письме к императору (в списках оно ходило по рукам) прямо заявлялось: неправедно гоним Сенявин, заслуживший своими достохвальными поступками уважение нации. Иван Федорович Крузенштерн, первый русский кругосветный плаватель, составляя атлас Тихого океана, нарекает именем Сенявина южно-сахалинский мыс. Генерал Мертваго, друг Державина, указывает на Сенявина: «Это великий человек!» А Булгаков, сын екатерининского посла в Турции и брат молодого дипломата, посетившего эскадру Сенявина в Эгейском море, москвич Булгаков даже через край хватил: «Далеко Ушакову до Сенявина!» Многие, очень многие при виде Сенявина вспоминали ломоносовское: «Почтен и в рубище герой».
В 1818–1819 годах издаются книги, посвященные сенявинской эпопее: «Записки морского офицера» (в четырех частях) капитан-лейтенанта Владимира Броневского; «Воспоминания на флоте» (в трех частях) дипломатического чиновника Павла Свиньина.
И Броневский и Свиньин прибегали за советами и справками к своему главному герою. Но Броневский сверх того имел доступ в Адмиралтейский архив. Последнее обстоятельство плюс специальные знания придали его «Запискам» больший вес. Впрочем, Броневский взял верх не только этим.
Свиньин – он занялся литературой, приступил к изданию «Отечественных записок», – Свиньин, пожалуй, слишком витийствовал. А Броневский… Мы располагаем двумя отзывами. Между ними огромный разрыв во времени: один появился почти тотчас, а другой спустя чуть ли не полтора века.
Рецензент петербургского журнала писал: «…Сочинения мореходцев наших имеют отличительный характер: какую-то особенную твердость и правильность мыслей, точность, подробность и ясность в описаниях, благородную свободу в суждениях, пламенные чувства дружбы и бескорыстия, слог простой, не у всех и не всегда совершенно правильный, но всегда ясный, твердый и чистый… Сочинение г. капитан-лейтенанта Броневского может быть поставлено наряду с лучшими произведениями наших мореходцев-литераторов. Один предмет оного уже достоин всего внимания отечественной публики: кампания вице-адмирала Сенявина составляет блистательнейший период в летописях Российского флота, и чем более время удаляет ее из памяти и воображения современников, тем важнее, тем драгоценнее должны быть известия, сообщаемые о ней очевидцами отечеству и свету».
Спустя много-много десятилетий Константин Паустовский говорил студентам Литературного института:
– Недавно мне попалась книга «Записки морского офицера», о кампании Сенявина. Там потрясающее языковое богатство, хочется взять и выписывать целыми страницами – так великолепно построена фраза и так много свежих, забытых, очень точных слов, которые весьма пригодятся в нашу эпоху[57]57
Кстати сказать. Владимир Броневский в 1822 году был избран почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. Кроме ценнейших «Записок», он опубликовал «Путешествие от Триеста до Петербурга» – рассказ о возвращении в Россию части сенявинцев, «Письма морского офицера» – литературную обработку бумаг участника сенявинского похода Н. Коробко, «Обозрение южного берега Тавриды», «Историю Донского войска» в 4 книгах, перевел один из романов Вальтера Скотта.
[Закрыть].
На сочинение Броневского подписывались у книгопродавцев и – по тогдашнему обыкновению – у сочинителя, в доме на углу Невского и Литейного. Среди подписчиков встречаешь имена Батюшкова и Кюхельбекера, Василия Львовича Пушкина, историка Малиновского… Имена подписчиков свидетельствуют о «внимании отечественной публики» к сенявинской одиссее, к опальному «Одиссею». Встречаешь, конечно, и моряков. Большей частью офицеров Гвардейского флотского экипажа, квартировавшего в столице. А среди них и лейтенанта Николая Дмитриевича Сенявина.








