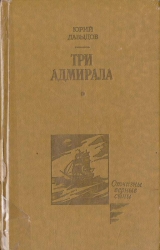
Текст книги "Три адмирала"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 40 страниц)
Глава вторая
1
В тот январский день, когда Адмиралтейская коллегия решила участь Головнина, Конвент решил участь Людовика XVI. А в тот январский день, когда мичман отвешивал начальству благодарственные поклоны, бывший король Франции склонился на эшафоте.
Имеет каждый век полосы штилевые и полосы штормовые. Головнин начал офицерскую службу в конце XVIII века. Конец XVIII века начался ураганно.
Расширенный зрачок мира вперился во Францию. Можно было ненавидеть ее, можно было восторгаться ею. Невозможно было не замечать ее. Стратегические движения на континенте, будь то движение мысли или полков, определялись Францией, соотносились с Францией.
Все вдруг словно бы пустилось в чудовищный круговорот. Басили пушки. Возникали и распадались коалиции. Согласно правилу – соседи – враги злобные – соседка Франции, там, за Ла-Маншем, подкупала одних, пугала других, уговаривала третьих. Четвертых она покупала, пугала и уговаривала.
Марс улыбался французам, Нептун – англичанам. По слову Меринга, то была борьба льва с акулой. Но от этой схватки зависела жизнь сотен тысяч вовсе не помышлявших ни о величии Франции, ни о могуществе Англии. Борьба была столь же долгой, сколь и жестокой. История – цирюльник: она умеет «отворять кровь».
Короткий удар гильотины по Людовику XVI отозвался длинной и мучительной судорогой – от престола к престолу. Молодящаяся петербургская мадам «слегла в постель и больна и печальна». Вскоре младший брат казненного граф д'Артуа получил от государыни шпагу. На ней сияло: «С богом за короля», в рукоятке переливался крупный бриллиант. Еще крупнее была сумма наличными – миллион золотом. Императрица заверяла родственников Людовика: «Я намерена содействовать успеху ваших дел».
Однако эмоции, как и интимности, Екатерина не смешивала с политикой. Успеху «ваших» дел она всегда предпочитала успех «наших» дел. А «наши» дела вершились не на Сене, а на Виоле. Три венценосца – австрийский, прусский, российский – делили несчастную Польшу. Хилый человек с железным характером пошел на Варшаву; он взял Варшаву, генерал-аншеф Суворов, стал генерал-фельдмаршалом… Озабоченная дележкой польского пирога, «матушка» придержала сухопутную армию близ собственных границ. Зато на море она пособила «акуле».
Головнин уже сделал две кампании, побывал в Стокгольме (теперь дружественном), перезимовал в Кронштадте, когда настал и его черед участвовать в большом европейском кровопускании.
В Англию отрядили эскадру вице-адмирала Ханыкова. Петр Иванович, отменный мореход, имел репутацию сметливого дипломата. На Ханыкова, надо думать, выбор пал не без умысла: когда играешь в паре с Альбионом, гляди в оба, как бы не объегорил.
Перед отплытием эскадру посетили царицыны внуки, Александр и Константин. Высочайшие особы поглазели, как матросики взбегают на ванты и кричат «ура», да и отбыли, провожаемые салютом и вздохами облегчения.
Мичман Головнин часть похода совершил на фрегате «Рафаил», часть – на «Пимене». Там же, на «Пимене», обретался и его корпусный приятель Петр Рикорд. Еще не раз, не два доведется нам встречать Рикорда об руку с Головниным. А сейчас, летом 1795 года, мичманы, как десятки их сверстников и погодков, выполняют свои не очень-то громкие обязанности.
А капитаны продолжают «патриархальное» бытие. Уже упомянутые записки Сенявина, живые, бойкие, усмешливые, запечатлели и облик командира корабля екатерининской поры.
«Время проводил он каждый день почти одинаково. Поутру вставал в 6 час, пил две чашки чаю, а третью с прибавлением рома или несколько лимона (что называлось тогда «адвокат»), потом, причесавши голову и завивши из своих волос длинную косу, надевал колпак, на шею повязывал розовый платок, потом надевал форменный белый сюртук, и всегда почти в туфлях, вышитых золотом торжковой работы. В 8 час. в этом наряде выходил на шканцы и очень скоро опять возвращался в каюту. В 10 час. всегда был на молитве, после полудня тотчас обедал, а после обеда раздевался до рубашки и ложился спать. (Это называлось не спать, а отдыхать). Чтоб скорее и приятнее заснуть, старики имели странную на то привычку: заставляли искать себе в голове или рассказывать сказки… Соснувши час, другой, а иногда и третий – вставал, одевался снова точно так, как был одет поутру, только на место сюртука надевал белый байковый халат с подпояскою, пил кофе, потом чай таким же манером, как поутру. Около 6 час. приходил в кают-компанию, сядет за стол и сделает банк рубль медных денег. Тут мы, мичмана, пустимся рвать, если один банк не устоит – князь делает другой и третий, а потом оставляет играть, говоря: «несчастие»; а когда выигрывает, то играет до 8 и 9 час, потом перестает, уходит в свою каюту ужинать и в 10 час. ложится спать. Во время сна его никто не смей разбудить, что бы такое ни случилось».
Ото всего этого шафранно веет Афанасием Ивановичем. Недостает только Пульхерии Ивановны. Разумеется, Сенявин описывает будни мирного похода. Однако же похода, а не якорной стоянки. Трудно вообразить меньшую ревность к службе и большую халатность. Следует, очевидно, думать, что дело держалось на офицерах и матросах. На офицерах, стремившихся поскорее стать капитанами. И на матросах, стремившихся не стать предметом экзекуции.
Впрочем, командиры ханыковской эскадры не так уж часто видели золотые сны или зеленое сукно. Нелегкое плавание досталось им.
И вот почему.
На исходе июля русские вымпелы вились под небом Англии. Ханыков расположился на рейде Доусона, близ эскадры адмирала Дункана. Тот командовал флотом Северного моря. Задача заключалась в блокаде острова Тексель, где базировался союзный французам голландский флот. Русское Адмиралтейство обещало решить эту задачу совместно с английским Адмиралтейством.
Все ясно как день. Но день не был ясен. Северное море не погодами славится, а погодливостью. Балтика уже изрядно потрепала русских, море Северное дурило еще хлеще. Редкий из кораблей Ханыкова был обшит медью. Они обросли «бородами» из водорослей. С эдакой шевелюрой скверный ты ходок! А сэр Лункам гнет свое: господин вице-адмирал Ханыков должен лечь курсом на Тексель.
В крейсерстве эскадра находилась ровно месяц. И ровно месяц экипажи не знали роздыха. Толчея и зыбь, шквалы и штормы обнаружили в ханыковских кораблях такое «обстоятельство», на которое согласно жаловались и офицеры и дипломаты.
«Чуть буря – полвахты у помп; все скрипит, все расходится. Бывало, весь корабль, чтобы, так сказать, не развалился, стянут найтовами[65]65
Найтовить – связывать, укреплять тросом несколько предметов. Трос при таком способе вязки называют «найтов».
[Закрыть] и, отливая воду во все помпы, все-таки держатся в крейсерстве до срока, тянутся за гордыми британцами. Когда после того чинились в доках, то их моряки не могли надивиться смелости русских».
Об этом и сорок лет спустя помнил соратник Головнина. Горькую правду поведал он в журнале «Маяк». Его поддерживают и другие свидетели. Хотя бы вот русский посол в Лондоне граф Воронцов:
«Все здешние адмиралы и офицеры удивляются храбрости и решимости наших офицеров за смелость, с каковою они плавают по морю в самые жесточайшие бури на судах толь худого состояния, и клянутся, что ни один из них не отважился бы взять на себя командовать толь гнилыми и рассыпающимися кораблями… Болты, употребляемые для скрепления, вместо того чтобы проходить насквозь, доходят только до половины брусьев, и потом как-то их залаживают так, что с первого взгляда кажется, все сделано по-надлежащему, но во время качки таковые крепления ни к чему не служат».
«Как-то их залаживают так…» – знакомый, право, звук! Черт возьми, показуха-то, оказывается, не вчера родилась.
Бедовали моряки и в портах. Принимая русских, Англия не принимала никаких обязательств, кроме чисто военных. Дороговизна и низкий курс рубля были причиною «крайней нужды» эскадры. Во всеподданнейшем донесении Ханыков сетует, что офицеры «имеют весьма недостаточные порционные деньги, а именно: 8 руб. 25 коп. в месяц». Офицеры! О матросах ни полсловечка.
Матросов на эскадре числилось около десяти тысяч. Колоссальным напряжением физических и душевных сил калужских, тамбовских, рязанских, новгородских, московских мужиков корабли ее величества блокировали остров Тексель, пугая голландцев и французов. Именно они-то, мужики эти, чуть ли не голодали.
Петр когда-то повелел доставлять провизию в бочонках. Подрядчики-купцы доставляли ее в рогожных кулях. Рогожа прела, крупа и мука гнили. Солонина воняла, треска тоже не ласкала обоняние. Прибавьте крыс и тех насекомых, которых один современник не без юмора именовал «беспокойными».
Мне не попадались списки больных и умерших. Известно, однако, что на кораблях дальнего плавания их считали десятками. Лекари искусством не блистали. Хворые жили среди здоровых, распространяя заразу. Когда Ханыков завершил первую кампанию, первое крейсерство, пришлось назначить специальный фрегат («Рафаил», где нес свой крест мичман Головнин) для доставки больных на английское госпитальное судно.
Словом, попала эскадра в «рай». Люди не чаяли, как поскорее унести ноги. В Кронштадте тоже не розы? Верно. А все ж дома и стены помогают. Но англичане не торопились распрощаться с балтийцами.
Стояли бурые лохматые дин, дождливые и непроглядные. Те дни и ночи как на зуб пробовали каждого служителя моря. Тяжелая, однообразная, будничная работа. Командные возгласы, свистки боцмана. Скрип и стоны корабля, сломанные реи, изорванный парус. Сшибок с неприятелем не было, голландцы отсиживались на Текселе. Не было ни азарта, ни хмеля сражений. Были крейсерство, сторожевая служба, тяжелая, будничная, однообразная работа.
К тому же район действий отличался капризной своеобычливостью: прибрежья в отмелях, течения переменчивые, неправильные, приливы и отливы сильные, гневливые. Астрономически определяться было затруднительно. Приходилось часто бросать лот, брать грунт – по глубинам и качеству грунта угадывать местоположение. Отгадчиками были лоцманы, выросшие на рыбачьих шхунах. Ни одно английское судно без них не обходилось; не обошлись и русские.
И так несколько лет кряду. Так на «Пимене», на «Рафаиле», на «Елизавете». Так на каждом корабле, где служил Головнин и его товарищи, вчерашние гардемарины.
2
Эскадру, как и телегу, готовят зимой. Зимней порой корабли Ханыкова чинили в доках. Исправляли самое необходимое, «очевидную худость»: британская корона не щедротного нрава.
От скаредных хозяев русские моряки получали русскую парусину и русский строевой лес, русский поташ и русский деготь. Здесь, за границей, все это оказывалось отличного качества. Дома поставщики зачастую сбывали лежалый товарец: свой брат, известно, и гнильцо слопает. А импорт – иная статья. Тут изволь-ка, чтоб и комар носа не подточил. Архангельск, Рига, Петербург отгружали за море прекрасные дубовые брусья, доски обшивные без сучка и задоринки, парусину из первосортного льна.
Англичанин, современник Головнина, признавался: «Импорт из России совершенно необходим для строительства и оснащения английского флота… Наши суда снабжены отличными парусами и канатами из русской пеньки… Наши лучшие в мире якоря изготовлены из русского металла…»
Однако коль скоро дело касалось не британских кораблей, а русских, союзных, то адмирал Ханыков не слишком-то полагался на добрую совесть местных мастеров. Нужен был «свой глаз». Из Петербурга прислали Амосова.
Амосовы издавна гнездились близ студеной Северной Двины. Некогда ладили ладьи, некогда шили шитики. Потом спускали на воду многопушечные громады.
Когда Васю Головнина определили в Морской корпус, Ваню Амосова определили в ученье к англичанам. Когда Василия Головнина произвели в мичманы, Ивана Амосова определили в корабельные подмастерья. И вот теперь, двадцатичетырехлетним мастером, он вновь явился в Англию – помогать соотечественникам.
Зимою можно было присмотреться к Англии. Головнин увидел Ширнесс и Диль, Нор и Литт. Увидел и Лондон. Вот они, плоды морской походной службы: горизонт ширится, новизна предстает на ощупь, разность с домашностью задает работу уму. Особенно в стране, повитой не только тривиальным туманом, но и острым угольным дымом.
Интересно было разобрать соотношение общественных сил в Англии конца XVIII века, да боязно сбиться с «главного фарватера» повествования. Однако как же не помянуть о том, что происходило бок о бок с Головниным?
Взрывы судовых мятежей метят анналы британского флота; гроздья бунтовщиков на реях, – «пейзаж» нередкий. Но Головнин наблюдал нечто совершенно необычное: высокий и мощный мятежный вал, всплеск красных флагов. Восстали оба флота – флот Ла-Манша (адмирал Бридпорт) и флот Северного моря (адмирал Дункан).
Тут надо вот что отметить. Российская рекрутчина никому, конечно, не казалась медом. Рекрутов оплакивали, как покойников. Оплакивая, полагали рекрутчину неизбывной, как прочие повинности. Англия рекрутчины не знала. Она знала кое-что похлеще. Адмиралтейство объявляло вербовку во флот; исполнительная власть вербовку осуществляла. Рослые констебли прочесывали городские трущобы. «Гордых бриттов» волокли волоком, и добрая старая Англия получала новую порцию защитников. И притом пожизненных. (В 1835 году срок службы сократили до пяти лет.)
Галера и каторга – синонимы, матрос и раб – тоже. Английский флот походил на огромную плавучую тюрьму. На глазах Головнина плавучая тюрьма решительно и быстро обратилась в плавучую республику. Ее осеняли красные стяги. Ее населяли предтечи потемкинцев.
Восставшие требовали смягчения варварских наказаний, изгнания офицеров-иродов, регулярности увольнения на берег, увеличения нищенского содержания. На кораблях возникли матросские комитеты; делегаты – по двое от каждой боевой единицы – обсуждали свои действия. В Ширнессе матросы устроили уличные шествия, братались с солдатами. Правительство первым делом лишило бунтовщиков продовольствия. Восставшим, понятно, не хотелось пухнуть с голоду, они блокировали Темзу, опустошали суда, следующие в Лондон или из Лондона.
Темза была закупорена, восточное побережье – оголено. Де Винтеру, голландскому адмиралу, ничего не стоило оставить постылый Тексель и грянуть десантом. Такую же возможность получили и французы.
Правительство сознавало отчаянность ситуации. Лорды унизились до переговоров с мятежниками, молили Петербург не забирать русскую эскадру и тем оказать «Англии самую крупную из услуг, которые она когда-либо получала от какого-нибудь народа и государства».
Иваны оказались свидетелями восстания Джонов. Однако свидетелями безмолвными. Какие чувства владели русскими матросами? Недоумения или затаенного восторга? Недоброжелательства или товарищества, хотя бы и скрытого? Глухая стена, ни единого луча. Но подмеченная Бакуниным «потребность бунта», несомненно, очнулась, не могла не очнуться при виде матросской вольницы, при виде народных толп, взыскующих хлеба и мира, при повсеместных толках об улучшениях и послаблениях. К тому же английские матросы клялись, что они не королю противники, а плохим лордам Адмиралтейства, плохим командирам. Этот «наивный монархизм» был по сердцу русскому матросу.
Ну, а Головнин, другие офицеры? Можно наслаждаться Вольтером, читать и чтить энциклопедистов, можно, наконец, пожалеть простолюдина, но мятеж, но красный флаг, но свист и хохот черни – помилуй бог!..
Русские выручили адмирала Дункана. Тот остался у Текселя лишь с двумя «верными» кораблями. Сэр Адам схитрил: крейсируя на виду у неприятеля, палил из сигнальной пушки и поднимал соответствующие сигналы, будто бы командуя эскадрой, которая вот-вот обрисуется на мглистом горизонте. Уловка удалась: голландцы сидели тише мышей, хотя кот все еще не показывался.
«Котом» была эскадра контр-адмирала Макарова, младшего флагмана вице-адмирала Ханыкова. А у младшего флагмана в 1798–1800 годах флаг-офицером был мичман Василий Головнин.
Флаг-офицер – это вам не ютовый или баковый мичман. Это уже персона, должность нешуточная. И почетная. Тут редко без протекции обходилось. Головнин, помните, протекций не имел. Сам Михаил Кондратьевич Макаров приметил его и приветил.
В старых наставлениях подчеркивается: флаг-офицер должен обладать «полными и точными сведениями по всем частям корабельного управления и мореплавания», ибо он «прямой помощник адмирала». Головнин сверх того владел английским. Корпусный профессор Никитин недаром зажег в нем лингвистическую страсть. А пребывание в Англии дало практику.
Впрочем, не только языковую. И не только Головнину.
Прямых столкновений с неприятелем в Северном море не произошло. Сомневаюсь, чтоб об этом кто-нибудь особенно сожалел. Если швед грозил Петербургу, то голландец и не помышлял грозить. И дело здесь не в боевой практике, а в мореходной.
«…Соединение наше с англичанами, – признавал Ханыков, – было нам полезно, ибо люди наши, ревнуя проворству и расторопности англичан и стараясь не уступать им… столько изощрялись, что то, что у нас прежде делалось в 10 или 12 минут, ныне делают они в 3 или 4 минуты».
Признание адмирала подпирает сослуживец Головнина, автор мемуарного очерка «Старина морская и заморская»:
«Любимая команда вахтенного, «лихого» лейтенанта, при навертывании шпиля была: «Шуми, ребята, шуми!» И нечего сказать, шумели всем миром преусердно. Тогда только, как побывали в Англии, узнали истинную прелесть – сняться и чтоб «ни гугу». Изредка нептунодержавный голос лейтенанта и дудочка боцмана; а при шпиле – барабан и флейточка. Переняли тотчас, за этим у нас не станет».
Какое откровение, бесхитростное осознание способности перенять, позаимствовать! Отчего же и нет, если здо́рово или здоро́во?
Пока балтийцы крейсировали невдалеке от дюн, мельниц и фортов острова Тексель, в Петербурге приказала долго жить Екатерина. Павел Первый ринулся царствовать, как любовник, заждавшийся обожаемой дамы. Но он сознавал – время упущено: сорок два от роду. Павла лихорадило. Он был порывист. А в политике, как и в любви, торопливость никого по-настоящему не удовлетворяет.
Павел взялся и за флот. Новшества были «крупного» калибра: все эти шлафроки и козловые полусапожки объявлены преступлением; изменились кое-какие флаги; коротенькая отлучка из Кронштадта требовала высочайшего «да»; лебедино-белый мундир уступил место мундиру болотного цвета, золотой темляк на шпагах – темляку серебряному…
И наконец – «Устав военного флота». (Прежний, петровский, сдавался в архив.) Справедливости ради нечего хаять от корки до корки. Просвещенный Голенищев пользовался давним расположением государя. Должно быть, именно Голенищеву удалось склонить императора, не склонного к наукам, утвердить должности историографа флота, профессора астрономии и навигации, рисовального мастера… И все-таки нигде, кажется, павловская мания всеобщей и оглушительной регламентации не выказалась с такой подавляющей мрачной силой, как в «Уставе…».
Петр – «и мореплаватель и плотник» – знал корабельную службу. Павловцы высидели «Устав…» в кабинете. Их заботила не стройная совокупность дела, называвшегося военно-морским, а желание предусмотреть все и всяческие случайности, которых так много и которые так разнообразны на море. И они предусматривали, предусматривали, предусматривали…
Разбойника Прокруста убил Тесей. «Устав…» убила флотская обыденщина. Он действовал недолго, как и Павел. От него отделались под сурдинку, как и от Павла. И продолжали служить по заветам основателя регулярного флота.
Но это случилось потом.
Теперь же, когда Головнин видел июньское небо и слышал отрывистые вскрики голубоватых чаек Северного моря, теперь «Устав военного флота» был испечен, теперь надо было шить темно-зеленый мундир и перекрашивать борта кораблей из желтого цвета в серый.
Впрочем, на портных и маляров времени недостало: царь повелел «следовать в Финский залив».
Да и Головнину давно прискучило Северное море. Домой он явился лейтенантом. И обрадовался нерадостному Кронштадту.
3
Восьмерых лейтенантов и четырех мичманов назначили волонтерами. Волонтер, назначенный в волонтеры? Курьезно, как недобровольный доброволец. Но все двенадцать смотрели весело. Им завидовали кронштадтцы. Головнин, Рикорд, Миницкий, Бутаков, Давыдов, Коростовцев и другие, входившие в число «дальневояжных», собрались в путь-дорогу…
Прошлой весной заговорщики заткнули сиплую глотку Павла, и многие в России перевели дух. Ныне, в восемьсот втором, Амьенский договор заткнул жерла пушек, и народы Европы перевели дух. Наступила тишина. Обманчивая и краткая, но это узнают год спустя. Сейчас всем хочется верить в длительность мира, в общее благоденствие.
Верили и волонтеры, направляясь в Англию. Не воевать – мир, мир! – совершенствовать морские познания, увидеть в дальних походах божий свет.
Без приключений, торной дорогой, Головнин, пассажир коммерческого судна, добрался до Лондона. Теперь уж не залетным мичманом-торопыгой мог он приглядеться к бурной жизни города-великана.
Передо мною семнадцать писем. Безымянный автор рисует «картину лондонских нравов» той поры, когда Головнин очутился на берегах Темзы. Письма приперчены сарказмом, стиль их тяжеловесен. Однако в самой этой тяжеловесности есть старомодная прелесть.
«Нет, статься может, в целом свете места, где бы все, служащее к выгоде жизненной и роскоши, столь легко иметь можно было, как здесь, ибо пространная торговля англичан делает город сей средоточием, к которому сокровища природы и искусства, разным странам света свойственные, стекаются.
Все, чего только утонченное сластолюбие пожелать может, найдет здесь за деньги; но, несмотря на сие, можно, думаю я, утвердить, что нет в Европе другого большого города, где бы меньше здешнего известно было истинное наслаждение жизнию. Всем жертвуется здесь самой грубой чувственности, и разум по большей части остается тощ при всяком празднике нынешних лондонских жителей».
«Нигде в свете не говорят более здешнего о свободе, но опыт научает, что нигде нет лживее понятия о сей попечительнице устройства наук, художеств и вообще человечества.
Здесь злотворец может удобнее укрываться под сенью законов; сильный или коварный – ненаказанно угнетать слабого, но честного, а богач обращает законы по своему желанию.
С тех пор как заведена здесь своя Бастилия для всех дерзающих употреблять собственный здравый разум, не один из граждан, воспротивившийся пожертвовать своими правилами видам властей, томится несколько лет в сем аде. Сие тиранство в рассуждении честных людей тем жесточе, что они переданы тут на произвол злобного и корыстолюбивого пристава.
Столько же опасно всякому, кто не подкреплен сильным родством или знатным богатством, в Лондоне, усеянном шпионами, обнаруживать мнение свое о предметах веры и законодательства, хотя бы чинено сие было с крайним благорассуждением и скромностию.
Всякое негодование противу мер министерства, не на правоте и дельности основанных, возбуждает подозрение в якобинизме. Никакие свободные мнения не остаются здесь без наказания, а строгость в суждении о поступках вельмож почитается второй статьи преступлением.
Напоследок скажите, можно ли утверждать о свободе подданных под таким правлением, которое наказывает с крайнею суровостью прежде, нежели виновный изобличен и даже выслушан будет? Это случается здесь почти завсегда, паче же в Лондоне, где тысячи подзорщиков каждый шаг простодушного человека, не боящегося суждений, наблюдают.
Англичане по свойству своему суть подлинно народ добрый, деятельный и великодушный. Но тщание здешних властей клонится к тому, чтобы изгладить последние изящные черты в характере сего народа.
Нижний и верхний парламент наполняются людьми, которые без зазрения совести жертвуют благом избирателей частным своим выгодам и присягу, учиненную ими при приеме в сословие, готовы нарушить столько раз, сколько потребуют того планы министерства».
Это уж прямое политическое ниспровержение. Правда, безымянный автор стреляет «правым бортом»: он роялист, как явствует из прочих писем, ему не по вкусу возвышение «аршинников». Пусть так. Важно сейчас другое: нос не оседлан розовыми очками. Не усматривая за деревьями большого исторического леса, он верно и точно различает деревья. Различал и Головнин. Нет у него ни единой строки в духе безудержных англоманов, нередких среди русского морского офицерства.
Недавно видел Головнин восставший флот, теперь Англию, бурлившую забастовками. Право, как-то чудно вообразить выкормыша помещичьего гнезда, офицера, дышавшего «мрачностью» павловского царствования, чудно представить его в стране, где беспрепятственно спорят о каких-то тред-юнионах, о каких-то правах булочников и докеров, портных и ткачей. А тут еще заговор полковника Деспарда. Удивительный заговор! Совершенно не похожий на тот, что увенчался успехом в Михайловском замке.
Про Деспарда узнал Головнин в конце 1802 года. Узнал из газет, услышал в апартаментах русского посольства, где волонтеры бывали часто. Деспард, республиканец, демократ, готовил заговор два года. В тайном сообществе соединились рабочие и ремесленники, солдаты и матросы. Деспард намеревался ворваться в Тауэр и перебить королевскую семью. Процесс Деспарда взбудоражил лондонцев. Присяжные признали подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Снисхождения не было. Было восхождение: на эшафот. С помоста осужденный крикнул затаившей дыхание толпе, что его казнят как друга всех бедных, всех угнетенных, что он умирает с надеждой на скорое торжество свободы, гуманности, справедливости. Вместе с полковником умертвили шестерых его товарищей – плотников, бывших солдат, сапожника.
Лейтенант Головнин мог одобрять домашний заговор против курносого деспота. Тайное общество «черни» одобрять он не мог. Ведь и на Сенатской площади мятежных дворян испугали каменщики и штукатуры, строители Исаакиевского собора.
Во время процесса Деспарда обитатели лондонских и иных трущоб опасались не только за участь подсудимых, но и за свою собственную: готовилась новая насильственная вербовка во флот. Из-за Ла-Манша грозились, это так. Но в первую очередь, пожалуй, правительству хотелось выпустить из жил народа горячую крамольную кровь.
В начале мая 1802 года король Георг III заявил, что Франция угрожает чести и безопасности Англии. Первый консул, без пяти минут император французов, заявил, что Англия угрожает чести и безопасности Франции. Будучи красноречивее выжившего из ума Георга, Наполеон картинно избоченился:
– Англия не уважает договоров! Ну что же, завесим их черным покрывалом!
Еще не замолк стук кареты, увозившей из Парижа английского посла, как на британских эскадрах взвился «Синий Питер», сигнал немедленной съемки с якоря.
4
Есть в Эрмитаже акварель Уистлера «Морской смотр»; прохлада белесо-зеленых волн; высокое, в розовеющих облаках небо; дальняя, сумеречная береговая полоса; корабли не выписаны, они означены.
Морской смотр… Просторно, зябко, поднимается ветер… Так, думаю, было и в то майское утро, когда русский моряк вручил адмиралтейский пакет британскому капитану. И с этого утра судьба волонтера связалась морским узлом с судьбою английских экипажей.
«Руководство для офицеров всякого звания на судах его королевского величества» открывается наставлениями волонтеру: завтракать не иначе как по окончании туалета; при входе на шканцы[66]66
Шканцы – часть палубы, считавшаяся почетной. Там объявляли официальные распоряжения. На шканцах запрещалось курить и сидеть всем, кроме командира корабля и флагмана.
[Закрыть] непременно приподымать фуражку, уважая место, где читаются королевские указы; в такие-то и такие-то часы – занятия математикой и навигацией; участие во всех матросских работах, ибо морской человек с первого взгляда разгадает, морской ли офицер ему приказывает; аккуратно вести поденный журнал; обедая по приглашению в командирской каюте или в кают-компании, выказывать «манеры натуральные, соединенные со вниманием и уважением к старшим» и т. д. и т. п.
Это своеобразное «Юности честное зерцало» и недурно и полезно, да только адресовано мальчикам 13–15 лет. А русские волонтеры были сами с усами, не со школьного порога шагнули на британские палубы. И хотя многому учились там, держались отнюдь не робкими увальнями.
В автобиографии Головнин досадно краток: служил, мол, на разных английских кораблях и в разных морях до 1805 года. Шабаш. Никаких подробностей. Волей-неволей ворошишь заметки и письма его приятелей Петра Рикорда, Григория Коростовцева.
Последний находился на борту фрегата «Ла Бланч», когда стало известно о разрыве с Францией. Коростовцев рассказывает:
«Сигнал: требуют лейтенанта. Поехал лейт. Брайт. Мы сидим за столом, завтракаем. Лейтенант Брайт возвращается. Я позабыл сказать, что он всегда входит и выходит из кают-компании с песнею. Слышим песню: знаем, кто идет. Отворяются двери, и Брайт со следующими словами обращается к первому лейтенанту: «Ты будешь капитаном через шесть месяцев: война!» – «Браво!» – закричали все. «Война!» – отозвалось во всех углах судна. Не прошло одной минуты, как застучали, загремели… Везде война: на шканцах, на палубе, на баке… Лекарь чистит инструменты… Итак, с сего времени мы уже на военной ноге – всегда готовы к сражению; днем попадаем ядрами в цель, а на ночь все готово, все по пушкам перекликаются и ядра кладут близ пушек».
Однако волонтеры не орали «браво!». Невелика была радость околеть под ножом лекаря, «чистившего инструменты», не улыбалось получить карачун за честь и достоинство короля Георга. «Вчерашний день, – сообщает Рикорд Коростовцеву, – читал газету о проклятой войне, которая, я думаю, и тебя много расстроила в мыслях…»?
За четыре военных года лейтенант Головнин побывал на семи военных кораблях. Перед ним возникла вереница капитанов и офицеров. Немногие нравственно выдавались из общего ряда. Многие выдавались профессиональной деятельностью.
Василий Головнин плавал под флагами Уильяма Корнваллиса, Кодберга Коллингвуда и Горацио Нельсона. Имя Нельсона известно. Герцен клеймил его «дурным человеком». Дурной человек может быть неустрашимым флотоводцем. Нельсон был великим военачальником, но не великим человеком, как и Наполеон.
Герой Абукира и Трафальгара лестно отзывался о русском лейтенанте. Учитывая английский «военно-морской шовинизм», надо думать, что мужество волонтера Головнина оказалось высокой марки. Кодберт Коллингвуд, интимный друг и боевой соратник Нельсона, подтверждает эту похвальную аттестацию. Девяносто девять из ста офицеров размахивали бы ею, как знаменем. Головнин (в автобиографии) промолчал.
Волонтер пересек экватор, перервал невидимую нить, опоясывающую Землю. Но не финишировал. Ему еще предстоял долгий марафонский бег. И не с английским вымпелом в руке.
Экватор пересек волонтер. Его, как водится, окатили забортной атлантической водою, посвятив в рыцари ордена «Смоленых Шкур».







