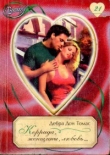Текст книги "Одиночество вещей"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Кто?
– А вот этот, – кивнул Леон. – В подтяжках.
– Гена? – рассмеялась девчонка.
– Его звать Гена? – Леон не понял, что смешного в этом имени.
– Луг ничей, – объяснила девчонка. – Трава ничья, потому что никто её не сеял. Здесь всё ничьё. Трава нужна только тому, у кого живность. Живность – кролики – здесь у единственного человека – твоего дяди Пети.
– Ты говоришь не во сне?
– Это, – выделила голосом девчонка, – я говорю не во сне. Хотя лучше бы во сне. Деревня, а молока нет, потому что ни одной коровы.
– Что же они едят?
– Я с собой три ящика немецких консервов привезла, – похвасталась девчонка. – Гуманитарная помощь! И мешок крупы. Консервы, правда, дрянь, – добавила задумчиво.
– Этот Гена, он кто? – спросил Леон. – Бабка она ему…
– Мать, – ответила девчонка.
– Понятно.
– И жена, – хихикнула девчонка.
– Что-что? – вежливо уточнил Леон.
– Жена, – повторила девчонка. – Гена живёт с мамой, как с женой.
Леон подумал, что девчонка всё-таки «космонавтка».
– Не веришь, спроси у дяди, – сказала девчонка. – Не надо так на меня смотреть. Ты спросил. Я ответила.
Леон вдруг понял, что так оно и есть. Не приснилось. Девчонка говорит правду. А может, и нет. Кто его знает?
– Бог им судья, – с тоской посмотрел на мешок Леон. – И тебе, если говоришь такое. Мне плевать.
– Да ладно, помогу, – засмеялась девчонка. – Я умею рвать. Ты в какой класс пойдёшь?
– А ты?
– Я в девятый. В Москве живёшь?
– В Москве, – Леон удивился, как сноровисто принялась она рвать траву, широко расставив ноги.
– А я в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге. Если опять не переименовали. Я так рада, что ты приехал! – вдруг рассмеялась счастливым тревожным смехом.
– Почему? – удивился Леон. – Ты совсем меня не знаешь.
– Во-первых, – внимательно посмотрела на него девчонка, – ты не можешь быть хуже многих из тех, кого я знаю. Во-вторых, в Зайцах ты один, а значит, вне конкуренции!
– Тебе виднее, – пожал плечами Леон.
Леон совсем забыл про свой правый насекомий глаз, в котором поселился ветер. И тот затаился до поры, не напоминал о себе, когда вокруг было столько настоящих насекомых, некоторые из которых, скажем мошки, так и лезли в глаз, видимо чувствуя родное.
Заявил о себе насекомий глаз в озере, куда рухнул с гнилых и скользких, далеко уходящих в воду мостков Леон с тяжёлым после обеда желудком.
Он спросил у дяди Пети, где здесь наиболее приятное для купания место. Дядя Петя как бы даже и не расслышал, пожал плечами. Леон догадался, что едва ли существует что-то, интересующее дядю Петю меньше, нежели места, приятные для купания.
Чёрный дом-параллелограмм, в котором жили Гена и и мать, стоял на берегу озера. Проходя мимо с полотенцем через плечо, Леон ещё раз подивился страшному красном георгину – глазу сатаны, вновь обернувшемуся в его сторону. На чурбачке у кривой и низкой, как в хлев (если б «хлев» не был домом), двери покуривал Гена. Объявить озеро своим, как недавно луг, он воздержался.
Идея собственности преломилась в Зайцах, как картина мира в насекомьем глазу Леона. Всё здесь было ничьим. Все здесь были нищими. И вместе с тем все считали всё своим. Но не предпринимали ничего, чтобы вступить в реальное (с пользой) владение.
– Ишь ты! – ухмыльнулся дядя Петя, когда Леон рассказал ему про Гену. – Выблядок немецкий! Будто не знает, что председатель отписал мне поля и луга!
– Как ты сказал? – Похоже, каждый разговор о соседях был чреват.
– От немца его матка в войну прижила, – неохотно объяснил дядя Петя. – В войну здесь вермахт стоял. Говорят. А так, кто знает?
– А ещё говорят… – вздохнул Леон.
– Говорить-то говорят, – не поддержал дядя Петя, – да только кто свечку держал? Народ – сволочь, кого хочешь с дерьмом смешает! Про меня тоже вон говорят, что я леченый алкаш, ни уха ни рыла в сельском хозяйстве, а хочу здесь всё захапать! А! – горестно махнул рукой, хотя, честно говоря, непонятно было, на что, собственно, он обижается?
Леон подумал, что идея правды преломилась в Зайцах не менее причудливо, чем идея собственности. Правда была здесь невозможнее и страшнее любой лжи, поэтому во имя сохранения рассудка следовало жить, как если бы никакой правды вообще не существовало. Или же существовала, но мистически-теоретически, как птица-феникс, зверь-единорог, рыба-китоврас, Гог и Магог, голос в радиоприёмнике. В Зайцах было невозможно ни чем-нибудь кому-нибудь окончательно завладеть, ни кому-нибудь окончательно чего-нибудь лишиться. Спор о заброшенных лугах, невозделанных полях представлялся неразрешимым и вечным.
Леон, случалось, захаживал в открывшийся у них в доме компьютерный клуб «Орион», сиживал за дисплеями. Перестал, когда плату за час вдруг увеличили сразу в четырнадцать раз! Так вот, программа на дисплее иногда «зависала». То есть всякое движение, какие бы кнопки на клавиатуре ни давил, прекращалось. Вывести компьютер из ступора можно было, только перенастроив его, нажав красную кнопку «Reset». Так и «зависшую» в Зайцах жизнь желательно было перенастроить. Но кто, кроме Господа Бога, мог нажать на красную кнопку? Один раз в семнадцатом Бог нажал, но с тех пор, похоже, остерегался.
Пока.
Леон разделся на мостках, повесил одежду на горячий и сухой, как у больного пса, нос торчащей из воды полузатопленной лодки. Всего две лодки было на плаву в озёрных Зайцах: дяди Петина (в ней, впрочем, обильно плескалась водичка, сновали водомерки) и Наташиного (Наташей Платининой звали подошедшую к Леону на лугу бессонную девчонку) дедушки. Этот дедушка был на пенсии, приезжал в Зайцы весной и жил до глубокой осени. Леон ни разу его не видел. Рано утром дедушка уплывал на лодке ловить рыбу и ловил, по всей видимости, круглосуточно.
В длинных трусах (плавки остались в Москве), белея не сильно тренированным телом, Леон добрёл до конца мостков. Ему хотелось красиво (ласточкой) войти в воду, чтобы сидевший на чурбачке Гена уяснил, какой он лихой парень. Однако живот после консервно-макаронного дяди Петиного обеда тянул вниз, как утюг. К тому же Леон не имел опыта в прыжках ласточкой. Он шлёпнулся в воду, как черепаха из когтей орла. Что уяснил Гена, было неясно, а точнее, очень даже ясно.
Сразу под мостками простиралась океанская глубина. Скверно начавшееся купание обернулось судорожной попыткой не утонуть.
Леон ничего не мог понять, хлопая руками, задыхаясь в чёрно-зелёной, пронизанной светом, нитями водорослей, фиолетовыми стрелками маленьких рыбок, смещающейся, с видоизменёнными, как сквозь пивное бутылочное стекло, облаками и солнцем над толщей, безвоздушной, пузырящейся воде.
Только крепко ударившись головой о мостки, схватившись руками за скользкое дерево, лягушачьи вздохнув, Леон догадался, что в воздухе глаз с дробиной видит по-насекомьи, в воде же по-рыбьи.
Вечером, когда Леон и дядя Петя ужинали в итальянской (с ласточками над головой, фонтанно распрыгавшимися в яме-погребе жабами) комнате, дверь вдруг сама собой отворилась, в комнату-патио заглянула свинья.
– … я же запер хлев! – почти ласково выругался дяд, Петя. – Что, сучара, никак не нажрёшься?
Изгнав из организма алкоголь, вернув хозяйство в привычный ритм, он вечерне благодушествовал, покуривая папиросу «Прибой».
Леон, не задумываясь, ушёл бы куда глаза глядят отовсюду, где курят такие папиросы, но тут, напротив, подсел под вонючий (как будто сжигали павших овец) дым. «Прибой» был непролётен для комаров.
Пока они смотрели на свинью, в свою очередь смотревшую на них, за спиной у свиньи возник напряжённый, перетаптывающийся с лапы на лапу гусь.
– И курятник запер! – удивился дядя Петя. – Клювом, что ли, открыл?
Нечто библейское, помимо опровержения глупой пословицы, что гусь свинье не товарищ, прочитывалось в этом приходе. Бог, посылая в комнату-патио свинью и гуся, благословлял труд.
Леон с радостью принял Божье благословение. Вот только больно тяжёл был труд. Леон до сих пор с содроганием вспоминал мешок, который ни за что в жизни не наполнил бы травой, если бы не ловкая девчонка с драгоценной фамилией Платинина.
Общий их мешок, впрочем, был ничто в сравнении с тем, сколько делал за день дядя Петя.
После обеда, задав корм свиньям, закончив с огородом, он советским кентавром впрягся в воротный железный лист, притянул играючи столько травы, что не поместилась бы и в пяти мешках.
Труд был любезен сердцу Господа. Но библейский – в поте лица.
Энгельс утверждал, что труд превратил обезьяну в человека. Господь как будто задался целью опровергнуть выскочку. Раз и навсегда отвадил от труда воздержавшихся от превращения в людей обезьян. Посредством труда же, вернее, той библейско-социалистической его разновидности, определённой для новоявленного русского фермера дяди Пети и примкнувшего к нему на школьных каникулах Леона, наладил людей в обратный путь – к обезьяне.
Леон искоса посматривал на сутулого, свесившего руки, нечистого дядю и не мог отделаться от мысли, что тот успел проделать немалую часть обратного пути. Но промысел Божий, как всегда, был шире, чем мог помыслить Леон. По этому же самому – к обезьяне – пути дружно пылили изо всех сил избегающие труда: Егоров, Гена, тряпичная бабушка, прочие обитатели Зайцев и окрестных деревень, а также городов, включая такие, как Москва и Санкт-Петербург.
В доме у дяди Пети имелся как бы препарированный (без деревянного футляра, лампами наружу) чёрно-белый телевизор на паучьих ножках.
Вчера вечером Леон опасливо воткнул штепсель в розетку. Телевизор, вопреки ожиданию, заработал – побежали полосы, русоволосая симпатичная дикторша заговорила про сенокос. То была куньинская программа.
Дядя Петя сказал, что, когда ночью выпивали с мужиками, хотели Ельцина, а словили спутниковое американское. Не понравилось. Ничего про русских и язык непонятный.
Когда телевизор работал, лампы в нём притушенно мерцали, трубка кинескопа зловеще и радужно переливалась, как Фаустова колба, в которой зарождался гомункул. На гомункулов свет почему-то летели мухи, падали сражённые телерадиацией. Леон пробовал включать телевизор днём, но эффект был не тот. Количество мух в доме оставалось неизменным – превосходящим всякую меру, как в день, когда Господь проклял Хама, надсмеявшегося над наготой отца своего Ноя.
В библейский вечер, спровадив свинью в хлев, а гуся в курятник, Леон и дядя Петя не поспешили к телевизору.
Остались в патио.
Дядя Петя закурил вторую папиросу. Леон налил вторую кружку чёрного, как дёготь, чая из закопчённого партизанского чайника. Он догадался, что Господь длит благость, чтобы открыть истину. Только неясно было, кто должен возвестить? Леон, недавно пытавшийся изничтожить себя дробью? Или дядя Петя, только-только опамятовавшийся после недельного запоя? Как вообще могла возникнуть в их разговоре истина, если практически не знали друг друга школьник Леон и его дядя – новоявленный русский фермер?
– Егоров долго сидел? – Леон решил, что истина должна начинаться если не с сумы, так с тюрьмы.
– Три года, – ответил дядя Петя. – Дали-то шесть. По амнистии вышел, как единственный кормилец в семье.
– Повезло, – заметил Леон.
– Повезло? – хмыкнул дядя Петя. – Плакал, когда освобождали!
– От радости? – предположил Леон.
– От горя! Не хотел выходить. Порезать кого-то собирался, чтобы срок накинули. Не успел. Он в зоне плотником шабашил, расконвоированный, туда-сюда с водярой, с чаем, как король жил! А тут чего? Шесть ртов, нищета, мрак. Они говорят, ещё года два на его тюремные деньги жили.
– Значит, тюрьма, – обдумывая каждое слово, как если бы не с одним дядей Петей говорил, произнёс Леон, – не самое страшное место для человека, если Егоров плакал от горя, когда его освобождали?
– Да выходит, не самое, – согласился дядя Петя.
– Какое же самое? – спросил Леон. – Неужели Зайцы?
– Зайцы? – удивился дядя Петя. – Да Зайцы курорт!
– Какое же тогда?
– ЛТП, – коротко ответил дядя Петя.
– Почему ЛТП? – пришла очередь удивиться Леону.
– А потому, – тоже обдумывая каждое слово, ответил дядя Петя, – что в тюрьмах и лагерях сидят люди разных национальностей. И грузины, и цыгане, и литовцы.
– Ну и что?
– А в ЛТП, – продолжил дядя Петя, – исключительно русские. Я там за три года не встретил ни одного нерусского. Даже белорусов нет.
– И что из этого следует?
Истина была как привидение. Леон протягивал руки – она проходила сквозь.
– Из этого следует, – ответил дядя Петя, – что если бы ЛТП был не самым плохим местом на свете, хотя бы таким, как тюрьма или лагерь, там были бы не одни русские.
– Значит, – подвёл черту Леон, – русские там, где хуже всего?
– Лично у меня, – как-то криво, по-волчьи улыбнулся дядя Петя, – в этом нет ни малейших сомнений. Но ты можешь поговорить с другими русскими.
– Я тоже русский! – вдруг заявил Леон. Он не собирался спорить с дядей. Словно кто-то сказал за него. – И у меня есть сомнения. То есть у меня бы их тоже не было, если бы туда злонамеренно свозили непьющих русских. Но ведь пьющих. Или не так?
– Пьют-то все, – помолчав, ответил дядя Петя, – а в ЛТП одни русские. Странно получается. Где русские? Где голь и страдания. Где нет русских? Где богатство и радость. Почему так?
Ласточки обнаглели до того, что, перед тем как скользнуть в гнездо над дверью, вздумали присаживаться на рукомойник. Вот и сейчас одна внимательно слушала разговор, поводя чёрной в рыжей шапочке головкой с бусинками глаз. Или ей были небезразличны обиды русского народа, или народ ласточек терпел в небе схожие.
Пауза затягивалась. Разговор «зависал», как изображение на дисплее компьютера.
– Значит, нет на земле народа несчастнее, чем русский, – нажал Леон красную кнопку «Reset». – Перед нами два пути.
– Неужто целых два? – усмехнулся дядя Петя.
– Смириться. Освободить географическое пространство для других. Утешиться, что если русским так хреново при жизни, может будет хорошо после смерти? Вдруг одни русские в раю на небе, как на земле в ЛТП?
– Мы в рай? – разумно усомнился дядя Петя. – За то, что в Бога не веруем? Церкви повзрывали?
– Или же, – вздохнул Леон, раздражённо сознавая умозрительность, несбыточность, если не сказать, абсурдность того, что выскажет, – перестать пить, сменить продажную власть, взять землю, вспомнить про Бога, начать работать, объявить русский народ хозяином того, что осталось от России, самим подумать о себе. Стать народом.
Ласточка, насмешливо чирикнув, снялась с рукомойника, скрылась в гнезде. И долго не вылетала, видимо изумлённо делясь услышанным с другой ласточкой. Леон подумал, что куда с большими шансами на успех народ ласточек может объявить себя хозяином того, что осталось от неба.
– Остальное, – брезгливо закончил Леон, – мерзость, запустение, смерть при жизни. Все остальное – Зайцы!
Дядя Петя, то ли задумавшись, то ли обидевшись, молчал.
Леон подумал, что высказался слишком уж заломно. Что происходит с теми, кто что-то делает заломно, известно: у них крадут сети. У Леона, к счастью, не было сетей. Но был танковый прицел инфракрасного ночного видения. Неужели украдут, затосковал Леон.
Долгое молчание дяди Пети не могло выражать ничего, кроме крайней степени неодобрения.
– Никто не знает как надо. Каждый сам… – Леон не договорил.
Дядя Петя спал. И судя по прилипшему к губе, погасшему окурку, спал давно.
– Чего? – всхрапнул, как конь, когда Леон толкнул его. – Никак, свинья приходила? Или приснилось?
Леон поднялся в свою комнату.
Прицел был на месте.
Леон включил транзистор.
Не то чтобы его сильно интересовало, что происходит в мире, просто слишком светло было за окном, чтобы спать.
Транзистор поведал о всеобщих парламентских выборах в Греции, о террористах, захвативших самолёт с пассажирами, о председателе партии демократического труда Татарстана, потребовавшем из штаб-квартиры в Елабуге незамедлительной отставки президента.
Леон подошёл к окну.
Ночная перспектива была сумрачно-прозрачна. Ясно просматривалась изгибающаяся цепь озёр. Днём она так не просматривалась по причине слепящего солнечного света. Ночью в цепи озёр угадывалось течение. По фарватер медленно плыло дерево с корнями и листьями. На нём устроилась остроголовая, длинношеяя, похожая на гвоздодёр, гагара с хохолком. Леон подумал, что страна – точно такое же, вырванное из мироздания, дерево, президент – необязательная гагара на нём, которая может сидеть, а может и не сидеть. Он сидит на дереве то ли потому, что никак в может поверить, что оно вымыто из земли и плывёт в никуда, то ли потому, что у него есть крылья и он в любой момент может сняться и улететь.
Зайцы были дрейфующим деревом в акватории более скромного масштаба: Куньинского района. Необязательной гагарой здесь, естественно, не с таким, как у президента, размахом крыльев ощущал себя Леон. Его незамедлительной отставки могли потребовать свинья или гусь из штаб квартиры в хлеву или в курятнике. И ещё чернобыльский волк. Но этот – не парламентской отставки.
Какое, в сущности, отношение к Леону имели мировые новости? Он выключил транзистор.
Леон не стал зажигать свет, закрывать окно занавеской Лежал на кровати, уставясь в свинцовую поверхность озера, наливающуюся темнотой линию леса. Было тихо. Только шумел в темнеющих лесах не слышный днём ветер, да вдруг дико заорала какая-то птица, вполне возможно, та самая гагара. Огромная щука могла утащить её под воду.
Леон вспомнил о девчонке с драгоценной фамилией Платинина. К концу мешка Леон чисто автоматически назвал её Платиной. Она сказала, что именно так все её и зовут. Она не возражает, потому что платина – самый дорогой и редкий в мире металл, дороже серебра и золота. Узнав, что Леона зовут Леонидом, а фамилия его Леонтьев, без труда определила что он – Леон. К концу мешка между ними не осталось тайн. Если не считать жизнь каждого до встречи на полуденном лугу.
Он позвал её купаться. Она ответила, что рада бы, да нет купальника. То есть есть, но прошлогодний. А за год она… Не натянуть. Леон внимательно посмотрел на свою новую знакомую, подумал, что в прошлом году она совершенно точно могла обходиться без купальника. Сейчас, конечно, купальник уместен, но не настолько, чтобы делать из-за его отсутствия проблему. «Не смотри, я только в одежде кажусь худенькой», – разгадала его мысли Платина.
– Вообще, что ли, не купаешься? – удивился Леон.
– Купаюсь, – ответила она, – где никто не видит, и ещё ночью, когда не могу заснуть.
Платина легко ушла из мыслей Леона.
В небе возник полумесяц, похожий на качающееся белое пёрышко. Потом послышалось характерное мелодичное позванивание. Такое позванивание частенько раздавалось из компьютера, когда Леон играл в какую-нибудь игру и набирал очки. В Зайцах не было компьютеров. Следовательно, неоткуда было слышаться мелодичному электронному позваниванию. Леон понял, что спит, но тут же понял, что уже проснулся. Ему сделался ясен источник звука. Кто-то бросал в окно мелкие камешки, и они звенели о стекло, подобно кусочкам серебра, золота или редкого металла платины.
Внизу рядом с чёрными пересеянными грядками стояла Платина с большим махровым полотенцем через плечо. Её обращённое вверх лицо было бледным, как всё в ночном (или уже в утреннем?) свете. Только губы были черны, как у вампира. Леон догадался, что она накрасила губы в его честь. Если только крашение губ не входило в ритуал ночного купания.
– Спишь?
Леон отметил, что у Платины прямо-таки какая-то страсть начинать разговоры с дурацких вопросов.
– Уже нет.
– Я тоже не сплю, – поделилась Платина. – Пойдёшь со мной купаться?
– Нет. – Леон угрелся в кровати. Купаться в данный момент представлялось ему противоестественным.
– Почему? – В голосе Платины не было ни удивления, ни огорчения. Бессонная тоска стояла в её голосе, как вода в дяди Петином погребе. Слова равнодушно шлёпались, как лягушки.
– Потому что не хочу, – Леон подумал, что граница между сном и действительностью для неё сейчас условна. Ей снится ночной поход на озеро. Леон не может отвечать за своё поведение в чужом сне. Пусть Платина считает, что ей приснился хам.
– Не хочешь купаться со мной?
– Слушай, – тягучий сонный разговор стал надоедать Леону. Как будто к Гамлету пришла Офелия, сошедшая ума не из-за любви к нему, а по другой причине и ещё в знакомства с ним. – Можем сделать проще. Поднимайся в мне. Искупаемся здесь. А потом пойдёшь на озеро.
– То, что ты предлагаешь, – Платина долго выбирала слово, – неинтеллигентно.
– В холодной воде интеллигентней? – искренне удивился Леон.
– Нельзя всё воспринимать приземлённо и грубо, – голос Платины постепенно оживал. – Ты не романтик, между тем девушки древних народов моря…
– В три часа ночи, – перебил её Леон, – я не романтик и мне плевать на девушек народов моря. Раз уж разбудила. Поднимайся, раз-два и…
– Обсуждение неприличных предложений не входит в мои намерения. Не смею вас больше задерживать, – церемонно опустившись в реверансе, Платина развернулась, пошла вдоль кроличьих клеток к озеру.
Клетки ходили ходуном. То там, то здесь притискивались к сеткам оживлённо-блудливые кроличьи морды. Леон припомнил, что кролики, как и зайцы, ночные животные. Ему уже не хотелось спать. Но и купаться ещё не хотелось.
– Ладно, – вдруг остановилась у последней клетки Платина. – Не хочешь купаться, спускайся, хоть кроликов помучаем!
– Чего? – изумился Леон.
– Пока твой дядя пил, я им два раза рвала травку, – сказала Платина, – а теперь, значит, и немножко помучит нельзя?
– Да ты садистка, – сказал Леон.
– Я пошутила, мучить животных грех, – вздохнула Платина. – Я купаюсь возле большого камня, – махнула рукой в сторону озера. – Если передумаешь, приходи! – пролезла под жердиной, пошла по синему в белых пятнах ромашек ночному полю.
Некоторое время Леон лежал, тупо глядя в светлеюще деревянный потолок. Потом извлёк из сумки танковый прицел, приблизился к окну, навёл на предполагаемый камень, возле которого купалась Платина.
И тут же словно врубился в него лицом.
Синий ночной воздух был в прицеле светло-зелен, как морская волна. Озёрная же волна, напротив, прозрачно-голуба, какой она не являлась в действительности. А небо, в особенности в той его части, где должно было появиться солнце, предстало ярко-оранжевым. Настоящими импрессионистами оказались нелидовские создатели танковых инфракрасных прицелов ночного видения.
Камень был велик, как утёс, мышино-сер в серебряных пятнах мха. Леон нечаянно словил в прицел точечно-фосфоресцирующего с радужным, как трубка кинескопа, волнистым гребнем угря, извилисто отвалившего от камня.
Затем Леон начал медленно, зачем-то считая серебряные пятна мха, поднимать прицел вверх. Увидел стоящую на камне в позе Терпсихоры или девушки древних народов моря обнажённую Платину. В прицеле она казалась цвета опавшего листа, светящаяся изнутри, словно и впрямь была из драгоценного металла платины, который дороже серебра и золота, но до того редок, что Леон ни разу в жизни не видел ни единого из него изделия. Поэтому ему только оставалось гадать, какая она, эта платина?
Леон придержал прицел на лице Платины, на её накрашенных вампирских губах, тёмных кругах под глазами. Платина вдруг улыбнулась прямо в прицел. Леон испуганно спустил чёрную рогатую трубу на серебряные пятна мха, попираемые платиновыми ногами Платины. А потом увидел в прицеле платиновую руку Платины, которая пригласила его глаза следовать за собой, и Леон покорно проследовал по пружинно-гладкому платиновому телу, не умещающемуся в прошлогодний купальник.
Платина отступила на шаг, поманила Леона, которого видеть не могла и тем более не могла знать, что у него есть прицел ночного видения. Но как будто видела и знала.
Леон взял полотенце, завернул в него прицел. Оделся, спустился вниз, побежал мимо кроличьих клеток к озеру.
Платина, в добавление ко всем своим исключительным свойствам, оказалась водолюбивым металлом.
После весеннего посещения Кати Хабло Леон стал испытывать определённое волнение при виде больших объёмов воздуха. Например, когда поднимался не на лифте, а по лестнице мимо окон на высокий этаж. Или просто смотрел в небо. В идею близости странным образом вошла идея воздуха, неба, которое наблюдал Леон из огромного окна чердачной Катиной квартиры. Страшно было представить, что могло случиться с ним в самолёте.
Сейчас схожее волнение он испытывал, когда смотрел на воду. Пространство и температура (градусов семнадцать, не больше) воды, прибрежный её тихенький плеск, дальние берега вошли составной частью в идею близости, как некогда воздух, небо.
У воды были шансы потеснить небо. Воздушная (в чердачной квартире) близость оказалась единовременной. Водная (у камня, где было не очень глубоко и где вода за день прогревалась) сделалась регулярной.
Платина оказалась весьма плавучим металлом.
И ещё одно свойство открыл в ней неутомимый металлоисследователь Леон: сохранять в воде тепло. То была ни с чем не сравнимая радость – ощущать сквозь воду тепло Платины.
У Платины не было определённого цвета. Она была металлом-хамелеоном. Когда они оказывались в воде перед рассветом, Платина краснела (естественно, не от стыда) вместе с утренним солнцем. После жаркого дня вечерю казалась тёмно-серой, как камень. Случалось (в прозрачных сумерках), и голубой, почти невидимой, как вода в озере. Иногда – серебристо-зелёной в цвет рыб и водорослей. В такие мгновения Леону казалось, у неё отрастает русалочий хвост.
Водная близость, поначалу непривычная, вскоре стала казаться Леону единственно возможной. Или, говоря языком политиков, безальтернативной. Он в страхе думал: а ну как похолодает вода?
А в первый раз, помнится, дав поглазеть завёрнутой в полотенце Платине в танковый прицел, пристал как банный лист: почему в воде?
Сидели, стуча зубами, на камне. По озеру возвращалось вырванное дерево с корнями и листьями. Только гагара более не президентствовала. В ветвях едва заметно орудовала, похожая на воротник утопленника, крыса-ондатра, выявленная посредством всё того же прицела.
– Чем плохо в воде? – посмотрела Платина на Леона чистыми глазами.
Леон даже засомневался: о чём, собственно, он? Так безгрешно она посмотрела.
– Во-первых, сопротивление материалов, – хихикнула Платина.
Леон считал себя достаточно подкованным (главным образом, теоретически) в вопросах такого рода, но тут никак не мог взять в толк, о каком сопротивлении, каких материков она? То выходило за пределы его знаний. «Учиться, учиться и учиться… коммунизму», – подумал Леон.
– Во-вторых, вода – это чистота, – внимательно посмотрела на него Платина, – в прямом и переносном смысле.
Леон молчал. Против этого нечего было возразить.
– В-третьих, вода – гарантия, так сказать, транзит для зарождающейся жизни, – закончила Платина. – Не забывай, в какой глуши мы живём. До ближайшей аптеки сорок километров.
Таким образом, вода помимо того, что утоляла физическую и эстетическую жажду, обеспечивала сопротивление материалов, чистоту, гарантию, а также транзит (рыбам в корм) зарождающейся жизни. Леон видел, как выглядит в воде жизнь. Она выглядела непривлекательно.
Леон и Платина, стало быть, были грешны пред Господом в той же степени, в какой были грешны пред ним рыбы. А рыбы, как известно, были неизменно любимы Господом.
После водяных дел Леон и Платина расстилали полотенца, лежали на медленно остывающем после жаркого дня камне. И не было между ними ощущения греха, что в равной степени могло свидетельствовать, что Бог простил и что – махнул рукой.
Леон окреп, закалился, загорел на свежем воздухе под зайцевским солнцем в приусадебном труде. Дома у дяди Пети имелось мутное, как будто в него смотрелись столетиями и оно устало, засиженное мухами зеркало. Раньше физиономия Леона напоминала испещрённое белыми письменами зелёное знамя пророка. Теперь из зеркала смотрело вполне чистое, надменное лицо с едва заметными ямками-пятнышками на правой стороне, сообщавшими, впрочем, лицу некую романтическую тайну.
Труд более был не в тягость Леону. Помимо ежедневного мешка с травой, он замешивал иссякающий не по дням, а по часам комбикорм, засыпал кроликам, ходил с рюкзаком в магазин за хлебом.
Туда все ходили с мешками или рюкзаками. Хлеб был строжайше расписан между окрестными жителями. Пришлым с неохотой отпускалось по две буханки, не больше. У дяди Пети имелась договорённость с председателем. Продавщица смотрела злобно, но позволяла набивать рюкзак.
Чем дольше Леон жил в Зайцах, тем более удивительным казалось ему дяди Петино хозяйство.
На первый взгляд оно процветало: птицы исправно неслись, у кроликов и свиней был отменный аппетит, крольчихи в срок приносили крольчат.
Но стояло хозяйство на хлебе. Тех самых чёрных буханках, которые Леон и дядя Петя поочерёдно таскали в рюкзаке из магазина.
Вероятно, хлеб был неплохой пищей для кроликов и свиней, как, впрочем, и для людей, но он был пищей древнейшей, натуральной, естественной. То есть способствовал гармоничному развитию организма: у животных крепли мышцы, дубились шкуры, твердели кости. А между тем конечной целью промышленного животноводства являлось товарное получение мяса. Цена дяди Петиной свинины (свиньи съедали в неделю больше сотни буханок) обещала быть астрономической. Свиньи и кролики могли бы революционно нарастить мясо, если бы питались специальными кормами. Но таких – с белковыми добавками – кормов не было не только у дяди Пети, но, похоже, во всей стране.
Свиньи росли подвижными, жилистыми, горбатыми, хоть на цепь сажай вместо собак! Только вот лаять пока не выучились. Кролики – короткошёрстными, крепконогими, острозубыми, в любой момент готовыми воссоединиться о своими дикими братьями-зайцами.
Птицы не отставали от животных. Куры от безмерного потребления травы сделались зеленоватыми и напоминали маленьких птеродактилей. У них выработался особый стиль бега – они полураспускали на манер истребителей крылья, вытягивали шеи, неслись прыжками, мощно отталкиваясь от земли жёлтыми костяными ногами-шасси. И был им этот бег не в тягость. Однажды они на глазах у Леона ни с того ни с сего домчались вот так до озера, а потом, наращивая скорость, вернулись обратно в курятник. Лишь чудовищный бройлер-петух пока сохранял естественный окрас. Вероятно, потому, что, распустив над общей плошкой крылья, не подпуская остальных, склёвывал большую часть зерна, скупо насыпаемого дядей Петей. Но у него почему-то вылезли на заднице перья. Петух превратился в безобразного павиана. Что-то неладное творилось этим отродьем. Ему уже было мало куриц. Он заскакивал на совершенно к тому не расположенных уток и гусынь. Те орали, как будто их резали.
Водоплавающие, как и положено, проводили время на озере. Только если раньше они утром чинно уходили, а вечером приходили, теперь – улетали и прилетали. Пока ещё не очень уверенно, но с каждым днём их перелёты становились всё более незатруднёнными. Особенно пристрастился к воздуху белый, как сахар, молодой гусак. Все уже давно приземлились, занимали, крякая, спальные места на сене, а этот свистел в закатном небе над Зайцами рафинадным снарядом. Умение летать сообщило водоплавающим независимость и чувство собственного достоинства. Теперь просто так, бормоча «ути-ути-ути» или «тега-тега-тега», к ним было не подобраться. Они выставляли дежурных, следили за приближающимися, и если не было в руках дяди Пети или Леона плошки с кормёжкой, вскидывались, как эскадрилья по тревоге, и улетали.