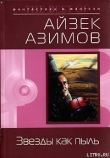Текст книги "Домзак"
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
– Нет такого закона, – внятно проговорил Байрон, содрогаясь от холода на клеенке. – Где вы там?
– Сейчас, милый, сейчас...
Он приподнялся на локтях. Стоя перед ним на коленях, Любовь Дмитриевна заканчивала перевязку его обрубка. Пахло ихтиолкой, какими-то травами...
– Где Оливия? – хрипло спросил он. – Чем вы там намазали?
– Оливия уже приехала, – ответила Любовь Дмитриевна, поднимаясь с колен и вытирая руки полотенцем. – Если ваши московские врачи спросят насчет мази, я тут все выписала на бумажке. Можете не трудиться: все по-латыни. Они поймут, а вам ни к чему. – Она кивнула на литровую банку с какой-то желтоватой мазью. – Этим будете смазывать на ночь. Но, судя по всему, это поможет только отек снять. А я, увы, не хирург и даже не онколог. Могу только сказать, что вам скорее нужно возвращаться в столицу – и в клинику, в клинику! Без промедления.
– Вы же не хирург и даже не онколог. Курить охота.
– Кошмар снился? – Она протянула ему сигарету, чиркнула спичкой. – Да у вас губы дрожат, милый! И давно это у вас?
Он кивнул, глубоко затягиваясь дымом. Голова еще кружилась, но звон в ушах пропал. Он снова все видел и слышал.
– Послушайте... вы и правда были наркоманкой?
– Мало ли что говорят. Что было, то прошло. А с тех пор, как я здесь поселилась, жизнь моя изменилась. Я сама изменилась. Довольны?
– Но вы же, простите, спите с этим отцом Михаилом? Не обижайтесь! Я же тоже не деревянный, понимаю: любовь и все такое.
– Любовь... – Она тихонечко рассмеялась. – Любовь – это мир превыше всякого ума. И вашего в том числе.
– Это буддизм.
– Какой вы, однако, глупый! Апостолов читайте... Павла – особенно... хотя бы читайте... Они были такими же людьми, как мы. Только они на пределе душевных и иногда физических сил размышляли о непостижимом. И верили в Бога. А вы ведь в Бога не верите, правда?
– Спасибо за сигарету. – Он протянул ей окурок. – Однако в таком виде мой обрубок в протез не влезет...
– Я вам палочку дам, чтоб опираться. А протез не забудьте, к утру наденете как миленький. Опухоль спадет, это я вам гарантирую. Но только это.
Со двора донесся шум машины.
– Это Оливия. Она ваш автомобиль домой отогнала, все равно вам сейчас за руль нельзя. А пока она и будет вашим водителем. Ну Бог с вами. – Женщина перекрестила его. – Дедушку вашего завтра ведь хоронят?
– Да. Спасибо вам. – Натянув джинсы, он полез в задний карман за бумажником.
– Ничего этого не надо. – Она улыбнулась. – А то меня еще за медпрактику без лицензии привлекут. Идите к Оливии. Палочку, Байрон Григорьевич! Палочку не забудьте!
Все же всунув с трудом обрубок ноги в незастегнутый протез и опираясь на палочку, Байрон кое-как добрел на машины.
– Долго я проспал?
– Уж вечер близится. – Оливия явно нервничала, но старалась держать себя в руках. – Поехали к моим: отцу захотелось с тобой повидаться.
– А что дома?
– Майя Михайловна всем подряд устраивает головомойку, – нехотя ответила Оливия. – Завтра похороны, а тут, видишь ли, не прибрано, это не готово, то валяется... Бесится. Больше всех почему-то Диане досталось: ревет до сих пор. Ей-то за что?
– Был бы человек, а вина найдется.
Машина свернула с проселка на асфальтированную улицу, обсаженную бурыми тополями, и вскоре остановилась у двухэтажного дома, высившегося на белом кирпичном цоколе. Выше по улице тянулись одинаковые дома под черепичными крышами, над которыми – вдали – виднелись краснокирпичные строения ликеро-водочного завода. Даже отсюда была отчетливо различима паутина колючей проволоки поверх глухого стального забора цвета хаки.
От калитки к невысокому крыльцу вела аккуратно вымощенная тесаным камнем дорожка, по бокам которой тянулись кусты подстриженного шиповника. Крыльцо с перилами и деревянный этаж дома были выкрашены голубой краской, а крышу – с обоих концов конька – украшали цветастые петухи. Да и все вокруг было чистым, ухоженным. "Так и просится на гравюру конца какого-нибудь семнадцатого века, – подумал вдруг Байрон. – Наверное, именно эта аккуратность и поразила юного царя Петра в Немецкой слободе".
Они вошли без стука. В прихожей Байрон нечаянно прижался к бедру Оливии, снимавшей туфли, она с силой, но мягко отстранила его. Прошептала:
– Ты здесь только моего женишка не разыгрывай. Не обижайся, ладно?
– Штрафную! – нараспев прокричал дядя Ваня, появляясь из комнаты с подносиком в руках. – До дна, племянничек, чтоб зла не оставлять!
Байрон молча и не кривясь выпил. Обнял дядю.
– Ты извини: от меня микстурой пахнет... только что от Любови Дмитриевны...
– Святая женщина! – прошептал дядя. – Но батюшка – не одобряет! Молчу! Молчу! Она к нему бродяжкой пришла, и так сошлось, что прибыла она как раз в тот день, когда отец Михаил жену и дочку отпевал. Любовь Дмитриевна в толпе верующих стояла, а потом вдруг – в обморок. А очнулась – и не захотелось ей больше бродяжничать. Знак! То знак был свыше!
Он подтолкнул племянника в спину.
Из-за стола, уставленного тарелками с закусками, бутылками и рюмками, поднялся худощавый священник со связанными в хвост на затылке волосами.
Байрон не знал, принято ли здороваться с попами за руку, и поэтому поклонился издали. Батюшка ответил таким же неглубоким поклоном.
Вошла жена дяди Вани, Лиза, тоже поклонилась Байрону. Освободила место за столом, выставила чистые тарелки и, опять зачем-то поклонившись, исчезла за дверью.
– А мы тут с отцом Михаилом о страдании рассуждаем, – продолжая разговор, дядя Ваня налил всем в рюмки. – Я утверждаю, что пострадавший за близкого своего – например, за отца или брата – уже если и не святой, то мученик. А еще про канонизацию царской семьи... – Он поймал вилкой гриб, проглотил. – Я говорю, если уж на то пошло-поехало, тогда надо всех погибших канонизировать – и белых, и красных, да и тех, которые бессудно и бесследно на Колыме пропали...
Священник смущенно улыбнулся в редкие усы.
– Со здоровьицем!
– Об этом много в газетах писали, – сказал Байрон, подцепив вилкой кусок хорошей ветчины и отправляя его в рот: после Любашиного снадобья пробудился аппетит. – Пописали – и забыли. Иконка в церквях появилась новая... А знаете, батюшка, – он чуть склонился к отцу Михаилу, словно желая сказать тому что-то по секрету, – а ведь будут люди молиться царю-мученику. Будут. Только не потому, что он мученик, а из-за малолетнего сына Алеши, погибшего вместе с родителями. Младенец ведь... Молиться будут отцу, а вспоминать – малыша, которого большевики убили.
– В вашем мнении есть какой-то резон, – сказал священник. – Но только вот такусенький... частичный...
– Ты ради этого Байрона звал? – с холодком в голосе поинтересовалась Оливия.
"Интересно, – подумал Байрон, – считает она его настоящим своим отцом или нет?"
– Из-за этого? – удивился дядя Ваня. – А чем этот разговор хуже других? Хотя, конечно, с места в карьер – негоже. Твой тост, племянник!
– Спасибо. – Байрон обвел взглядом присутствующих. – Только у меня не тост даже, а как бы предуведомление...
– Преамбула! – воскликнул дядя. – Какой же тост без преамбулы?
– Вам, батюшка, мой дед, наверное, рассказывал о том происшествии сорок первого года... которое в Домзаке случилось однажды ночью...
Священник кивнул.
– Вообразите: мне приснился сон. – Байрон выпил. – Можно я у вас тут подымлю?
Оливия придвинула пепельницу.
– Как будто я начальник Домзака и получил приказ отпустить заключенных, приговоренных к смерти. Выпустил. А прошло три или четыре часа, как вдруг они все вернулись. Бегом. Как в дом родной. Встал я в распахнутых воротах на ветру и не знаю, что дальше будет...
– Ну и? – подался к нему дядя Ваня.
– Проснулся я. – Байрон посмотрел на священника. – Вы, наверное, Кафку читали? Так вот многие считают, что главного героя казнят ни за что. Просто так.
– А вы считаете как? – спросил отец Михаил.
– Его прирезали, как собаку, в отместку за то, что свой личный закон он искал за пределами себя. В чужом Законе. Может, это и не я придумал, а вычитал где-нибудь... неважно! Почему они все вернулись? Ну я понимаю: война, вокруг солдаты, патрули, да и идти им, в общем, было некуда: родные вмиг бы выдали, такие были времена. Но ведь кто-то же мог и не вернуться? Лучше уж на воле погибнуть, чем по-телячьи покорно ждать расстрела. Ради чего? Ради еще одного теплого часа в вонючей камере? Ведь все на верную смерть вернулись...
– Ты, конечно, хотел бы этот свой сон на всю Россию распространить! воскликнул дядя Ваня. – Сонная овечья страна и так далее.
– Ваш дедушка, царствие ему небесное, – начал священник, – рассказывал, что некоторые приговоренные держали во рту нательные крестики...
– И мне рассказывал, – подтвердил Байрон. – Последняя соломинка...
– А вам не приходило в голову, что они на мучение-то и вернулись? Чтобы пострадать? Ведь тут не Кафка, а Бог внутренний и Бог внешний, как вы это называете, слились воедино... А вы, похоже, протестантов начитались, а истинной православной веры не имеете ни капли... разве что тягу...
– Среди них немало и атеистов было, – упрямо вернул разговор в прежнее русло Байрон.
– Это уж Господу разбираться, кто из них верующим был, а кто, как вы называете, атеистом. Вот вы себя к последним, кажется, причисляете, но ведь мучает вас история, рассказанная дедом, в сновидениях является. Даже если хотя бы один человек вернулся туда, чтобы за веру пострадать, то и остальные оправданы...
– И евреи с удмуртами?
– И они. То есть один подлинно верующий, хочу я сказать, тьму язычников перетянет.
– Вы своего деда архимандрита имеете в виду?
– Почему же только его? – удивился батюшка. – Хотя, конечно, и его тоже. Но ведь было там много народу, и наверняка верующих было больше, чем отрекшихся от веры. Поэтому я и готов утверждать, что не от мороза или патрулей те люди вернулись, – они на подвиг вернулись.
– Во сне? В моем собственном сне?
– Как знать. Бывают сны тонкие, духовные, даже провидческие...
– Но случилось-то все не так. И мой дед участвовал в этом. И знаете, что он мне перед смертью сказал? Что не испытывает никаких мук совести за содеянное. Его мучили какие-то детали... скрип сапог, чьи-то рожи, керосиновые лампы, горевшие почему-то вполнакала... Да он этими керосиновыми лампами мучился больше, чем тремя сотнями убитых! Кто велел прикрутить лампы? Вот какой вопрос он себе до самой смерти задавал!
– Этот вопрос он себе на своем языке задавал, но и этот вопрос был мучением его совести, только в причудливой форме... как у вашего Кафки, например...
– Эк ты его, Миша! – Пьяненький дядя Ваня снова взялся разливать водку по рюмкам. – На одном языке Бог говорит, на другом человек, и это, может быть, и правда.
– Не совсем точно я выразился, но, надеюсь, вы меня поняли?
– И выразились точно, – сказал Байрон, – понял я вас. Вопрос теперь в другом: почему это в моем сне случилось? Почему деду снилась керосиновая лампа, а мне – все остальное? Ведь сны по наследству не передаются. Да и вина – понятие не наследственное. И почему приснился этот тонкий сон – мне?
– Объяснение тут, вообще говоря, простое и к богословию отношения не имеет, – проговорил священник. – Просто-напросто вы только об этом в последнее время и думаете. Зубы чистите – об этом думаете. Водку пьете – а мысль не отвязывается. Чистая психология. Чем-то же поразила вас эта история, Байрон Григорьевич, и в этом вы сами признались. Значит, поведение тех людей показалось вам странным, еще когда дедушка рассказывал вам о той страшной ночи... А сон стал продолжением ваших размышлений, которые подспудно жили в вас и не отпускали. И во сне явился вам иной образ случившегося: подвиг.
Байрон снова закурил и, тупо уставившись на иконку в углу, тихо проговорил:
– Это все обдумать надо. Вроде бы я понял, что вы хотите сказать. И понимаю, что вам тяжелее все это, чем мне, и вы еще наворотите дел, отец мой, потому что времена сейчас нехристианские... Но вы – верующий человек. А я, как и большинство, ни то ни се. И нету у меня времени, честно говоря, чтобы склониться к тому или к сему. – Сухо усмехнулся. – Да и надо ли? Впрочем, спасибо, батюшка, и на том.
– Папа! Это же салфетница! – возмущенно воскликнула Оливия, пытаясь вырвать у отца пустую ребристую вазочку. – Ну как хочешь! Тогда и мне наливайте.
Дядя Ваня поднялся. Был он крупен – в отца – и ширкоплеч, а Байрон вдруг вспомнил его сгорбленным пришельцем, заявившимся к родственникам после долгих лет тюремной отсидки.
– Я недаром позвал тебя, Байрон, – начал он, – чтобы в присутствии святого отца... и так далее... Я не знаю, что тебе рассказывал отец насчет меня...
– Считай, ничего.
– Тем хуже... или тем лучше... – Он залпом выпил водку и шумно потянул ноздрями. – Случилось это незадолго до твоего рождения. Да, я буду краток. До рождения. Мы с твоим отцом, а моим единокровным братом, катались на санках и ударились головой. У Гриши вскоре обнаружилась падучая, а мне хоть бы что. Но приступы у него случались редко, очень редко. Я и рассказать хочу только об одном приступе, который изменил не только мою жизнь... не только! У нас в старом доме что ни воскресенье собирались гости. Гриша, твой отец, был уже женат на Майе, и вроде бы они ждали ребенка... детали опускаю... Среди гостей оказалась девочка лет пятнадцати-шестнадцати. Шалунья, игрунья... В общем, по тем строгим временам – слишком избалованная была девочка. Гриша за нею в шутку взялся ухаживать и сдуру – только сдуру! – выпил водки. А ему ж было нельзя. Врачи – строго-настрого. Ну дальше проще: уединились они наверху (а только я один и видел, как они туда крались). А внизу веселье продолжается вовсю. Вино – рекой... И тут вдруг подходит ко мне тихохонько Нила и велит следовать за нею, не привлекая внимания гостей. Поднялись мы наверх – а там страх и ужас. Гриша без сознания, а девочка-шалунья – мертва. Изнасилована и мертва. Мы позвали родителей. Гриша постепенно пришел в себя и его увели. А когда гости ушли, состоялся разговор. Выдавать Гришу правосудию – значит, губить не только его, но и беременную Майю, да и репутацию семьи. Долго о чем-то разговаривали, кто-то плакал, кто-то... впрочем, это неважно! А я сидел и слушал их, и где-то в глубине души у меня словно бы какой-то страшный бутон распускался, и чем дальше, тем больнее, тем сильнее я его чувствовал, а когда уже терпежа моего не стало, схватил отца за руку и потащил в другую комнату. Я, говорю, готов взять все на себя. Должны же дети хоть чем-то платить родителям, и я готов заплатить всю цену. Отец поначалу решил, что я с ума сошел. Слово за слово – оба вроде успокоились, а бутон в душе моей вовсю распустился. Я был готов на все. Дом поджечь? Милости прошу! Человека убить? Да с моим удовольствием! И все это я отцу сказал... даже не сказал, а – говорил и говорил, пока совсем его не заговорил до полной одури, и сам по уши в этой одури, и вижу – он тоже. Аж вздрагивает. Налил нам по капельке коньяку, а потом вдруг – трах рюмку в пол. Пусть, говорит, Бог решает. Вот вам и неверующий человек, однако. Ты, говорит, хоть понимаешь, перед каким страшным выбором меня ставишь? А я этот выбор, говорю, сам сделал. И пойду до конца. И суд? И тюрьму? И суд, и тюрьму. Да нам же с тобой вовек не рассчитаться, Ваня, говорит он тихо. Вот в этом-то, говорю, и вся разница между нами. Вы про расчеты, а я – без всяких расчетов. Голый! Совершенно голый!
Он перевел дыхание и сел. Поискал что-то в кармане. Оливия протянула ему платок. Дядя Ваня промокнул глаза.
– И ведь все выдержал, все перенес. Что там следствие и суд! Хуже было, когда меня в психушку определили. Боже милостивый, знали б вы, что там с нами делали! Уколы, таблетки – это еще ничего. Терпимо. Книг не давали, даже переписку с родными запретили. Я уж не говорю о свиданиях с близкими. – Он громко высморкался в салфетку, скомкал и сунул ее в карман. – Санитары насиловали нас, братцы. Измывались... Я спасался только тем, что вспоминал прочитанные книги. Как я жалел, что читал без ума, не все запомнил! Стихи и те вспомнить иногда не умел. Я же в драмкружке занимался – еще в школе. Мы Чехова ставили – так, рассказики, водевильчики. Но вот Чехова-то я, оказывается, и запомнил. И когда приехала ко мне Майя на первое свидание, я ей и говорю: "Те, которые будут жить через сто-двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Майя, ведь не помянут!" А она мне – слово в слово: "Люди не помянут – зато Бог помянет". За эту ее памятливость, за эти ее слова я готов был не знаю на что ради нее... – Он вытер слезившиеся глаза тыльной стороной ладони. "Позвольте мне говорить о своей любви, не гоните меня прочь. Вы мое счастье, моя жизнь, моя молодость!" И вот тогда-то я и понял, что все бывшее со мною – не напрасно, не зря. И когда я домой вернулся, а они, отец в особенности, стали у меня прощения просить, я остановил их – да, не лгу, остановил! И сам – сам! – у них прощения попросил!
– За что? – глухо спросил Байрон.
– С твоей точки зрения ни за что! – вскинулся дядя Ваня. – А с моей точки зрения – за все! За все, что мне было дано. Дано! Понимаешь? И к черту эти пятнадцать лет! Дано – не отнимешь!
И он уронил голову на руки, содрогаясь всем крупным телом.
Из соседней комнаты выбежала Лиза. Вдвоем с Оливией они подхватили Ивана и увели в спальню.
– Вы знали об этом? – после непродолжительного молчания спросил отец Михаил.
– Отчасти, – ответил Байрон. – А мать говорит, в молодости он веселый был, добрый, хороший...
– Мне на днях пришлось исповедать человека, совершившего преступление, взбудоражившее весь город, – медленно, словно бы через силу проговорил отец Михаил. – Он меня с постели поднял. Заперлись мы в церкви вдвоем. И вдруг пред ликом Христовым начал он лгать! Он говорит, детали какие-то выкладывает, а я физически чувствую его ложь и ничего с собой поделать не могу... Актерствует, лжет, извивается, как будто даже издевается, а я не пойму, над кем издевается, надо мной или над Богом... И в таком случае зачем на исповедь пришел? Глупо.
– Я понимаю: тайна исповеди, – сказал Байрон. – Но какие детали он вам выложил? Или и про это нельзя говорить?
Отец Михаил покачал головой: нет.
– И что же – отпустили ему грехи?
– Грехи Бог отпускает. А я того человека выгнал из храма – не удержался. Стыжусь этого. – Он помолчал. – Нет правды в людях. Или ищем не там? Все люди как будто стерты: один телевизор смотрят, одни газетки читают, одним языком говорят... Впрочем, это уже другой разговор.
Байрон вдруг рассмеялся.
– Извините меня, отец Михаил, не знаю почему, но вы мне достоевского Шатова напоминаете... из "Бесов" – помните? Тот в Бога не верил, а в русский народ-богоносец – верил. Народ-богоносец один телевизор смотрит! Простите, не хотел вас обидеть. И еще: почему вы актерства так не любите? Извините за банальность, но все мы играем роли, в том числе и Иисус...
– Но Он играл только одну роль! – вспыхнул поп. – Вы вспомните противостояние Понтия Пилата и Иисуса. Кем был Пилат? Прокуратором Иудеи в Иерусалиме, фаворитом Сеяна в Риме, солдатом, мужем, любовником, циником... Разве не циничен его вопрос об истине? Так, кажется, и подмигивает Иисусу: мы-то, мол, с вами знаем, что есть истина на самом деле, так что отвечайте правильно – и я постараюсь вас отмазать. А Он – не может. Потому что всюду и всегда он был только Иисусом Христом, Спасителем и Спасением. Поэтому и завещал Он нам только одно: будьте собой. Собой – истинным, а не совокупностью приемчиков и ужимок!
– А это возможно?
Священник встал.
– Я помолюсь за него. Прощайте.
– За кого? – крикнул Байрон.
Но священник уже вышел, бесшумно ступая своими сапожищами.
– Прощайте... – пробормотал Байрон. – За кого ж вы молиться станете? Неужто Витька на исповедь среди ночи прибегал? Чушь.
Он лишь однажды был внутри церкви Преполовения Пятидесятницы, еще в детстве, и его неприятно поразил взгляд то ли какого-то святого, то ли Иисуса (сейчас он не мог вспомнить, кому принадлежал этот взгляд), взиравшего снизу вверх на Саваофа и в то же время не спускавшего глаз с прихожан: взгляд был жгуч и бел – может быть, потому, что снизу невозможно было различить зрачок святого.
Оливия вошла в комнату с неподвижным лицом.
– Он никогда нам этого не рассказывал. Может, маме... Ты спишь, что ли?
– Я с ума схожу, – сказал Байрон. – И говорю тебе это, не кривя душой. У меня сердце переполнено Тавлинскими, Шатовым... Дядю Ваню в тюрьму сдали, а он их прощает. Ни с того ни с сего. Как юродивый! Кстати, он в церковь ходит?
– Может, он и юродивый, а скорее заигравшийся игрок, но в церковь он не ходит. Во всяком случае, мне такое неизвестно.
– Извини. Отвези меня домой, пожалуйста. А батюшка этот... у него еще все впереди, хоть и кажется, что все уже пережил... И то, что выпивать начал... и остальное... наворотит! Ох и наворотит он еще дел! Да поехали же, милая, поехали же!
В голове мутилось, но он еще помнил, как вскарабкался по лестнице на второй этаж (даже Диану разглядел, стоявшую, уперев руки в бока, в проеме своей комнаты и наблюдавшую за костыляющим Байроном, которого поддерживала Оливия), как обрушился на кровать и попросил у Оливии снотворного. Она сунула ему в руку флакон ("Только матери ни слова!"), принесла стакан воды, позвала:
– Байрон!
Но он уже спал, дрожа от озноба. Она укрыла его одеялом и осторожно прикрыла за собой дверь.
Сон его был недолог. Он очнулся в полной темноте и тотчас увидел женщину у окна. От нее ничем не пахло. "Верочка глухонемая! – с тоскливым ужасом подумал он. – Явилась не запылилась. Полный назад!"
– Это я, Байрон, – сказала мать. – Нам нужно поговорить. Ты можешь зайти ко мне?
– Конечно. – Он откашлялся. – Только умоюсь.
– Чем здесь так пахнет?
– Любовь Дмитриевна мазь дала.
– А. Ну, я жду.
Она ждала его в своем кабинете, полулежа на диване. Длинный ее халат, державшийся только поясом, съехал углом на пол, обнажив длинную мускулистую ногу прекрасной лепки. Поймав его взгляд, она поправила халат и села, подложив под спину подушку.
– Как там дядя Ваня? – безразличным голосом поинтересовалась она. – На столе в графине – хороший коньяк. А лимон уж сам порежь, сделай одолжение. Мне не надо.
Выпив рюмку, он опустился в кресло у окна – подальше от матери.
В комнате пахло тонкими духами и сердечными каплями.
– Теперь ты все знаешь, Байрон, – продолжала Майя Михайловна ровным голосом. – За эти дни ты узнал о своей семье больше, чем кто бы то ни было еще. Ты доволен?
– Странный вопрос... Чем же я должен быть доволен? Деда убили, дядя Ваня спивается, ты остаешься на пару с Оливией командовать империей Тавлинских, Диана сматывается... А я собираюсь уезжать, как только позволят обстоятельства, разумеется...
– Диана сматывается, – задумчиво повторила мать. – И это хорошо. Делать ей здесь больше нечего. Дед обеспечил ее всем необходимым на годы вперед, да она из тех, что в любых обстоятельствах не пропадают...
– Ты, видать, ее недолюбливаешь...
– Возможно. Но я и пальцем не шевельну, чтобы помешать ее планам. Просто она – чужая. Невзирая на то что присобачила к своей фамилии нашу. Это ничего не меняет. Она уже тебе, наверное, говорила, что ей незачем возвращаться...
Байрон кивнул.
– Вообще же она девочка забавная, – без оживления сказала мать. Я неправильно выразилась. Она девочка с двойным дном. Мечется, извини меня, как слепая в бане, у которой какие-то дуры украли шайку...
– А ты давно в общественной бане была, ма?
– Ну я же выросла здесь. И до замужества не знала, что такое ванна и душ. Помню, мы с матерью ходили как раз в ту баню, куда по пятницам являлась эта слепая. Кажется, прозвище у нее было – Сиротка. Люба Сиротинина. Хорошо, если с сестрой или с соседкой, хуже – когда одна. Так вот, стырят у Сиротки шайку и хохочут, подначивают... – Она покривила губы. – Шутка такая была. Вот эта бедолага и кричит, мечется, а потом вдруг присядет на корточки и замрет. Ждет, когда кто-нибудь мимо прошлепает, и тут эту бабу за ногу хвать! Повалит на пол и ну мутузить. Ей кричат: да не она виновата! А она в ответ: буду бить, пока шайку не отдадите. Боялась я ее... очень... Я ведь не Нила, которая всех сироток жалеет. Ты никогда не задумывался о том, что, когда эти сиротки вырастают, они мало-помалу мстить начинают – и в первую очередь благодетелям? Я не провожу прямых аналогий, но Диана ведь почти всю жизнь в уродах ходила... Не фырчи! Найди другое слово, если это не нравится. А сейчас она – стройная козочка, врачи чудо с ее ножками сделали. Пора шайку искать... Я не хочу, чтобы в трудной ситуации, в которую мы попали из-за смерти деда, рядом с нами оказалась Диана. – Она вдруг улыбнулась. – А вообще-то жаловаться ей на нас – грех, правда? Ведь мы всю жизнь и были ее настоящими друзьями... ты, я полагаю, окончательно ее в этом убедил...
Байрон понял, что мать знает про него и Диану все. Или почти все. Шатов – тесный город. А уж дом Тавлинских – и подавно. Баня.
Он налил себе коньяку, закурил.
– Она ведь пыталась и с другими людьми сойтись. И знаешь, с кем сошлась? С Федор Колесычем! Налей и мне рюмочку.
Федор Колесыч жил одиноко и замкнуто у реки, а после смерти единственной дочери – северо-западной Ленты – и вовсе засмурел. Он был пугалом для всех городских детей. Раз, а то и два в неделю он выезжал на своей коляске с огромными задними колесами на отлов бездомных собак. Надевал при этом вывернутую наизнанку шкуру какого-то грязно-серого зверя, надвинув на лоб капюшон. Едва завидев его в конце улицы, дети бросались спасать своих псов, запирая их в сараях или дома. Но без добычи Федор Колесыч никогда не возвращался. О нем говорили, что у Колесыча глаз магнитный: если упрется взглядом в какую-нибудь дворнягу, псина замирает неподвижно, пока ловец не набросит на нее свой огромный сачок. Знали в Шатове, что выезжал он на охоту и под утро, когда на пустынных улицах не было даже дворников. Колесыч и собаки. Этих он стрелял из малокалиберной винтовки.
– Незадолго до выпускных экзаменов Диане вдруг вздумалось составить Колесычу компанию. И выезжала-то она тайком, но дед узнал и ругательски ее отругал. А она говорит: какой кайф – псину одним выстрелом завалить. И глаза блестят, словно атропином закапанные.
– А я-то думал, что старик давно помер...
– В июне. – Майя Михайловна отхлебнула из рюмки и закурила сигаретку. Та же Диана поведала нам за столом фантастическую историю о небывалых похоронах, в которых приняли участие тысячи собак – они проводили гроб с телом до кладбища, а когда рабочие закидали яму землей, каждый пес счел своим долгом помочиться на могильный холм...
– Это со временем пройдет.
– Разумеется. Она уже выросла из трусиков с лямками, читает Милтона Фридмана по-английски и критикует экономическую программу правительства.
Они помолчали.
– Я остаюсь одна, – нарушила молчание Майя Михайловна. – Мне даже не бизнеса жаль – черт с ним! Выдам Оливию за Германа Лудинга – и все дела устроятся как нельзя лучше. А жаль... – Она погасила сигарету в недопитом коньяке. – Всего жаль. Я сейчас в таком состоянии, что даже Гришу – твоего отца – готова простить... а, черт!
Байрон забрал у нее рюмку с окурком.
– И дома не жаль?
Она только махнула рукой.
– А мне жаль, что вот я... вот не будет меня, а Домзак так и останется на своем месте. Как язва.
– Байрон, Колыма вон осталась – и что? Яйценоскость кур уменьшилась? Помнить – да, помним. И не приведи Господь, чтобы повторился весь этот кошмар. Но ведь невозможно каждую минуту, даже каждый день об этом вспоминать. Это наш Домзак. Наша Колыма.
– Наша Россия.
– Пока. Выучится Диана и построит на Колыме завод по производству колготок. Или за золотые копи возьмется. А может, с первых денег церковь выстроит?
Байрон ухмыльнулся.
– Может. Она все может. Сейчас в России трудно встретить бандита, который не жертвовал бы на церковь.
– А что ты смеешься? Что у нас осталось? История – испаскужена, и, пока ее в божеский вид приведут, кости наши истлеют. На нашу историю, милый, не обопрешься – опасно. Особенно если сдуру. Там подгнило, здесь искрошилось. Кровь да вера – вот и все, что у нас осталось. Ну и земля, конечно, окруженная мусульманами да китайцами.
– Вот уж не предполагал, что и ты об этом задумываешься.
– И не думай больше. Иди-ка выспись по-человечески, завтра у нас день тяжелый.
Она прикрыла глаза.
– Из Москвы, когда случится... то есть когда почувствуешь – позвони. Спокойной ночи. Оливия – медовая девочка, не обижай ее.
Он обернулся с удивлением, но мать сделала вид, что спит.
Земля была буровато-желтой, чуть всхолмленной, и, куда ни кинь взгляд, всюду торчали безобразные огарки деревьев, иссохшие кусты, чудом не рассыпавшиеся в прах, да изредка полузанесенные песком подобия человеческих жилищ без крыш, с темными провалами вместо окон и дверей. Байрон огляделся. Ни птицы, ни зверя, ни человека. Лишь кое-где в углублениях, оставленных, видимо, давно иссякшими ручьями, громоздились груды серых костей – то ли человеческих, то ли собачьих. "Почему собачьих?" – удивился он. Эти кости могли принадлежать животным, например. Он пнул башмаком одну кучу – она рассыпалась, подняв вялый столб пыли, которая тотчас осела на другие кости.
Он заглянул в некоторые дома без крыш, но не обнаружил там никакой даже ничтожной мелочи, напоминающей о людях.
Солнце стояло в зените, но не пекло, хотя не было и признака ветерка, который смягчал бы жару.
Байрон задумался. Идти ему было все равно куда. И он двинулся вперед, наступая на крошечный островок собственной тени, двигавшейся в такт его шагам. Он видел пересохшие реки, озера и болота, огибал опасно глубокие овраги и трещины, избороздившие твердую землю, лишь прикрытую нетолстым слоем песка и пыли. И, если вдруг встречался валявшийся на земле человеческий череп, Байрон старался как можно скорее миновать это место. Иногда черепа эти были сложены в островерхие кучи. Вскоре, однако, он привык к безлюдному пейзажу, а когда стал разглядывать человеческие черепа, не нашел в них никаких – например, пулевых – отверстий. Возможно, все эти люди и животные умерли медленной смертью, когда закончилась пища и иссякла вода. Не исключено, подумал он, что и ему грозит именно такая смерть. Но не испытал страха. Ему было тепло и – он удивился – хорошо.
С наступлением темноты он забрался в брошенное жилище, проверил на всякий случай, не было ли там скорпионов (в Афганистане, спасаясь от скорпионов, они спали в палатках с поднятыми полами: их предупредили, что эти твари облюбовывают закрытые помещения). Он был голоден, но не измучен. Ему просто хотелось спать. Байрон лег вдоль стены у входа: стреляют обычно в тех, кто на виду. Однако ночь прошла спокойно.