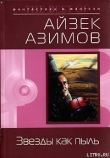Текст книги "Домзак"
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Он махнул рукой.
– А для меня дед вместо отца был, – сказал Байрон. – В нем еще силен был этот дух: всех держать под крылом, а если надо – в кулаке. Он погиб, Диана уезжает, Нила едва на ногах держится, остаются мать да Оливия. А года не пройдет, и меня похоронят. Меня – тоже. Врачи сказали, что и года-то не протяну. Я на все плюнул и рванул сюда, к своим. А своих – не осталось. Это трудно объяснить...
– Вы ж все последние годы врозь жили. Ну ты, к примеру. А остальные деньги делали. А это то же самое, что врозь жить.
– Воевал в Афгане, служил, развелся с двумя женами, сына потерял, отца потерял, деда потерял... Дядя Ваня – сколько ему осталось? Не сегодня завтра сковырнется по пьянке... И зачем жили-то? Я – зачем жил? И почему остаток жизни проведу на госпитальной койке? Меня ж как уложат, так больше и не выпустят. Все. Валар. И хотел бы что-то сделать, а не могу. Тебя убить? А ты задачу выполнил и только и ждешь, когда в тебя пальнут. Пальцем не шевельнешь, чтобы от пули увернуться. Я прав?
– Прав, – глухо ответил Виктор. – И не будет ни меня, ни моего Никогда. А потом и твое Никогда исчезнет. Жизнь.
– Это – жизнь? Не хочу. Пулю в висок себе засандалить – как-то глупо... хотя черт его знает... Всю жизнь думал о любви, хотел любить, хотел быть любимым. Но не умею: может, физиологически не так сделан? Но твое Никогда, честно говоря, не по мне: в нем любить можно только себя. Ладно, Виктор, пойду. Тебе решать, перед каким богом представать и какие кому докладные подавать. Можешь успокоиться: я не шпион. Наш разговор останется между нами. Поговорили – и поговорили. Спасибо, что не врал.
Виктор встал, помялся.
– Эй, подполковник! И тебе спасибо, что вот поговорили... Наверное, по-человечески мне уж больше ни с кем говорить не придется. Прощай, братан. Кто знает, может, мы с тобой и правда братья...
Байрон пожал протянутую руку и отвернулся к решетке.
Милиционер неторопливо двинулся к двери, побрякивая ключами.
– А знаешь, что священник этот, отец Михаил, ушел?
Байрон обернулся.
– Как это? Что значит – ушел?
– Русь велика. Пошел правду искать, я думаю. Не перевелись еще на Руси юродивые. А отыщет, если терпения и сил хватит, свое Никогда.
– То есть насовсем ушел? Все бросил – дом, церковь, Любашу?..
Виктор кивнул.
– Все. Прощай.
Диана изнывала от жары в машине. Пепельница была полна окурков.
– Наконец-то! Я уж думала, тебя посадили.
– Как видишь. Даже подписку о невыезде дезавуировали. Кстати, хочешь угадаю, кто тебе такие роскошные красные трусики подарил? С первого раза.
– Заткнись, ты на пенсии, следователь. Мать сто раз звонила. Гости уже за столом.
– Мне просто не терпится произнести имя донатора, вручившего тебе нижнее белье, которое – я очень надеюсь – в Москве ты ни разу не наденешь. Опусти стекла и включи кондиционер.
Диана сняла темные очки и жалобно посмотрела на Байрона.
– Милый мой, ты такой огромный мужичина, твоими руками оглобли гнуть, а стоило твоей матушке наговорить про меня гадостей, как ты сразу изменил отношение ко мне. Знаю я ее этот тезис: "Несчастные – опасны". Это она про меня, про меня. Это я была несчастной калекой, ковыляла, держась за стенку, и требовала особого к себе отношения. А ведь я не требовала – я терпела. Училась терпению. У самой себя училась, потому что остальным до меня и дела не было. Никому, кроме тебя и деда. Но дед был всегда занят, а ты – в Москве или еще где-нибудь. Я терпела, а чтобы терпение не стало путешествием в пустоте, я еще и думала. Я продумывала каждое услышанное слово, каждый жест, каждый взгляд и, когда встречалась со сверстниками, удивлялась: какие ж они глупые! А они не глупые, просто им не приходилось быть в роли несчастненьких. Меня просто жалели, меня не хотели держать за равную, вообще – за нормальную. Ох и много же бесов является в человеке, когда он оказывается в таком положении! По ночам я воображала целые сражения с этими бесами... как у Альтдорфера... С одной стороны, легионы белокрылых ангелов, с другой – воинство дьявола во всем его великолепии. А уж как эти бесы были великолепны! Я читала Байрона и мечтала...
– Не люблю Байрона, – сказал Байрон. – Прости. Мы забыли о Герцоге!
– О ком?
– Господи, да о собачке нашей бумажной!
Диана невесело рассмеялась.
– А насчет красных трусиков я тебе скажу всю правду, – продолжала она с улыбкой. – Это подарок Андрея Григорьевича. Когда решался вопрос о моем поступлении в Высшую школу экономики, а потом об устройстве в Москве...
– Погоди...
– Нет уж! За все надо платить. Он позвал меня к себе во флигель, ну и... нет, он просто вылизывал меня языком... гладил, сажал на колени... и всякое такое... А потом подарил эти чертовы трусики. Я была покорной гурией на коленях бессильного старца. Выспренне звучит? А я так и думала до тех пор, пока он своими руками...
– Да хватит! – уже не на шутку рассердился Байрон. – За эти несколько дней я и без того узнал о своей семье столько всего... разного... Вроде бы все это знал... или догадывался... Достали. Это я не о тебе. Поехали? Подними стекла, а теперь запускай двигатель, чтобы включился кондиционер.
Диана запустила двигатель.
– Сегодня я оденусь иначе, вот увидишь, – сказала она, прикусив губу. И выгуляю Герцога. Совсем собака захирела.
Триколор на флагштоке во дворе был приспущен. Машину поставить было некуда – бок о бок стояли "Мерседесы", "Шкоды", "Форды".
– Весь шатовский бомонд съехался, – сказала Диана.
– Да оставь у ворот – никто сегодня ее и пальцем не тронет, – сказал Байрон. – А за нами Кирцер.
Начальник милиции – опять в парадном мундире и с черной ленточкой на рукаве – махнул им рукой, выпрыгнув из машины. Его "уазик" развернулся на узкой улочке и скрылся за поворотом.
– Лишь бы речей было поменьше. – Он подхватил Байрона под руку. – А твой крестник сейчас новые показания дает. Сам вызвался. Чем это ты его поманил?
– Да так, поговорили... Можно подумать, будто вы не подслушивали!
Они подошли к распахнутым настежь парадным дверям.
– Только вот что... – Байрон придержал шаг. – Камера его мне больно не понравилась...
– Не сбежит!
– Небрежно отделана, да и линолеум на полу ни к чему. Плинтус этот корявый...
– А чем же еще линолеум прижимать? Да плюнь! Ты думаешь, он на себя руки наложит?
– Береженого Бог бережет. Хотя он уже и так руки на себя наложил...
Но Кирцер уже не слушал его.
Гости сидели за длинным столом в большой гостиной. Байрону достался стул в торце стола – напротив кресла с высокой спинкой, которое обычно занимал дед. Там стоял стакан с водкой, накрытый горбушкой хлеба. Все уже выпили и разговаривали вполголоса, только священник отец Иван методично пережевывал пищу, глядя в угол, где под торшером блестел никелированными деталями патефон фирмы "Патэ", исправно вышептывавший "Брызги шампанского". Это была любимая дедова игрушка, и Байрон не сомневался, что на домашних поминках мать непременно потребует включить этот раритет.
Кивнув Байрону и Кирцеру, она продолжала разговор с мэром, который, судя по обрывкам разговора, намеревался устроить в Домзаке музей, а одну из новых улиц назвать в память об Андрее Григорьевиче...
– Вы бы лучше памятник Ленину снесли! – громко предложила Диана. – Весь Шатов им провонял!
– Памятники не воняют! – отрезала Майя Михайловна. – Когда я была в Лондоне, меня поразила центральная площадь, на которой сохранены все памятники – все без исключения. И хорошие, и плохие. Англичане не ставят своему прошлому оценок, как в школе.
Выпивший и наскоро закусивший Кирцер поднял руку.
– Года два назад был я на совещании в Измайлове. Так там точно такой же памятник снесли. А постамент забыли. И вот чем там алкаши развлекаются... Сам видел! Со всего маху метров с двадцати швырнут пустую бутылку в сторону места, где памятник стоял, и бутылка точно над пьедесталом – вдрызг!
– Литература! – хихикнула Диана.
– Нет, но что-то же в этом да есть! – возразил Кирцер.
– Суеверие в этом есть, – проговорил отец Иван, не поднимая головы от тарелки.
– Кто вон тот? – спросил Байрон.
– Герман Лудинг. Говорят, будущий муж Оливии, – небрежным тоном сказала Диана. – Очень деловой человек. Разведен. Детей нет.
– Часы у него на правой руке, – сказал Байрон. – Как у президента России.
Выпив и закусив, он словно впал в легкое оцепенение, сонно разглядывая гостей. Много было незнакомых лиц – это были служащие фирмы, главным образом женщины, одетые в одинаковые темные блузы и пиджаки. Поймав его взгляд, старый Павук поднял рюмку. Байрон кивнул. Когда-то это толстопузое чудовище частенько составляло им с дедом компанию, когда они отправлялись на велосипедах рыбачить на Домзак. Дед обычно сидел на берегу молча – рыбалка его не интересовала. Зато Павук шумно радовался даже какой-нибудь тощей уклейке, попавшейся ему на крючок, и непременно предлагал "отметить это дело" глотком домашнего вина из оплетенной фляги, притороченной к велосипеду. Байрон вспомнил о завещании, которое следовало отдать Павуку-младшему.
Сзади неслышно подошла Нила.
– Ты чего такой смурной? – Она поставила перед Байроном кувшин с самогоном. – Помяни, помяни батюшку Андрей Григорьича.
– Мне сейчас вдруг захотелось произнести речь о красных трусиках, лениво проговорил Байрон на ухо Диане. – И учинить скандал.
– Не добивай мать, она и так едва держится.
Майя Михайловна вдруг громко рассмеялась на своем конце стола, оттолкнула мэра.
– Вы еще сопляком были, когда я в школе со сцены Байрона читала! Это был мой коронный номер, его ждали, я волновалась, Господи, как я волновалась! И вот меня выпускают из-за занавеса, а я никого не вижу перед собой, зал замер, и из меня, даже не из меня... словно мною говорил другой человек, вот так точнее... Байрон! Джордж Гордон! "Дон Жуан"!
Меж двух миров, на грани смутной тайны
Мерцает жизни странная звезда...
Герман Лудинг, вежливо склонив голову, изобразил аплодисменты. Служащие дамы захлопали громко, от души.
– Стихи для студенческой стенгазеты, – пробормотал Байрон. – А тысячи русских школьников плакали над ними...
– Ваша энергия, которую вы только что столь убедительно продемонстрировали, – проговорил мэр, – не оставляет никаких сомнений в том, что компания дома Тавлинских в надежных руках. – Он поднял рюмку. – За процветание Тавлинских! За хозяйку этого гостеприимного дома!
Дядя Ваня сполз со стула и с рюмкой в руке направился к Майе Михайловне.
– Я же вижу, – сказал он, – что ты, бедная, мучаешься одним и тем же вопросом: что будет? Что же будет завтра? А будет утро! И август с его дождиками, грибным запахом в лесу и золотыми ясенями на центральной площади! Мы будем жить, Майя! Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой – и отдохнем. Я верую, Майя, верую горячо, страстно... – Он опустился перед нею на колени. – Мы отдохнем!
Майя чокнулась с ним и спрятала лицо в платок.
– Это ж Чехов? – спросила Диана шепотом.
– Ему особенно удаются женские роли, – сказал Байрон. – У Чехова этот патетический монолог произносит мадмуазель Соня.
– Ванечка... – Голос Майи Михайловны дрогнул. – Лучших слов мне еще никогда не доводилось слышать, а особенно сегодня они так кстати... я не знаю, что еще сказать... За дядю Ваню!
– Что с тобой, Байрон? – спросила Диана. – У тебя физия байроническая.
– Что-то не так. – Встрепенувшись, он махом выпил рюмку. – Я сегодня разговаривал со Звонаревым...
– Ты бы слышала, Дианочка, как он с ним разговаривал! – вмешался Кирцер.
– Я же говорил: подслушивали. Впрочем, нет возражений.
– Байрон показал, что не зря хлеб ел в прокуратуре, – продолжал Кирцер. – Такую цепь сковал и так ею оплел этого негодяя, что я аж ахнул. Факт к факту, довод к доводу, а в результате – замкнутый круг, из которого этому Звонареву ни за что не выбраться. – Он чокнулся с Байроном. Поздравляю. Я тебе не говорил... но через пять минут после твоего посещения он потребовал следователя для дачи новых показаний... Наше здоровье!
– А правда, что вас с Оливией молнией ударило, когда вы в дупле дерева спрятались? – спросила Диана.
– Правда. Врачи говорили, что она чудом жива осталась.
– Закройте двери! – крикнула Майя Михайловна, и один из "субботних" бросился в прихожую. – Какой ветер!
– Интересно, дед всех этих баб перетрахал или не успел? – Байрон прищурился. – После обеда он затаскивал в комнату отдыха свою секретаршу. Каждый день, вообрази.
– Слыхала. И не только секретаршу, но и кой-кого из домашних.
– Но-но!
Снова подошла Нила.
– Евсей Евгеньевич, вас к телефону.
– Кто? – Кирцер достал из кармана мобильник.
– Дежурный. Говорит, срочно.
– Прошу прощения. – Он вылез из-за стола и направился к коридору, ведущему из зала в кухню.
– Ты припер Звонарева к стенке? – спросила Диана.
– Сейчас я в этом уже не уверен. И с каждой минутой... никакой там железной цепи, понимаешь, не было... И что-то я вдобавок упустил. Или не понял. Или не учел, не знаю.
– Пусть сами разбираются...
Кирцер из коридора делал знаки Байрону.
– Извини. – Байрон поднялся. – Сейчас вернусь.
– А я пока трусики переодену, – хихикнула Диана. – И проверю, как там себя Герцог чувствует. Сегодня я хозяйка. Ты понимаешь?
– Меня тоже очень интересует его самочувствие.
Он с трудом улыбнулся ей.
Байрон чувствовал тяжесть во всем теле и при этом – усталость и пустоту в груди.
– Только что в камере обнаружили тело Звонарева, – вполголоса сообщил Кирцер. – Он перепилил себе горло куском ножовочного полотна.
– Перепилил?
– Может, с собой пронес, может, в камере отыскал. – Кирцер выругался. Ты представляешь? Двенадцатисантиметровым куском ножовочного полотна перепилить себе горло! А потом лег на койку лицом вниз. Дежурный велел ему чаю дать на сон грядущий, вот и обнаружилось. Дай закурить! – Пыхнул дымом. – Слава Богу, дал признательные показания, все честь по чести, с росписью и датой. Во всем, гад, сознался. Я поехал. Извинись за меня перед матерью.
– Можно через кухню выйти, Евсей Евгеньевич, – предложил Байрон. – Где ваша фуражка?
– В машине. – Он поднес к уху мобильник. – Лиховцев, к воротам, живо! Через кухню?
Байрон проводил его к черному входу и вернулся в зал.
– Что-то случилось? – спросила Майя Михайловна. – Кирцер даже не попрощался.
– Просил извинить: срочные дела.
– А. И вы тоже?
Мэр развел руками.
Байрон остановился за спиной Оливии и, выждав мгновения, когда Герман Лудинг отвлечется на разговор с соседкой слева, вполголоса произнес:
– Мне нужен укол. Тот самый.
– Придется подождать. – Оливия взглянула на него снизу вверх. – Тебе неплохо бы сейчас прилечь: на тебе лица нет.
– Его на мне давно нет.
"Мы отдохнем!"
Байрон не раздеваясь лег поверх одеяла и закурил.
Мысль, которая тревожила его, казалась дикой, абсурдной, потому что ни в какую логическую схему не укладывалась, но эта мысль не отвязывалась: в той цепи – Обезьян – Таты – Тавлинский – дед оказывался лишним. Понятны убийства Татищевых-старших и их отпрыска, которые были заказчиками убийства Звонарева-старшего. Но остальное-то, то есть дед и вся история с Оливией, непосредственного отношения к убийству не имело. Может, он переоценил Виктора? Дед усложнял комбинацию, превращая ее в какую-то шахматно-философскую партию. Звонарев-младший ни разу не обмолвился о том, что Таты сговорились с дедом ради освобождения Оливии. Более того, подумал Байрон, этот ход старика Тавлинского был для них неожиданностью. Недаром же они так лютовали, узнав, что их любимый Тата в благодарность за услуги Оливии завещал ей солидный кусок своего пакета акций. А только это и было целью деда. Только ради этого он и использовал Оливию. И, если судить по характеру отношений Татищевых-младших и Тавлинского-старшего, вряд ли они были готовы за чашкой чая обсуждать варианты ликвидации Миши Звонарева. Конечно, дед мог шепнуть своему старинному приятелю Тате, что Оливия связана, а уж тот и сам сделал бы выводы, то есть приказал бы детям решить проблему. Но так ли уж она была связана, чтобы еженедельно не уделять ночь-другую старому Тате? Кто бы мог ей помешать? Ведь оставалась же она – и довольно часто – ночевать у Тавлинских, боясь вспышек Мишиного буйства. Значит, и дед мог не считать эту формальную связь Оливии с Мишей серьезным препятствием. Во всяком случае, не настолько серьезным, чтобы "заказывать" человека. Как-то не вязался образ деда-"заказчика" с тем, который составил для себя Байрон. Он, конечно, типичная жаба новейшего русского национал-капитализма, но и человек из другой эпохи. Да вдобавок за ним была сила – власть, милиция и все такое. Он обманывал, блудил, унижал, вилял, но, что бы он ни вытворял, все это не выходило за рамки образа человека, с молоком впитавшего сталинскую этику – пусть искореженную – службиста, дисциплинированного и внешне законопослушного. Он был интриган в самом широком смысле слова. Интриган, а не убийца. Он убивал хитро составленными договорами, душил кредитами и векселями. Вот почему его так измучил Домзак. Точнее, та октябрьская ночь сорок первого года. Не будь той ночи, он бы внукам разве что анекдоты о проделках зеков рассказывал, да и то – вряд ли. Служба как служба. И вдруг в одну ночь служба становится кошмаром наяву, который, преображаясь, преследует его десятилетиями. Байрон не мог поклясться, что дед во всем этом деле с Мишей Звонаревым чист, яко агнец, но у него угасла уверенность в собственной правоте, которая поддерживала его в разговоре с Виктором Звонаревым. А он признался в смерти Тавлинского-старшего и перепилил себе горло ножовкой...
Байрон застонал.
Рывком сел на кровати, налил из кувшина самогонки и выпил.
Перепилил горло ножовкой.
Значит, деда убил не Виктор.
Он схватил мобильник, набрал номер.
– Аршавир, привет!
– Наконец-то! Мы уж с Артемом заждались, командир. Как дела?
– Свободен и могу уезжать. Просто нужно покончить кой с какими формальностями. Наследство, то да се... Слушай, ты же специалист. Объясни мне, что такое угольные брикеты в руках плохого человека. Много угольных брикетов.
– Марг.*
– Понятно. А детали?
Он уже спал, когда в комнату вошла Оливия. Она была в черном платье, туфлях на высоких каблуках и со шприцем в руках.
– А! Ты уже баиньки! – Она откинула край одеяла. – Но голенький значит, ждал сестру милосердную. Погоди-ка...
Положив шприц на тумбочку, она стала раздеваться, швыряя вещи куда попало.
От нее пахло вином и духами.
– Сейчас, миленький, сейчас... – Разнагишавшись, сделала укол и бросила шприц в корзину для мусора. – Когда я к тебе шла, за мной Дианка шпионила. А я ей – язык показала!
Она рассмеялась.
Байрон облегченно вздохнул: лекарство начинало действовать.
Оливия залезла под одеяло с другой стороны, погладила его теплой ладонью по животу. Поцеловала в плечо.
– Как хорошо от тебя лошадью пахнет!
– Можно мне выпить? – Байрон опустил ноги на пол, налил полстакана Нилиного зелья и с наслаждением выцедил. – Приятно, черт возьми, когда ветер за окном вот так шумит. Еще бы кошку под руку...
– Мур-р, – изобразила кошку Оливия. – Только под руку?
Дверь бесшумно распахнулась. В дверном проеме стояла босая Диана с включенным фонариком, свет которого ослепил Байрона.
– Как там Герцог? – Он прикрыл лицо рукой и отклонился, пытаясь разглядеть то, что Диана держала в другой руке.
– Сдох.
– Опять она!
Оливия привстала и тотчас повалилась набок, сраженная пулей.
Диана ойкнула и присела.
– Байрон, я не хотела... я к тебе... а она...
– Закрой дверь! – приказал он.
Прыгая на одной ноге, он обогнул кровать, склонился над женщиной.
– В висок. Наповал.
– Я просто хотела напугать, честное слово... Что же делать-то, Господи?
Держась за спинку кровати, он подковылял к ней, взял пистолет.
– Иди к себе, оденься и жди меня. Я мигом.
Она встала. Только сейчас Байрон разглядел, что на ней были черные трусики и лифчик, а на руках – черные перчатки.
– Оденься и жди. Тебя никто не видел?
– Нет.
– Да иди же! На рукоятке мои отпечатки останутся.
– Но я...
– Марш отсюда!
Спустя несколько минут он без стука вошел в комнату Дианы. Она уже была в джинсах и свитере, завязывала шнурки на ботинках. Черные перчатки. Он порыскал взглядом по комнате. Нету.
– Пошли.
Быстро шагая, они спустились черной лестницей во двор. Байрон открыл ворота.
– Отвезешь меня к мосту и сразу же – сразу же! – вернешься домой. Если спросят, где была... Да заводи ж ты машину! Скажешь: Байрон просил отвезти в ночной клуб...
– Здесь только казино Татино.
– Значит, в казино. Ну вперед! Береги чужую жизнь – спасешь свою.
– Это к чему?
– Просто подумалось.
Миновав мост, она развернула машину.
– И запомни: ты ничего не слышала. Спала, когда я к тебе пришел и попросил отвезти в казино. Был пьян и все такое. В мою комнату не заходила. Это не так уж трудно запомнить. Да и сыграть – тоже. Ты это сможешь. Прощай.
– Байрон!
– Я знаю: ты не хотела. Именно поэтому и надела перчатки. Ладно, все. Моя беда, а может, и вина в том, что я из поколения людей, не умеющих любить. Я лишний. Вот и все.
И он шагнул в темноту, на тропинку, ведущую к проселочной дороге вдоль реки.
Уже через несколько минут он поймал вдруг себя на том, что насвистывает какой-то бодренький мотивчик. "Утомленное солнце" в исполнении чечеточника. Впрочем, чечеточники не поют.
Он старался держаться края дороги. Карман оттягивала бутылка. Электрический фонарик он нес в руках. Придорожные кусты хлестали по брюкам и куртке, и вскоре он почувствовал, что правая брючина намокла и отяжелела.
Думалось о Диане. Вот уж что выросло, то и выросло в доме Тавлинских. С одной стороны, математическая девушка с хваткой не по возрасту, довольно циничная и равнодушная, может быть, и мстительная, как мать говорила. А с другой – милый карандашик, свой, тавлинский... Так неужели это циничное создание так влюбилось в него, что, увидев входившую в его комнату Оливию, схватилось за пистолет, передернуло затвор (в кино, что ли, видела?) и неглиже заявилась сводить счеты? Целилась-то в него. Скорее всего в него. И выстрелила. Случайно? Намеренно? Если случайно, Бог ей судья. А если намеренно и намеренно не в него, а в Оливию, – значит, дед назначил ей такое содержание, что можно наплевать на добрые отношения с Тавлинскими и все такое. Но стоила ли Оливия смерти? Ну подкалывали друг дружку, подшпиливали при случае... Или каждую шпильку девчонка воспринимала как личное оскорбление вселенских масштабов и копила, копила, чтобы при случае пальнуть в обидчицу? По опыту Байрон знал, что некоторые даже умышленные убийства являются на поверку случайными. То есть Диана хотела насладиться ужасом, грохотом выстрела, видом поверженного врага, Оливии или Байрона все равно, – а потом уйти к себе, потому что за этим в голливудских фильмах значится "The end". А она же из поколения, которому недостаточно даже лопуха на базаровской могиле, потому что Базаров и вести должен был себя иначе, и всем врагам-обидчикам фитиля вставить, и уж только после этого – так и быть, раз Тургенев этого захотел – умереть, да и то не случайно, от какой-то болезни, а, например, в бою, в схватке...
Байрон чертыхнулся, оступившись и чуть не упав в кусты.
"И ведь сыграет свою роль, которую я ей предписал, без сучка и задоринки: ничего не слыхала, ничего не знаю. А потом уедет в Москву и устроится всем на зависть, – думал он. – И никакой груз не обременит ее совесть. Потому что совесть – не всегда память. Разошлись они. И в этом мы с нею – брат и сестра".
За рекой в домах гасли огни.
Ветер вдоль реки дул ровно и сильно. Минут через десять-пятнадцать, уже подходя к домзаковскому мосту, он был почти трезв.
Быстро пробегавшие по небу облака то и дело скрывали луну, и пустынный двор Домзака то вдруг выступал из темноты во всем своем зловещем убожестве брошенные бочки и ящики, ломаная мебель и какое-то тряпье, – то словно погасал, лишь башня церкви да ломаная линия крепостной стены четко рисовались на фоне темного неба.
Пахло бензином, перебивавшим дух затхлости и заброса, давно свойственный этому месту. Звонарев не обманул: расставил бочки под галереями. Но это пустая затея: сколько ж потребуется времени и сил, чтобы при помощи жестяного ведерка облить бензином этакую махину. Вся надежда была на веревочку, заклеенную кусочком жевательной резинки. И Байрон молил бога, чтобы инициирующий заряд, спрятанный в груде угольных брикетов, был повесомее. Хотя бы грамм двести. А еще лучше – четыреста.
Перепилил горло ножовкой.
Байрон с усилием освободил дверные створки от проволоки. Из темной глубины храма пахнуло теплом. Присев на корточки, включил фонарик. Какой-то сор, занесенный сюда ветром сквозь щели. Щепки, конфетные обертки, скомканный крафт-мешок. Он медленно провел световым лучом по внутренней стороне арки, потом – по другой. Ничего. Это была бы самая развеселая шутка, которую мог бы устроить в своей недолгой жизни Виктор Звонарев... Вот. Полуметровой длины шнур у самых ног. Кончик залеплен резинкой, которая слабо пахла земляникой.
Байрон с облегчением выдохнул. Опустился на корточки, открутил пробку и глотнул виски. Закурил.
Что ж, он оказался хреновым следователем. Он ошибся. Теперь он был твердо уверен в том, что Виктор Звонарев не убивал Андрея Григорьевича Тавлинского. Но его уже больше и не интересовало имя настоящего убийцы. Нас всех подстерегает случай. Бедная Оливия. Бедная дурочка Диана в своих черных перчаточках. Бедная Нила. Мать. Дядя Ваня. Вся его семья. Ему жаль их. И даже того бедолагу священника – отца Михаила, отправившегося искать правды на Руси, – и его ему было жаль. Артем и Аршавир – они все-таки сами по себе. Прощайте, братья. Он должен выполнить задачу – и только. Недаром же столько лет он носил погоны, которые, как выразился однажды его тесть-генерал, снимают только с живой шкурой.
Никогда кончается.
Он снова выпил, закрутил пробку и спрятал бутылку в карман. Прикурил сигарету от окурка. Аккуратно отодрал кусочек резинки от срезанного по всем правилам – наискосок – бикфордова шнура. Затянулся, прижег кончиком сигареты начинку шнура. Шнур вспыхнул с шипением.
Теперь оставалось ждать.
Он вышел на середину двора, напряженно ожидая взрыва, но взрыва все не было. Не пожалел, значит, Виктор шнура.
И в это мгновение земля под ногами дрогнула.
Он обернулся.
Каменные стены собора распирало, как бутон, готовый распасться и явить взгляду цветок, и цветок явился – стены с грохотом развалились, воздух вспыхнул, столб пламени ударил в небо.
Байрона швырнуло на землю и накрыло листом фанеры.
Огненный смерч бешено метался по Домзаку, все горело и рушилось.
Задержать дыхание, насколько возможно. По максимуму. Иначе сгорят легкие.
Перед глазами поплыли круги, и он потерял сознание.
Он очнулся от боли. Вся левая сторона тела, голова, ноги были обожжены. Дышать было трудно. Воздух был мутен, пахло гарью.
С трудом отбросив обгоревший кусок фанеры, он попробовал перевернуться на правый бок – и снова потерял сознание.
– Байрон, сынок, ты живой, нет? – послышался голос дяди Вани. – Ну и чудес ты тут начудесил! Сколько ж это пороха надо, чтоб такую махину развалить. Дышать можешь? Давай хоть куртку снимем... больно? Ну, не буду, не буду! Приварилась, видать, куртка к живому мясу. Да и штаны тоже. Тебе в больницу надо. Сейчас, сейчас... Ты потерпи, я тебя на фанерку положу – и волоком, волоком, а там у меня лодочка. Я ж рыбачил тут неподалеку, и вдруг – такой букет! Небо в алмазах! Сесть хочешь? Погоди-ка.
Он куда-то отлучился, и, пока его не было, Байрон с трудом извлек из кармана бутылку. Дядя Ваня вернулся со светлым суконным одеялом, набросил его на плечи племянника.
– Выпить хочешь? Это святое, святое, я сейчас... – Поднес к губам Байрона бутылку, тот глотнул, переждал, еще глотнул. – Это по-мужски, молодец. Заодно и я приложусь, не возражаешь? Хорошая самогонка! Забирает!
– Дядя Ваня, – наконец выдавил из себя Байрон, – все не то и не так. Хотел точку поставить, а вышло – юродство какое-то. Глупость и мальчишество. Все равно ведь остался и Домзак, и память о нем. Да еще посмеются... Понимаешь?
– Понимаю. Подвиг – он всего человека требует, так на это только юродивые и способны. Вроде нас, которым на смех и осмеяние – наплевать. Хихикнул. – Мы юроди Христа ради...
– Беса ради...
– Кто их сейчас разберет, где бес, а где Христос? Отец Михаил вон так и не разобрал. Потому и ушел по Руси бродить. А кончит психушкой, помяни мое слово: правду свою он только в психбольнице и отыщет. Но ты, сынок, ошибаешься: все то и все так. А ошибок кто не делает? Одни дураки да еще некоторые... Ты только глянь на нашего Кирцера – смех! Витьку Звонарева в убийстве папаши обвинили! А зачем Витьке мой папаша? Он ведь – мой папаша. Кровь от крови и плоть от плоти. Я же когда рассказывал, как согласился взять на себя Гришину вину, ни капельки не лгал: так все и было. И суд, и тюрьма... А в тюрьме я устроил сам для себя кружок драматического искусства. Каждый день как бы выпивал лишнюю рюмку, в голове мутилось, а тут еще таблетки, которыми меня пичкали, помогали, вот оно в голове и мутилось взаправду, и брал я ту девушку за руку, тащил со смехом наверх, даже не подозревая, что там произойдет. Это самое трудное в искусстве актера, я понял: знать все наперед, а изображать так, словно ты последний недотепа в зале, ничего не знаешь. Долго у меня это не получалось, пока я не научился смотреть на себя со стороны. И вот с помутненной головой тащил я эту девушку наверх, хватал на руки – тут главное – ни на миг не останавливаться, чтоб с настроения не сбиться, – и бросал на постель, а она, бесстыжая, хохочет, шелковой ножкой машет и пальчиком так, пальчиком, а в голове у меня тьма, но тьма такая странная, что вот вроде бы и темно, а я все вижу: как я стягиваю с нее чулочки, хватаю руками за шею и наваливаюсь на нее, наваливаюсь, как в адскую бездну лечу... Годами репетировал я эту сцену, сынок, пока не отшлифовал ее во всех подробностях, пока не стал – Гришей. Ну как бы Гришей. Ты не пугайся: никакого раздвоения личности у меня не было и в помине. Просто стоило мне вспомнить ту кокетливую шелковую ножку с пальчиком – и я входил в раж! Давай еще выпьем, а?
Глотнул, помог Байрону осилить глоток. Байрон замотал головой, передернулся, словно по коже наждачкой деранули. Он по-прежнему плохо различал предметы вокруг, и лицо дяди Вани то растекалось жидким блином, то скукоживалось в кулачок.