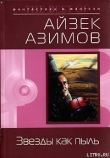Текст книги "Домзак"
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Когда он увидел на горизонте первую невысокую башню, над которой слабо курился дымок, его окликнули. Он бросился ничком на землю, по-пластунски пробрался в ближайшую ложбинку и замер, увидев перед собой старика – с ног до головы в лохмотьях, с седой бородой, с выжженной до кирпичного цвета лысиной.
– Ты кто? – хрипло спросил Байрон. – Как тебя зовут?
– У меня нет имени, – спокойно ответил старик. – И тебе необязательно называть свое... если оно у тебя было...
– Что это за башня там?
– Когда стемнеет, мы двинемся в ту сторону, тогда и узнаешь.
Старик сомкнул веки и заснул.
Байрон лежал неподалеку, стараясь выдерживать дистанцию, и не спускал глаз с незнакомца. И чем внимательнее он вглядывался в его лицо, тем больше оно ему что-то напоминало. Кого-то. Быть может, кого-то из сновидений.
Когда свечерело, старик протер глаза и сел. Перекрестился.
– Пошли, – сказал он. – Хотя, конечно, можешь и остаться.
Байрон медленно двинулся за незнакомцем, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы успеть вовремя отбить нападение. Но старик шел не оборачиваясь, что-то бормоча себе под нос и не обращая внимания на спутника.
Темнело быстро.
Они поднялись на гребень невысокого холма и увидели высоченную черную башню. Поодаль на большом расстоянии одна от другой уходили за горизонт такие же башни.
Какой-то звук внезапно насторожил его, он обернулся и увидел в темноте множество людей. Откуда они вдруг взялись, эти безмолвные люди-тени? Но спрашивать старика он не стал. Все объяснится, когда они приблизятся к башне. От нее веяло теплом и еще чем-то таким, от чего на душе становилось легко и радостно.
– Почуял? – По голосу старика Байрон понял, что тот улыбается.
– Что это?
– Домзак.
– Такой огромный?!
– В том-то и фокус, брат! – Старик наконец изобразил на лице подобие улыбки. – Кажется, ширь неохватная, а на самом деле он меньше острицы...
– Острицы?
– Глист такой махонький.
– Глист? При чем тут...
Но старик лишь молча махнул рукой, призывая поторопиться. Они ускорили шаг, но люди-тени стремительно обгоняли их, не издавая ни звука. Не было слышно даже шарканья их ног. Огромная толпа спускалась в ложбину, вытягиваясь в некое подобие очереди, упиравшейся в подножие башни. И, как ни спешили Байрон со стариком, они оказались в хвосте этой очереди.
– Подождем, – сказал старик.
– Чего? – не понял Байрон, которого тянуло к источавшей тепло башне.
– Чего и остальные ждут, – ответил старик.
Байрон не ощущал течения времени. Он просто следовал за стариком, который время от времени делал шажок-другой вперед. Когда до башни оставалось шагов десять-пятнадцать, старик пропустил Байрона вперед, и Байрон воспринял это как должное и не стал задавать вопросов.
Уже замерев в дверном проеме и не испытывая иного желания, как поскорее оказаться внутри, Байрон вдруг обернулся к старику. Тот молился, сунув нательный крестик в рот.
– Вот оно что, – устало проговорил Байрон. – Значит, я предпоследний. А если ты последний, значит, ты Бог?
– Если вы так считаете, то мне не остается ничего другого, как последовать за тобой.
– За что же я сподобился этого тепла? Этой благодати? Я воевал на двух неправедных войнах, обманывал женщин, убивал людей – неужели это все не в счет?
– В счет, значит, хотя это и не нам решать. Сподобился и сподобился. Но, если хочешь, мы можем поменяться местами. Это ничего не изменит. Ничего, кроме номера.
– Номера? И какой же у меня будет номер?
– Двести девяносто пятый, – твердо проговорил старик. – Лишний ты.
– Как это лишний? – обиделся Байрон. – Мне хорошо тут, хоть я и не знаю, чем заслужил...
– Еще заслужишь. – Оливия, пахнущая парным после душа телом, склонилась над ним со шприцем. – Вставай, милый. Пора. Сними-ка трусы... так, это не больно...
– Что ты колешь? – встрепенулся Байрон.
– От этого не умирают даже лошади.
Спускаясь в душевую, он вполуха прислушивался к перебранке Майи Михайловны с Нилой ("Но ведь ты же не сделаешь отбивные под грибным соусом!" "Котлетками обошлись бы, Господи, все ж обходятся!" "И ведром винегрета!"), пытаясь угадать, что же ему ввела Оливия. Только бы не морфин.
Он с удовольствием принял ванну, побрился и надел причитающиеся случаю черные брюки и темную рубашку. Бросив через руку дюжину галстуков, подошел к окну. Во дворе Александр Зиновьевич, присев на корточки, прилаживал к радиатору лимузина траурный венок. Рубашка его потемнела от пота. Байрон глянул на термометр, пристроенный в тени оконной рамы, и решил, что к такому случаю лучше всего подойдет галстук-бабочка. Черное к черному.
Торопливо постучав, вошла мать.
– Сейчас прибудут помощники. Столы расставить, стулья, зеркала завесить каким-нибудь тряпьем и тэ пэ. Автобус придет в полдень. В двенадцать ровно, – уточнила она. – Перчатки не шокируют?
На ней были черные перчатки по локоть, шляпа с широкими краями и вуалью. И, конечно же, туфли на высоких тонких каблуках.
– Отлично, – одобрил Байрон ее наряд. – Я тут собрался заняться чистописанием... Ну, хочу на всякий про всякий завещание написать.
– Байрон! – Она растерялась. – Ты это серьезно?
– Разумеется. И потом, у меня какие-то дурные предчувствия... Извини, зря я тебе про предчувствия...
– В такой день у всех дурные предчувствия. Но завещание... Байрон!
– Ма, не трать время! – Он с улыбкой поцеловал ей руку. – У вас же с Оливией куча дел. А тут какая-то бумажка... Ну! Чтобы тебя успокоить, обещаю сочинить завещание в стихах. Тебе что больше по нраву? Онегинская строфа или Дантевы терцины?
– Ты какой-то возбужденный, Байрон... Ну ладно, делай что хочешь. Да не забудь позавтракать поплотнее!
Дверь за нею захлопнулась.
Байрон поискал в комоде, в ящиках маленького письменного стола, но ни бумаги, ни даже карандаша не обнаружил. И потом, кто же это завещание карандашом пишет!
После завтрака – Нила угощала тайком нажаренными котлетами – и солидной рюмки домашней душистой он со стаканом мятного чая поднялся к Диане.
Она встретила его в ночной сорочке до пят и черной шляпке с узкими полями.
– Если я в таком виде явлюсь на кладбище, его полезная площадь увеличится, как ты думаешь? Ты мне чай принес! Ах ты мой лапочка!
Но что-то в ее тоне насторожило Байрона. Поставив чашку на компьютерный столик, он внимательно посмотрел на Диану.
– Матушка с тобой поговорила?
– Поговорила. – Поддернув сорочку, она отшвырнула домашние туфли подальше. – Сказала, что если я еще хоть раз залезу в твою постель, она собственными руками...
– В черных перчатках по локти! – Байрон послал ей воздушный поцелуй. У тебя, кстати, есть черные перчатки?
– Есть. – Она села на табурет, выставив голые колени. – Ты потрахаться или по делу? У меня, к твоему сведению, сегодня менструация. Ниагара!
– Никак не могу найти ни бумаги, ни ручки. Документ нужно составить.
– Потрогай мой нос! Да у тебя руки дрожат! – Она вскочила. – Звучит, может, глупее глупого, но я вовсе не желаю ссориться ни с Майей Михайловной, ни с кем бы то ни было еще из семейства Тавлинских!
Байрон подхватил ее на руки, шагнул за перегородку и швырнул девушку на неубранную постель. Сорочка задралась, обнажив красные кружевные трусики. "Как у шлюхи", – с веселой злостью подумал он.
Оставив ее всю в слезах на постели, он сам нашел бумагу и ручку и чуть ли не бегом вернулся в свою комнату.
Дрожащими руками налил полный стакан виски, выпил и, решительно придвинув стул к детскому столику, вывел на чистом листе "Завещание".
Внизу Нила лениво переругивалась с помощниками, которые по субботам занимались уборкой дома. Их голоса мешали ему. Впору было заткнуть уши ватой, как покойному деду заткнули нос.
"Я, Тавлинский Байрон Григорьевич, находясь в здравом уме и ясной памяти, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, активы в зарегистрированных на мое имя акциях, а также распоряжение моими банковскими счетами и депозитами..."
Он вдруг замер при мысли о том, что ни на йоту не солгал матери: его и впрямь мучили дурные предчувствия.
Александру Зиновьевичу на лимузине пришлось выехать со двора, чтобы дать дорогу автобусу, выкрашенному темно-синей краской с красной полосой по борту.
Все собрались в нижнем зале.
Нила плакала навзрыд в углу на стуле.
Четверо мужчин в одинаковых черных костюмах с натугой подняли гроб с телом деда, в руках которого поблескивала иконка – та самая, на которой мальчик с кривыми пальчиками, и втолкнули его в заднюю дверь автобуса.
– Крышку не забудьте! – сухо приказала Майя Михайловна. – Не бойся, Нила, тебя отвезут. А вы тут останетесь за хозяев. – Она о чем-то перешепнулась с "субботними" (как их называли в доме) и сказала Байрону: – Я не жду, что ты приедешь в церковь, но на кладбище... Где наша нимфетка? Возьмешь ее с собой. И чтоб была одета, как я велела. Ты галстук выбрал? Кажется, там были черные... или темно-синие...
Байрон проводил мать и Оливию до машины.
Первым тронулся лимузин с венком на радиаторе, за ним – автобус с гробом и BMW.
Вернувшись в зал, Байрон увидел на верхней лестничной площадке "нимфетку": на ней была шляпка с вуалеткой, черное платье до каблуков и короткие черные перчатки.
– Отдохни, – сказал он. – У нас в запасе еще часа полтора.
– Ну и сука же ты, Байрон Тавлинский! – ледяным голосом ответствовала "нимфетка", глядя на него сверху.
Байрон не решился подняться по лестнице. "Посижу-ка я лучше в кухне, решил он. – Понюним с Нилой на пару, по рюмашке махнем. – А какой-то развеселый бес шепнул ему на ушко: – А зря ты ее не того-с! Она же сама хотела. Сплоховал, солдатик! А таких промашек юницы не прощают".
Они подъехали к окруженной пыльными липами старой церкви в самый раз. Из ворот выносили гроб, священник, мерно размахивая кадилом, что-то говорил напевным голосом толпе прихожан, за ним, тесно прижавшись друг к дружке, вышли Майя Михайловна с Оливией. Байрон поискал глазами дядю Ваню, но не нашел.
– Байрон! – Его поманил пальцем Кирцер, одетый по такому случаю в парадный мундир, рукав которого был украшен черной лентой. – Обезьяна нашли. В лесу за ликеро-водочным. Одним выстрелом в висок. Ты только пока никому, мы даже родителям не говорили... Сейчас пытаемся автокраном вытащить его джип из ямины.
– Никаких следов?
– Мы ж не ищейки. – Кирцер снял фуражку, промокнул платком лоб. – Таты узнают – озвереют.
– А если уже знают?
– Нет. В церкви вели себя как люди, крестились. Сейчас на кладбище поедут.
– А если на кладбище что-нибудь случится?
Кирцер рассердился.
– Если, если! У меня здесь чуть больше десятка сотрудников, вот тебе и ответ на все твои "если". – Он вдруг схватил Байрона за лацкан. – Или тебе что-то известно? Не играй со мной в эти игры, сынок. Не хватало еще, чтобы на кладбище... – Он перекрестил потный лоб. – Если знаешь, скажи сейчас. Ну!
– Ничего не знаю. Трясет что-то с утра, – вот и все.
Подполковник надел фуражку, махнул кому-то рукой. Люди двинулись к автобусам, вытянувшимся вереницей по улице Жиржинского.
– Садись с матерью... ну с гробом, – сказала Диана. – А я в хвосте пристроюсь – за автобусами.
Александр Зиновьевич выжал клаксон – лимузин взревел, за ним загудели и остальные автомобили.
Процессия медленно тронулась. До кладбища путь был неблизкий.
По сторонам кладбищенских ворот стояли длинные черные автомобили и микроавтобус, из которого выгружали огромные венки.
– От Татищевых, – сквозь зубы процедила Майя Михайловна. – Зря радуются: после старика Оливия им змеем-горынычем покажется. Это она только с виду – кисонька...
Байрон тупо кивнул, не отрывая взгляда от белой повязки на шее деда.
Всю дорогу он сидел с закрытыми глазами. Ему казалось, что все тело его с огромной скоростью буровят во всех направлениях мелкие белые червячки с острыми головками, вызывая нутряную щекотку, и больше всего он боялся, что в самый неподходящий момент эти червячки полезут из носа, ушей, изо рта...
Сторож в выгоревшем пиджаке с медалью на лацкане ругался со старухой, которая норовила проскочить перед процессией, таща за собою толстую серую овцу. Наконец он страшно закричал на нее, и старуха, нырнув перед капотом автобуса, вприскочку умчалась вдаль по улице – туда, где кончалось кладбище и начинались выпасы.
Байрон небрежно вытер платком лицо и на всякий случай взглянул: червячков не было.
– Только-только дожди кончились, а пыль – на тебе, – прошептал ему на ухо дядя Ваня, сидевший за спиной Байрона.
Автобус с гробом, покачиваясь на неровностях, ползком двинулся в дальний конец аллеи.
Остальные автомобили сгрудились у арки. Люди с цветами и венками выстроились за Александром Зиновьевичем и служащими фирмы Тавлинских, которые несли на бархатных подушечках дедовы ордена и медали.
Байрон отвернулся.
Автобус остановился. Открылась задняя дверь, и мужчины в черных пиджаках с натугой вытащили гроб из автобуса.
– Крышку не забудьте! – крикнула Майя Михайловна.
– Ты это уже говорила, – напомнил Байрон, помогая матери спрыгнуть на землю. – Как ты на своих шпильках по рыхлой земле пойдешь... Держи меня под руку...
За деревьями, влажно вздохнув, важно заиграл оркестр.
– Мне на такой гроб за три жизни не заработать, – с сожалением проговорил шофер, снимая фуражку и крестясь. – Эх, жизнь!
Сзади подходили и подходили люди – и те, что приехали на автобусах, и жители ближних домов. Байрон обратил внимание на моложавую тетку, которая проталкивалась через толпу со стулом в руках.
Заранее для прохода процессии прорубили что-то вроде просеки в безобразно разросшихся кустах бересклета и ольшаника.
Когда гроб опустили на землю рядом с дышавшей сыростью ямой, оркестр умолк. Люди расступались, давая дорогу мэру со свитой и священнику с причтом.
Над толпой высилась та самая моложавая женщина, которая принесла с собою стул: вот зачем он ей понадобился – чтоб все хорошенько разглядеть.
– На тебе лица нет, – прошептала Оливия.
– Я пока в сторонке постою, – шепотом же ответил ей Байрон. – Когда будет пора, ты мне дай знать... я тут рядом буду...
– Только не кури – не положено, – напутствовала мать.
Байрон вышел к старому тополю с потрескавшейся корой, присел на корточки и закурил, спрятав сигарету в кулак. Рядом с ним присел сторож с медалью на лацкане. Он тоже курил, отмахиваясь веточкой от комаров.
– Место вроде сухое, – сказал Байрон, не спуская глаз с Оливии. Откуда бы здесь комарам взяться?
– После дождя они жуть какие злые, – поддержал беседу сторож. – А моя сегодня спозаранку в лес сбегала, целое лукошко подосиновиков принесла. Чистые, гладкие – ни червоточинки.
– ...инвестор от Бога, как говорится, Андрей Григорьевич, скажу от себя лично и от лица губернатора, за эти годы буквально преобразил лицо города... – донесся до них голос мэра. – Многие сомневались, что это возможно, но Андрей Григорьевич, как ледокол, раздвигающий льдины...
– Что за чушь он несет! – пробормотал Байрон.
– Как положено, – сказал сторож. – А говори – не говори, конец, видишь, один...
– Это правда, что с годами могилы перемешиваются? – спросил Байрон. Ну земля движется, а с нею и кости...
– Я б услыхал, – сказал сторож. – У меня ухо острое.
Оливия обернулась, махнула рукой.
Отшвырнув окурок, Байрон быстро подошел к матери и взял ее под руку.
– У меня словно уши ватой заложило, – сказал он.
– Это от волнения.
Священник взмахнул рукавами, хор запел, ему подтягивали старики, с удовольствием выпевавшие непонятные им церковнославянские слова.
Байрон с любопытством разглядывал братьев Татищевых, стоявших по другую сторону ямы. Оба рослые, широкоплечие, носы уточкой, а скулы широкие и высокие – как у татар. В могучих руках они держали темные розы.
– А где их телохранители? – спросил Байрон.
– Это тебе не Москва, – прошептала мать, – здесь шайками не ходят.
Снова надрывно всхлипнул оркестр.
Гроб, уже накрытый крышкой, опустили в яму.
Мать легко толкнула сына в бок. Они обогнули яму, бросили на гроб цветы и вернулись на прежнее место. Мать тяжело дышала. Братья Татищевы, как по команде, шагнули вперед, первый нагнулся, раздался громкий хлопок, и огромный мужчина рухнул на крышку гроба. Второй хлопок – и его брат с черным пятном на лбу повалился на груду песка.
Оркестр сбился.
Байрон крепко схватил за руки мать и Оливию.
– Ни с места, – прошипел он. – Больше ничего не будет!
– Позорище-то какое! – заплакала Майя Михайловна.
Байрон оглянулся. Никого. Посмотрел поверх крестов и увидел стоявшего на каменной тумбе Звонарева с поднятыми руками. К нему пробирались милиционеры. Он терпеливо ждал.
– Достаньте же его из ямы! – зарычал Байрон.
Убитого ухватили за ноги и кое-как, тихо матерясь, принялись тянуть наверх. Уронили. Кто-то спрыгнул на крышку гроба и, обхватив мертвого Тату вокруг живота, рывком поднял его над срезом ямы. Труп подхватили. Второго Тату уже унесли в толпу.
Люди кричали, женщины плакали, а молодка, взгромоздившаяся на стул, истерически хохотала, закрыв лицо руками.
Звонарев отдал пистолет первому же милиционеру. Его сбили с тумбы, стали вязать.
– Ты знал? Знал! – расслышал Байрон голос Кирцера. – Ну, сынок, и подложил же ты мне свинью! Позорище какое! На кладбище!
– Засыпайте! – скомандовал Байрон, берясь за лопату. – Да очнитесь вы, черт бы вас побрал!
Священник с причтом быстро ушел, за ним, пригибаясь за кустами, побежали и другие.
– Чего-то такого я и ожидала, – тихо проговорила мать. – Бог все видит.
– Оливия! Уезжайте домой!
– Нам еще в ресторан на поминки, – спокойно напомнила Оливия. – Не беспокойся, милый, я ей укольчик сейчас сделаю – и все пройдет. Нельзя же все бросать на полдороге. Мы не имеем такого права.
– А придут на поминки-то? – весело оскалился Байрон, продолжая кидать землю лопатой.
– Прибегут.
– И котлеты жрать будут?
– И котлеты. – Оливия погрозила ему пальцем. – Только умоляю тебя: не ввязывайся ни во что. Обещаешь?
– Нет.
На площади перед кладбищем осталась одна машина. За рулем сидела Диана. Она курила коричневую сигарету, слушая музыку, доносившуюся из радиоприемника.
– Ты весь в песке и глине, – сказала она. – Словно сам из могилы вылез. Сядешь за руль, или я поведу?
– Ты. – Он отряхнул брюки, пиджак. – Ну и концерт! Я же говорил: фигляр. Шут гороховый – тем и опасен.
– Кому говорил?
Он сел рядом, выключил музыку.
– У нас еще много чего впереди! – весело сказал он. – Гони в милицию, ненаглядная моя!
Она хмыкнула.
– Иногда я начинаю понимать, за что тебя бабы любят.
Толкнув кулачищем обитую новеньким дерматином дверь, Байрон вошел в кабинет начальника милиции, сел на стул у дальней стены и, уже не в силах сдерживаться, расхохотался. Вспомнилась истерически хохочущая молодка на стуле, возвышавшаяся над толпой.
Кирцер и прокурор, сидевшие за приставным столом, переглянулись. Подполковник был уже без мундира, в блекло-голубой рубашке с погонами, темной от пота на животе.
– Почему-то мы вас ждали, господин Тавлинский, – меланхолично проговорил прокурор.
– Погоди, Пряженцев. – Кирцер подошел к Байрону, вытиравшему платком слезы, и участливо поинтересовался: – Как там Майя Михайловна?
– Нормально. Мне нужно свидание с задержанным Звонаревым.
– Вы родственник? – ехидно вопросил прокурор.
– Брат.
– Во Христе, конечно, – продолжал ехидничать Пряженцев. – Может, сперва нам расскажете про все, что знаете?
Поджав губы и неодобрительно покачивая головой, Кирцер откупорил бутылку минералки, налил Байрону и – прокурор с отвращением мотнул головой себе.
– Ну по обычаю – не чокаясь.
Они выпили водки.
– Весь город знает, что у тебя в бутылках из-под минералки водка, сказал прокурор.
Байрон закурил.
– Вот что, братцы, дайте мне немножко времени побеседовать с этим типом, а потом можете протоколировать мои показания. Если захотите, конечно.
– Показания? – искренне удивился Кирцер, посасывая лимонную дольку. Ты свидетель. Или ты заранее знал о готовящемся преступлении, но не донес органам правопорядка?
– Не знал.
– Тогда на кой тебе хрен свидание с задержанным? – ласково спросил Кирцер. – Выпей-ка еще водочки да топай домой, Байрон. Там Майя Михайловна, там вообще, я думаю, переполох... Хотя, насколько я знаю этих баб, переполоха они не допустят.
– Никакого переполоха, – подтвердил Байрон. – Я не шутить сюда приехал, братцы. Мне нужно с ним поговорить. Очень нужно. Я даже думаю, что после разговора со мной он может сделать официальное заявление под подпись.
Пряженцев мелкими глотками выпил из своего стакана, взял с блюдца дольку лимона, бросил в рот.
– Прошу слова, – сказал он. – Братцы! – язвительно добавил он. – То, что я сейчас скажу, так сказать, не для протокола. Так – предположения. Предположение первое: господин Тавлинский уверен, что убийцей его деда является задержанный Звонарев. И ему вовсе не нужно было перелезать забор, прятаться под кустом. Зачем? Он был внутри дома. Это предположение второе. Третье же предположение касается того места, где в действительности отсиживался – точнее, отлеживался – господин Звонарев. Вы, Байрон, могли поначалу этого и не знать. Как и я. Но вы же опытный следователь. И вскоре, если не сразу, догадались, кто мог изнутри отключить сигнализацию, а после совершения преступления – включить ее. Именно тот, кто отлеживался в доме.
– Мы же вроде бы договорились о Татах, – вставил Кирцер.
Но прокурор не обратил на его слова никакого внимания.
– И вот сейчас вы примчались сюда, чтобы уговорить Звонарева не марать вашу мать. Ведь он у нее провел ночь. Она знала, что он выходил. Ну, сказал, что в туалет. Но уже наутро, когда Майя Михайловна узнала об убийстве, она сразу поняла, в какой такой туалет выходил Звонарев. И ни словом, ни намеком не обмолвилась об этом следствию. Тем самым она покрыла преступника, совершив преступление, как вам отлично известно, полежащее уголовному наказанию.
Байрон закурил другую сигарету.
– Все возвращается на круги своя, – со вздохом проговорил он. – Вы работаете по одной версии, которая выглядит более или менее убедительной, хотя и неглубокой. Не обижайтесь. Вы уже допросили Звонарева?
– Конечно, – сказал Кирцер. – Он во всем сознался. То есть в убийстве братьев Татищевых. От смерти покойного Андрея Григорьевича открещивается, как черт от ладана.
– Тогда у меня вопрос. – Байрон встал, обдернул пиджак. – Какого черта подозреваемый в тот же день, когда совершилось убийство, демонстративно не является на работу и не отвечает на телефонные звонки? Утром он отвез Майю Михайловну на службу, оставил машину у конторы – и как сквозь землю. С оружием. Он парень не из робких...
– Да знаем: запросили его дело из военкомата, – сказал Кирцер. – Орден за Чечню, отличные характеристики...
– Он служил в армейском спецназе. Сначала на действительной, потом по контракту. Не случайный, значит, он был человек в спецназе. А там проходят и специальную психологическую подготовку. И вот такой человек убивает старика и сразу дает деру, прячется, сам себя выдавая головой... Он же понимал, что в Шатове ему долго прятаться не удастся, кто-нибудь увидит, сболтнет – и возьмут его тепленького. Сделав дело, он лег на дно. Осмотрелся, обдумал все, с кем-то – не знаю с кем – повстречался, разжился информацией...
– Только затем, чтобы прийти на кладбище и на глазах у сотен людей убить братьев Татищевых? – Прокурор пожал плечами. – Слава Богу, что братья эти не знали еще о смерти племянника...
– Обезьяна, – уточнил Байрон. – А кто убил Обезьяна, не оставив никаких следов? А главное – заманив этого осторожнейшего парня в гиблое место? И за что он убил его? А Татищевых-старших? И, если уж на то пошло, моего деда? Мотив? Патологический убийца? Маньяк? Человек, чья психика искалечена войной в Чечне, решил продолжить игру из спортивного интереса? И он вовсе не Робин Гуд, расправляющийся с самыми богатыми людьми Шатова. Цели-то выбраны одна к одной, и я ни за что не поверю, что между ними нет никакой связи. Вот об этом я и хотел с ним поговорить. – Он налил себе полстакана водки, махом выпил. – А мать мою опозорить – для этого, уж извините, большого ума не надо. Она и сама...
Кирцер положил руку ему на плечо.
– Ладно, сынок. Но ты-то хоть знаешь, в чем тут все дело? Или только догадываешься?
– Можно я отвечу вам после встречи с ним?
– Его мы обыскали, ничего не нашли. Сидит в отдельной камере.
– Официально прошу обыскать и меня. А то в случае чего все на меня свалите.
– В случае чего? – подскочил прокурор.
Байрон посмотрел на него в упор.
– Видал я таких парней, как Звонарев. Похоже, он дошел до точки. То есть задание выполнил и может возвращаться. А возвращаться некуда. Я не шучу: он все мосты за собой и впереди сжег.
– Впереди его ждет тюрьма, – угрюмо сказал прокурор. – Может, пожизненная.
– А вы не задумывались, почему этот лихой спецназовец не смылся с кладбища, хотя в той толпе и суматохе мог это сделать запросто? Их же этому учили. Но не смылся – сдался. Да еще, кажется, посмеивался. Это-то и странно.
В сопровождении милиционера с кобурой на толстой ляжке, насвистывавшего "чижика-пыжика", Байрон поднялся на второй этаж, в торце которого зеленела свежей краской металлическая дверь. За нею оказалась решетчатая.
– К тебе на свиданку, Звонарев! – крикнул милиционер, запирая за Байроном решетчатую дверь.
– А, палач пришел! – приветствовал Звонарев посетителя. – Я уж боялся, что мамаша припрется. Садись, герой.
Камеру ремонтировали, видать, недавно: едко пахло свежей краской, которой не покрыли только рукомойник, унитаз да оконную решетку.
Байрон закурил, придвинул пачку сигарет и зажигалку Виктору.
– Устроил ты сегодня цирк на кладбище!
– Ты об этом пришел поговорить? Так я и протокол уже подписал.
– Не все подписал! – сердито возразил Байрон. – И я к тебе без протокола пришел. Кончай паясничать, кури и слушай, а потом будешь вопросы задавать. Или не задавать. – Он глубоко затянулся, выпустил дым клубами под потолок. – В ту ночь ты ночевал у матери. Именно ты отключил сигнализацию, а когда убил деда, включил. После чего наскоро принял душ и вернулся наверх. Во всяком случае, если дойдет до настоящего дела, найдутся два свидетеля, которые подтвердят мои слова.
– И насчет убийства деда? Одно дело – видеть меня той ночью в доме, совсем другое – свидетельствовать об убийстве. Ты следователь – лучше меня эту разницу понимаешь.
Байрон по-прежнему смотрел в потолок, гадая, что это за черная точка прилипла к краске. Скорее всего муха.
– Но, если все знаешь, зачем пришел? Пиши докладную, пусть проверяют, доказывают...
– Ничего я писать не буду. Не затем пришел. – Он наконец опустил голову и посмотрел на Виктора в упор. – Если что захочешь добавить к своим показаниям, твое дело. Но у меня сложилось впечатление, что тебе наплевать и на следствие, и на суд, и на свою жизнь. Я встречал таких ребят в жизни и на допросах: если они чего решили, то задачу выполняют до конца. Ты свою задачу выполнил. А докладывать некому – ни командиров, ни Бога. И база сгорела, на которую надо бы возвращаться. Ты поставил на себе крест. Иначе ты не сдался бы просто так на кладбище, а исчез – ищи ветра в поле.
Виктор молча курил.
– Вообрази такую фантастику: тебя сейчас взяли бы да выпустили. И что? Пошел бы с матерью картошку копать? Или за баранку вернулся бы? Зеки о воле мечтают с первого дня, а ты не зек. Поэтому и о воле не мечтаешь. Для тебя все кончилось. – Байрон прикурил новую сигарету от окурка. – Сколько в Шатове бывших чеченцев? Ну которые в Чечне воевали?
– Не знаю... с десяток наберется – тех, кого я знаю...
– И все служат – кто у Таты, кто у Тавлинских. Ну Тавлинские не в счет. Тебя интересовали те, которые крутились вокруг Таты да Обезьяна. Ты не мог поверить в случайность гибели брата, а если это не случайность, значит, есть исполнители и заказчики. Шатов – город маленький, здесь все тесно живут. Как в бане. И все знают друг дружку наперечет – не по имени, так в лицо. А уж бывших вояк просто магнитом каким-то друг к дружке тянет. Вот и ты потянулся к этим парням. Вспомнить былое, пивка попить... Ты меня останавливай, если заврусь.
– Так это и ишаку понятно! – Виктор оживился. – Есть тут такие ребята. Мы у Махмуда собирались... это кличка у него такая – Махмуд: больно на чеченца похож. В плену у них побывал, бежал, снова повоевал, а потом мать его получила письмо из госпиталя: забирайте, мол, сына. Потому что он стал никому не нужный инвалид. Урод: голова да туловище, а руки оборваны, ноги по колена... Когда у него собирались, я Махмуду к правой руке... к обрубку... скотчем стакан приматывал – не с ложечки ж его водкой поить. А так он сам... хоть и со скотчем... Вы бы, говорит, ребята, мне бы бабу какую скотчем к одному месту прилепили, а то мочи нет. – Зло усмехнулся. – Ему еще двадцати пяти нету, парень видный, а какая девушка за него пойдет? Наипаршивейшая овца – и та не пойдет. Так знаешь, Байрон, как он наловчился дрочить? Чужими руками!
– Сестра или мать?
– Мать.
– Знаю я таких ребят... Но ведь от них-то ты – может, даже случайно – и узнал, что брата твоего послал на смерть Обезьян.
Виктор промолчал.
– Остальное для спецназовца – дело техники. Выяснил, куда Обезьян возит девок на случку, проследил, приставил пушку к виску. Но прежде спросил, кто этого дурака надоумил Мишу в реку столкнуть. Тот раскололся. Получился замкнутый круг: Тавлинский – братья Татищевы – Обезьян – старый Тата...
– Тата сам помер.
– Остальных ты прикончил. Все, больше мстить некому. Ну, можно, конечно, еще и Оливию на тот свет отправить вместе с Майей Михайловной... еще кого-нибудь из Татищевых... Домзак взорвать...
– Хватит с них. А Домзак взорвать – это саперную роту надо звать. У меня была мысль – поджечь его. Даже бочки с горючкой повсюду расставил. Но – плюнул. Дерево сгорит, а камень? Разве что церковь сгорит: у нее же только фундамент да первый ярус из камня, остальное – дерево. Да и пусть себе стоит, не в нем дело. Без людей он уже не Домзак, а так... хреновина с морковиной... Сколько таких хреновин по России? Все жечь? Так тогда от страны ничего не останется. – Помолчал. – В церкви запас угольных брикетов на всю зиму.
– И что?
– Сам догадайся. Дернешь за веревочку – бух. Конец веревочки я жвачкой залепил, чтоб не отсырела. Но выйдет разве что фокус-покус. А тебе светопреставление подавай, ведь так? Чтоб мир перевернулся и агнцы легли рядом с волками.
Байрон пожал плечами. Да и не до этого ему было.
– А знаешь, Виктор, у меня на душе полегчало. Правда.
– У каждого она своя. – Виктор откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. – Ты же знаешь, я в Домзаке родился и вырос и ничего, по сути, кроме Домзака и не видал. Стены, церковь, Ста... Однажды зимой в Домзак какой-то нищий-пренищий старик приполз. Залез в кочегарку, пожил там дня два-три и помер. И брат мой говорит: закончилось его Никогда. Я не понял. Какое, говорю, никогда? Он мне и объяснил... Выпивал он уже помаленьку, а тут просто жором нажрался, но прежде высказался начистоту. Ты, говорит, не верь старухам да попам: Бога нету, души бессмертной тоже нету, да и загробная жизнь – она только у червей на кладбище. А у людей есть Никогда. То есть вот ты смотришь на небо, купаешься в реке, дерешься с пацанами, бегаешь в школу, с девчонками там целуешься – все, все это жизнь, и это только твоя жизнь, которая не повторится никогда. Поэтому и вся жизнь только тут и называется она – Никогда. Запомнилось... Когда я из армии вернулся, стал меня к себе наш поп зазывать – отец Михаил, да ты знаешь, и все про благодать да спасение во Христе. Я его слушаю, а сам себе думаю: никогда. Ну уверую я в Христа или там в другого бога, но вера верой, а жизнь – одна, и спасения – нету. Есть только правильно организованная круговая оборона. Чтоб спасти свое Никогда. А придет время помирать, жалеть-то будешь – что? Речку, Домзак, даже школу, потому что не могу же я вспомнить того парня, которого сколько-то тысяч лет назад казнили в каком-то глухом поселке на краю света. В Иерусалиме, кажется. Я с ним не служил. Ребят вспомню... Махмуда этого со стаканом, примотанным скотчем к руке, чтобы водку сподручнее пить... Это и есть жизнь. А не философия какая-нибудь. Поэтому я и не прерывал тебя, Байрон: ты почти все верно рассказал. Но эти люди – каждый по-своему – участвовали в убийстве единственного дорогого мне человека. Единственного. И только для того, чтобы освободить Оливию для Таты! Да что ж это за люди! Это людоеды, Байрон, и, когда я это понял, я понял также, что против людоедов есть одно средство волкодав. Я поставил перед собой задачу и выполнил ее. Ты прав. Мир перевернулся? Да миру этому хоть бы хны! А вот мне – не хны. Я сделал то, что обязан был сделать, чтобы мое Никогда только моим и осталось. Так что пусть меня судят, сажают или расстреливают...