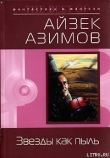Текст книги "Домзак"
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Центральная улица в Шатове носила два названия – все нечетные дома были украшены синими табличками с надписью "Советская", четные – красными табличками, на которых старинной вязью было выведено "Ямская". Так лет десять назад завершился спор между сторонниками и противниками новизны. Компромисс по-шатовски. Когда у отца Ивана, настоятеля самой старой церкви в Шатове, спросили, не раздражает ли его то обстоятельство, что храм стоит на улице, носящей имя палача Дзержинского, тот только улыбнулся: "А вы слышали, чтобы в городе кто-нибудь правильно выговаривал его имя?" Даже водители автобусов, считавшиеся в городке чуть ли не интеллигентами, объявляли остановку: "Улица Держинского". Старушки же прихожанки и вовсе выговаривали – "Жиржинского", и никому из них и дела не было до когдатошнего начальника ВЧК. "Из поляков? Ну и Бог с им, лишь бы не из жидов".
Нотариальная контора располагалась в здании рядом с типографией. Байрон прошел через пропахшую керосином и ваксой приемную, украшенную фотографией Бориса Ельцина в камуфляжной форме, и без стука ввалился к Николаю Павуку. Они были одноклассниками. Отец Николая – толстопузый Андрей Иванович, единственный в городе человек, куривший трубку, – был главным юрисконсультом компании Тавлинских. Сын его курил сигариллы – и явно без удовольствия. Байрон, изобразив занятость, попросил выдать ему конверт на имя Звонаревой Надежды. Павук молча выдвинул ящик стола и бросил конверт на стол.
– Я могу оставить тебе свое завещание? – вдруг спросил Байрон. Говорят, это сейчас проще простого.
– Можешь хоть говна кусок в пакете принести, – процедил сквозь кривые зубы Павук-младший. – Я обязан принять на хранение. Ну заплатишь, как полагается...
Поблагодарив нотариуса, в кабинете которого – за спиной хозяина – висел дурно написанный портрет президента Путина с часами на правой руке, Байрон стремительно выскочил на улицу и бросился в машину. Вскрыл конверт, быстро пролистал бумаги. Дом на улице Садовой, 12. Все чин чинарем. Теперь можно было и в милицию.
Здание милиции углом выходило на центральную площадь с памятником Ленина и называлось в городке Ясеневым домом: перед ним росли пять старых ясеней, которые в первых числах сентября в одну ночь все разом вспыхивали золотыми кострами.
Байрон зашел к майору, заместителю начальника милиции, и рассказал ему ту же историю, что и прокурору. Подписал протокол допроса. Когда немногословный майор прятал бумагу в папку, Байрон спросил:
– А шофера материного – Виктора Звонарева – допрашивали?
– Всех допрашивали, кого нужно, – уклонился от ответа майор. – Вас начальник ждет, Байрон Григорьевич. По коридору налево.
Кирцер был не один. На подоконнике сидел прокурор, куривший вонючую сигарету. На столе стояла откупоренная бутылка минеральной воды и чайные стаканы тонкого стекла.
– Оформился? – весело приветствовал Байрона Кирцер, сидевший за столом без кителя.
– Пойду я. – Прокурор спрыгнул с подоконника. – Жара сегодня будет, черт возьми.
– Может, минералочки? – предложил Кирцер, когда за прокурором захлопнулась дверь. – Ты его не бойся. – Он налил в стаканы минералку, чокнулись, выпили – это была водка. – Приходится маскироваться. Кури, кури, сам-то я бросил, но люблю дымом подышать.
– Евсей Евгеньевич, я ж за рулем! – неискренне запротестовал было Байрон, когда майор снова взялся за бутылку.
– Я ж тебе не за рулем, а в кабинете предлагаю выпить. – Выпил, пососал лимонную дольку. – В общем, что я тебе могу сказать... Отрабатываем две версии. Первая основывается на показаниях домочадцев и предполагает, что убийца в момент совершения преступления находился в доме. Эта версия мне не нравится, потому что ни у кого из вас не было мотива убивать старика, да еще – топором. – Выплюнул лимон в мусорную корзину. – Топором! Отпечатки пальцев мы послали в область – своей лаборатории как не было никогда, так и нет. Но если даже обнаружатся чужие отпечатки, которых нет в картотеке, можно про них забыть.
– Допросили, как я понимаю, всех, – сказал Байрон, закуривая. – И все заявили, что спали в это время как убитые и слыхом ничего не слыхали. Глубокая ночь, дождь...
Начальник грустно улыбнулся.
– Вижу, куда ты клонишь. Не веришь матери...
– Верю, – тотчас откликнулся Байрон. – Всем верю. И согласен с вами: ни у кого не было мотива для убийства. Ведь все заранее знали, кому что старик оставил в завещании. Мне дед сам об этом говорил... еще года три назад... А в сейфе оставил шкатулку с письмами... с прощальными письмами, в которых еще раз подтвердил неизменность завещания... Эти письма не имеют юридической силы, конечно, но он и с того света хотел попросить прощения... и так далее...
– Мы всех опросили, даже шоферов: все спали по домам.
– А Виктор Звонарев?
– У него какая-то девчонка на Садовой – с ней он и провел ночь.
– Садовая, двенадцать?
– Да. Ты откуда знаешь?
– Этот дом дед купил для Надежды Звонаревой. – Байрон хлопнул себя по карману. – Все бумаги на него у меня. Значит, дом стоит запертый?
– Может, запертый, а может, и нет. – Кирцер нахмурился. – Если старик заранее сказал Надежде про дом, мог и ключ от дома отдать...
– Ключ в конверте.
– Ты хочешь сказать, что Витька соврал? – рассердился Кирцер. – А вот я так не думаю. Ты знаешь старика: он в людях разбирался. Витька – свой, тавлинский. А главное – какого черта ему убивать старика?
– Понятия не имею.
– Я тоже. И поосторожнее со своими, Байрон, побережнее. Ты же воевал, знаешь: соседу по окопу надо доверять, иначе погибнешь. Тавлинские все в одном окопе. Ты меня понимаешь?
– Вы, Евсей Евгеньевич, как Нила, рассуждаете! – рассмеялся Байрон. Нельзя выносить сор из избы.
– А ты задумывался, почему некоторые истины называют избитыми? Потому что их тыщу лет и так и этак били-колотили, прежде чем они стали истинами. Он налил в стаканы. – Домашнюю версию наш прокурор любит. А знаешь – почему? До сих пор себе простить не может, что принял от старика Тавлинского подарок. Нет, не взятку! Куда! Тавлинский построил шикарный дом с большущими квартирами, половину квартир выставил на продажу, а оставшееся передал муниципалитету. Вот в эти квартиры и въехали разные начальники. Мэр лично выдавал ордера, в том числе и прокурору. Тот взял как миленький, потому что с женой и двумя малышами мыкался в двухкомнатной квартирке на набережной, туалет во дворе, вода из колонки, вообрази-ка, каково там зимой было жить. Вот и переселился. Но как-то мне сказал, что, мол, Тавлинский все начальство подкупил этими квартирами. Я ему посоветовал попридержать свое мнение при себе, потому что дойди оно до мэра – прокурору была бы устроена трудная жизнь. Это ведь запросто делается, сам понимаешь.
– Понимаю. А вы-то какой версии придерживаетесь?
– Татищевской. Уверен на девяносто девять процентов, что это их рук дело. По таким делам у них самый младший мастер...
– Обезьян?
– Он самый. Лихой парень, люблю таких. Умеет, черт, рубаху на груди рвануть и все такое прочее. Русский человек! Но – гад, и гад редкостный. Я своих ребят на него спустил, но пока не могут его найти. Ничего, подождем...
– Так он и признается...
– Посмотрим. – Кирцер высморкался. – Как жара, так у меня насморк. Аллергическое, что ли? – Подошел к окну. – Мы же здесь тесно живем, очень тесно. Как в бане: голыми жопами толкаемся. Все друг про дружку знаем. Так что я не думаю, что Обезьян сделал все так чисто, что комар носа не подточит. Найдутся какие-нибудь свидетели... они почти всегда находятся... Ты в город? Матери привет от меня и поклон. Жду не дождусь, когда же на пенсию выйду. Майя Михайловна обещала взять к себе – заместителем по вопросам безопасности. – Кирцер с улыбкой потянулся. – Надоело за обезьянами бегать! Знаю я их всех как облупленных, а они мне – врут, врут и врут. А я еще должен доказательства собирать, чтобы во вранье их уличить! Тьфу! Да разбуди среди ночи – я тебе сразу по любому делу всех подозреваемых назову. – Он протянул Байрону руку. – Бывай. Недаром мы тут тысячу лет живем. Это не Москва, где память и совесть друг к дружке в гости не ходят. Это Шатов, брат.
Спустившись с моста через Сту на грунтовую дорогу, проложенную параллельно реке, Байрон сбросил скорость: лужи в колеях еще не высохли.
Издали монастырь на острове напоминал крепость: мощные невысокие стены, подпертые контрфорсами, которые утопали в воде, горбатые шиферные и железные крыши, церковь без колокольни можно считать сторожевой башней-донжоном. Кое-где на стенах еще сохранились обрывки колючей проволоки, свисавшей с острых железных штыков, которыми когда-то густо щетинился Домзак, словно угрожая окружающему миру. И – никаких признаков жизни. Видно, и впрямь бросили люди проклятое место. Но одна семья должна остаться. Звонаревы.
Байрон не отважился въезжать в Домзак по узкому бревенчатому мосту, покрытому бурой плесенью и, казалось, едва державшемуся на своих деревянных опорах, которые острыми углами, обитыми железом, были развернуты против течения. Дед рассказывал, что весной, во время ледохода, охране приходилось взрывать ледяные заторы, образовывавшиеся перед мостом.
Оставив машину на взгорке, Байрон миновал мост и через проем в стене, когда-то закрывавшийся стальными воротами, вошел во двор Домзака. Под ногами похрустывал шлак, который десятилетиями трамбовали зеки.
Огляделся. На галереях, подпертых деревянными столбиками, валялось брошенное и забытое тряпье, какие-то полуразбитые ящики, обломки старой мебели. Под галереями были кучно свалены сосновые бревна – судя по светлым срезам, еще не успевшие пропитаться водой. Дверь церкви перевязана проволокой. В храме хранились запасы угольных брикетов для кочегарки, пристроенной сбоку (когда-то дед здорово сэкономил на угле, заключив выгодный договор на поставки угольных брикетов для тюрьмы, которые продолжались и после того, как Домзак тюрьмой быть перестал). Ее ржавая труба была скобами прихвачена к церковной стене и достигала срезанной верхушки храма. Слева от церкви громоздились черные железные бочки, источавшие запах керосина. Байрон обошел храм кругом. Постоял у скелета лесопилки, выстроенной когда-то на месте разрушенного при расстреле зеков сарая.
– Эй, там! – раздался мужской голос. – Выходи сюда!
Виктор Звонарев в линялой майке курил, пряча сигарету в кулак, на галерее. За его спиной колыхалась занавеска.
– Я Тавлинский, – сказал Байрон. – По делу к тебе.
– Мать, что ли, прислала?
– Нет.
– Тогда заходи – гостем будешь.
Кваритира Звонаревых состояла из четырех комнат – бывших камер, между которыми были пробиты дверные проемы. "И здесь жила Оливия, – подумал Байрон, входя в кухню. – Неужели и впрямь любила этого Михаила? После меня, после того самого удара молнии?" На столе, крытом клеенкой, стояла батарея водочных бутылок, окруженная тарелками с грибами, помидорами, вкривь и вкось нарезанной колабасой, ломтями липкого хлеба и дольками лимона. Запах в кухне, к удивлению Байрона, был непривычно – по сравнению с обычным шатовским кухонным запахом – пищевой, чистый. Разве что из соседней комнаты, дверь в которую была слегка приоткрыта, тянуло застарелой мочой и горелыми восковыми свечами.
– Мать отсыпается, – хмуро пояснил Виктор, садясь за кухонный стол. Будь гостем, Байрон Тавлинский. Почему тебя назвали нерусским именем? Извини, конечно.
– Мать любила Байрона. Джорджа Гордона. Это поэт такой английский был...
– Не держи меня, пожалуйста, за дурака, – сказал Виктор, наливая в граненые стаканы водку. – Лорд Байрон. Слыхал. Правда, не читал ничего – мне Пушкина хватило. – Усмехнулся. – За знакомство?
Они выпили. Закусили грибами и колбасой. "А колбаса хорошая, машинально отметил Байрон. – Не обижает матушка своих телохранителей".
– Ви-ить! – простонала из соседней комнаты женщина. – Кто там у нас?
– Извини. – Втоктор налил стакан доверху. – Надо даму опохмелить. Тогда она заснет и не будет мешать разговору.
Он скрылся за дверью.
"Может, и он, – равнодушно подумал Байрон. – Голая жопа. Мать постоянна в своих привычках, как говаривал дед. Но мотив?"
– Я ей сказал, что ты Тавлинский, – сообщил вернувшийся Виктор. – Она, кажется, даже обрадовалась.
– Обрадовалась?
– Она часто вспоминала старика. Иногда даже добром поминала. Говорила, может, один за всю жизнь и был у меня мужчина, которого любила. Это она про мистера-капиталистера, твоего деда. Сорок секунд уже прошло – пора еще по одной.
Они выпили.
Виктор обладал неброской внешностью: крепыш, с татуировкой на левом плече в виде скрещенных мечей, разве что сросшиеся на переносье брови хоть как-то выделяли его из толпы таких же, как он, окружавших – в Москве их Байрон встречал часто – новых русских, в народе этих выкормленных стероидами и анаболиками битюгов называли "быками".
Байрон молча выложил на стол конверт с купчей. Виктор неторопливо перелистал бумаги, кивнул.
– Я всегда знал, что он не обманет. Еще по одной?
– Мать беспокоится, что ты сегодня не вышел на работу.
– Дела. – Виктор налил в стаканы водки. – Будь.
Выпив, он закурил и уставился на Байрона.
– Майя Михайловна говорила, что ты в Афгане воевал. И даже Героя схлопотал.
– Было.
– А в Чечне что? Я ж там и действительную отбыл и по контракту отбабахал.
– А что в Чечне? – Байрон закурил, бросив пачку "Мальборо" на стол. – Я же следователь военной прокуратуры. Нас ни местные не любили, ни свои. То есть ненавидели.
– Было за что.
– Ну да, кому нужен чужой присмотр за такими, как ты. Где служил-то? Кого не спрашиваешь, все говорят: в спецназе, в ГРУ и тэ пэ.
– В спецназе. Без дураков. Можешь запросить в военкомате.
– Да я верю.
– А чему же не веришь?
– Меня обвиняют в убийстве деда.
– Ого, – без выражения сказал Виктор. – Додумались.
– Ты уволиться решил, что ли?
– Вроде того. Оружие сдам – пусть не беспокоятся. Да и на что мне их Макаров? Пукалка. Но ты ж не за этим приехал?
– Ты был у матери в ночь убийства? Без протокола, Вить...
– В протоколе записано, что не был. – Виктор усмехнулся. – А может, ты меня выслушаешь, полковник?
– Подполковник.
– Договорились. Так вот выслушай, брат. Не обижайся на "брата" – так все друг дружку зовут, кто через Чечню прошел... А я хочу тебе рассказать о своем родном брате Мише. Михаиле. Знаешь, кем он для меня был? Богом. Я хоть и верующий человек и понимаю, что грех так про земных людей говорить, но Миша был настоящим богом для меня. Отца-то не было. А был брат. Он мне ширинку застегивал. Понимаешь? Стирал, убирал за мной, учил ботинки чистить, на коньках кататься, всему учил. На закорках катал. Однажды я – это весной было – поехал на коньках и влетел в полынью. А? В полынью. Ближе к весне дело было. Я в полном обмундировании ушел под лед, перепугался, дыхания никакого, руками в лед уперся, и вдруг чья-то рука меня из соседней полыньи вытаскивает за шкирку. Мишка! Отнес меня на руках домой, обтер, дал чаю горячего и спать уложил. Тогда я впервые смерть глаза в глаза увидал. А он меня – спас. Выдернул с того света. Рассчитал все – и из соседней полыньи вытащил. Так что пусть не говорят, что он пьяница был забубенный! И ты не смей говорить!
Байрон кивнул.
– Когда он из армии вернулся, пошел на фабрику. А она вскоре развалилась. Мишка попивать стал, не так чтобы очень, но – каждый день. Не дрался. – Виктор покивал. – Это он к тому времени, когда на Оливии женился, стал руки в ход пускать. А когда я вернулся из Чечни, тут вдруг и случай: Миша погиб. Утонул. – Он подался к Байрону. – Я же через многое прошел, потому и не поверил, что брат по своей воле отправился на тот свет. Он смерти боялся. Боялся.
– Ты Оливию винишь?
– Нет, – сразу ответил Виктор. – Ее – нет. Но и в смерть случайную – не поверил. Это ж до чего надо дойти, чтобы самому съехать на инвалидной коляске в ледоход!
– Не кричи. – Байрон выпил. – Ну и водку здесь делают гадкую!
– Здесь все делают гадкое! – закричал в голос Виктор. – Всю жизнь! – Он тоже закурил. Морщины на его лбу разгладились. – Знаешь, полковник, я сразу не поверил. И сразу подумал: кому выгодно? Правильно?
– Оливии?
– Нет. Не ей. Я решил выждать и посмотреть хорошенько, кто из этого выгоду извлечет. Тут как раз старик меня шофером к твоей мамаше определил... удобное место...
– Стоп. – Байрон поднял руку. – Ни слова о матери.
– Ни слова. – Виктор выпил водки. – Я разве твою мать в чем виню? Нет, брат, ни в чем. Но когда Оливия стала жить с Татой-старшим, я начал кое-что соображать.
– Значит, Тата?
– Но Оливия-то не ему принадлежала! Она ж – Тавлинская! Есть хозяин. Будешь? Как хочешь. – Он плеснул себе водки в стакан. – Водка-то, обрати внимание, называется "Тавлинской". – Выпил. – Оливия, повторяю, принадлежала Тавлинскому. Старику. Я ж помню, как он радовался, что обвел вокруг пальца Тату и завладел его акциями. При мне было. Разговор, в смысле. И я помню, как Обезьян психовал в казино... помню! Дружки мне говорили, что теперь Татины люди старика замочат. Да и чего трудного? Сигнализация не работает, старик спит во флигеле...
– Откуда ты знаешь про сигнализацию?
– Ты не топырься, братан, потому что мне сто раз поручали эту сигнализацию наладить. Я, конечно, на все руки мастер, но не до такой же степени... А через забор перебраться – тьфу!
– Значит, Обезьян?
Виктор с насмешкой посмотрел на Байрона.
– Следователь – он и есть следователь. Тем более военный.
– Я давно не следователь. И давно не военный. У меня, Вить, странное подозрение... что ты убил старика... ты не обижайся. Но почему бы и нет?
– А! – Виктор откинулся на спинку стула. – Понимаю. Но ничего тебе определенного сейчас не скажу. Хотя и считаю, что старик Тавлинский был виноват в смерти Мишиной. Ви-но-ват! Из этого, однако, ничего не следует. Мало ли что я считаю... Ты вот чего прихрамываешь?
– Миной ступню оторвало. В Чечне.
– Мина! Понимаешь? Мина, а не Бог с его присными правит всем этим сраным миром! И не на кого оглянуться... Раньше я хоть на Мишку оглядывался... А теперь – не на кого. Делай, что хочешь. Вот я и буду делать, что хочу. Валар.*
– Я даже не спрашиваю – что.
– У меня своя информация, Байрон. Я, лорд, сперва сам во всем разберусь, а уж потом пусть кто угодно разбирается: все равно будет правдой то, что я сделаю!
– Ты деда убил?
– Иди ты к едреной фене, Тавлинский! – Виктор налил в стаканы. – За дом спасибо старику. Кстати, ведь отчество у меня – Андреевич! А? Вдруг он и вправду мне родной отец? Как же я на родного отца – да с топором?
– А у меня – Григорьевич! – со злостью ответил Байрон. – Это еще ничего не значит. Но если я буду твердо уверен в том, что ты деда убил...
– Ну и что? Убьешь? А на кой хер мне эта жизнь, ты подумал? И твоя, кстати, жизнь, на кой она тебе ляд сдалась? Мы сданы в утиль, братан. Делай, что хочешь. Живи, как знаешь. Россия такая. Хотя... какой еще ей быть сейчас? Я Россию не виню. Слишком она велика, чтоб на нее оглядываться. – Он поднял стакан. – На посошок? Давай. Сегодня же мать отправлю в новый дом, слово даю. А у меня еще кой-какие дела остались... Пошли! Ну чего ты застрял? Фокус покажу. Фокус-покус.
Байрон присел на колченогий табурет, брошенный переселенцами, и молча наблюдал за Звонаревым, который пристраивал две пустые бутылки в стенной нише.
– А теперь – опаньки! – крикнул Виктор.
Выхватив пистолет, он разбежался, сделал кульбит и первым же выстрелом разбил бутылку. Выдохнув, сделал кульбит назад и вторым выстрелом разбил оставшуюся бутылку.
– А говорят, что Макаров – говно! – крикнул он, задыхаясь. – Хочешь попробовать?
Байрон затряс головой. Нет. Он и без того был уверен, что в случае необходимости этот Звонарев перебьет всех, кто встанет на его пути. Без цирковых фокусов и без злобы. "Но фигляр, – подумал он с внезапной злобой. Шут гороховый – тем и опасен".
– Бывай! – Байрон встал и, слегка покачиваясь, направился к воротам. Из меня стрелок хреновый.
– Чего? – не расслышал Звонарев.
– Мать увози! – откликнулся Байрон. – Чем раньше, тем лучше!
Он проклинал себя за то, что поехал в Домзак, за разговор со Звонаревым, а его – за это идиотское шутовство с пистолетом ("Тоже мне Гарри Гудини!"), за бессмысленное питье без просыху, за Оливию и Диану... За все. Но легче от этого не становилось.
Солнце стояло уже высоко, и машина нагрелась. Байрон опустил боковое стекло и закурил. Ну вот, он встретился со Звонаревым – и что? Что он узнал? Почти все. Но в этом "почти" таилось слишком многое, чего он еще не понимал или отказывался понимать. Например, зачем Виктору Звонареву убивать старика Тавлинского? Месть за брата, которого он обожествлял, месть мистеру-миллионистеру? Это что-то вальтерскоттовское, средневеково-романтическое... Но, похоже, он сам склонялся скорее к тому, что виновниками убийства были сыновья и внук Таты. При этом, однако, поправил себя Байрон, Звонарев не исключал и виновности Тавлинского-старшего. Если это так, то именно он и убил старика. А матушка скрывает, что в ту ночь спала с Виктором. Это, конечно, ее право. Тем более что Звонарев, кажется, и сам не очень-то убедительно говорил о киллере, посланном Обезьяном.
Байрона передернуло от воспоминания о водке и грибках, которыми они с Виктором отмечали знакомство. Что ж, Шатов есть Шатов. Живут здесь картошкой с грибами да водкой "Тавлинской". Это вам не Москва. И пока Шатов хоть чуть-чуть не сравняется с Москвой, все будет продолжаться: бедные, которые беднее бедных, картошка, огурцы, грибы, убийства, зависть и упование на судьбу, которую они ошибочно принимают за Бога, живущего на улице Жиржинской...
Зазвенел мобильник.
– Ты не забыл, что тебя ждет Любовь Дмитриевна? – спросила Оливия.
– Какая такая?
– Ага, опять двадцать пять. Знахарка. Ты где? За тобой заехать? Если сам доберешься, то она живет рядом с церковью, где отец Михаил служит. Сообразишь?
– Еще как!
– Я все равно приеду, – сказала Оливия. – Ты где? Не в Домзаке ли?
– Я уже еду. Еду, говорю!
Церковка, в которой служил отец Михаил, стояла не так уж высоко над урезом воды, но даже во время весенних половодий почему-то не затоплялась, в чем многие усматривали промысел Божий и даже чудо. Отец Михаил, как уже знал Байрон, был внучатым племянником того архимандрита, которого поздней осенью 1941 года расстрелял Андрей Григорьевич Тавлинский. Самому настоятелю церкви тоже не повезло в жизни. На подаренном прихожанами автомобиле он врезался в трейлер, сам остался жив, но при этом погибли жена и двухгодовалая дочка. Это обстоятельство – в глазах прихожан – добавляло отцу Михаилу святости, хотя сам он, по слухам, после аварии то и дело впадал в самый настоящий русский запой. Знахарка Любовь Дмитриевна, женщина молодая и, как говорили, ничего себе черт в юбке, снимала у одной старушки избу поблизости, но фактически не покидала дома священника. Ее не осуждали. Тем более что отношения свои напоказ они не выставляли. Когда-то Любовь Дмитриевна училась в фармацевтическом институте (и вроде бы закончила), но по специальности не работала и дня. Утверждали за верное, что была она истовой наркоманкой, прибилась к отцу Михаилу случайно и вот якобы ему и удалось отвадить ее от пристрастия к дьявольскому зелью. Правда или нет, но к ней водили алкоголиков, наркоманов, подверженных трясучке и прочих неполноценных – с точки зрения шатовцев – людей. Многим она помогала – кому лекарством, кому словом, и это укрепляло ее славу, – однако отец Михаил относился к ее практике если не с отвращением, то с неодобрением – точно. Он был заурядным провинциальным священнослужителем, который строго следовал правилам и строго осуждал и колдовство (а занятия Любови Дмитриевны он полагал за колдовство), и оккультизм. Однажды он устроил настоящий дебош в книжном магазине старика Тавлинского, куда заходил каждое воскресенье и где как-то раз обнаружил книжки по оккультизму, в число которых он включал и Рериха, и авторов "фэнтэзи". Андрей Григорьевич Тавлинский безо всяких препирательств изъял все эти книги из магазина, хотя товароведы и убеждали его, что эти книжки пользуются у населения повышенным спросом. "Вот подуспокоится Россия, отвечал Андрей Григорьевич, – и самой станет стыдно, что за такие книжки деньги выкладывала".
Байрон увидел во дворе священника BMW и остановил свой "Опель" метрах в двадцати-тридцати от ворот. На высоком крылечке сидела с сигаретой Оливия.
Медвяная Оливия. Вся в черном. Ей это шло.
– Любаша тебя ждет. – Оливия швырнула окурок не глядя. – Только, пожалуйста, без выпендрежа. Ага? Ради меня.
Байрон вскользь поцеловал Оливию в щеку и послушно последовал за нею.
Они свернули за угол священнического дома ("Бедного, надо сказать", отметил про себя Байрон) и направились к сараю, точнее, к срубу, наполовину утопленному в землю.
– Ждет, – вполголоса проговорила Оливия. – От тебя пахнет водкой.
– А чем еще может от меня пахнуть? – пробормотал Байрон, проклиная себя за то, что поддался бабьим уговорам. – Она хоть не кликуша?
Оливия презрительно фыркнула.
– Банька с пауками, – проговорил Байрон, наклоняясь и входя в дверь. Достоевщиной разит – Боже мой!
Из-за дощатого стола, занимавшего добрую половину помещения, поднялась молодая женщина в темном платке, но одетая в полупрозрачное платье, под которым виднелись спортивные брюки. Лицо ее было вытянуто, как в декадентском фильме, глаза – огромные, черные – прямо и безразлично взирали на пришельцев.
– Ты уходи пока, Оливия, – сказала она. – А вы разденьтесь, пожалуйста. До трусов.
– У вас тут пауки не водятся? – поинтересовался Байрон, расстегивая джинсы. – Боюсь я всяких мелких гадов. Особенно с лапами.
– Нету. Да не стесняйтесь вы!
Байрон стянул с себя джинсы, не трогая протез. Лег на тахту, крытую чистенькой клеенкой.
– Левая, – сказала Люба. – Лживая. Уколов не боитесь? В смысле: противопоказаний против анальгина нету?
– Никак нет. – Байрона разобрал смех. – Вы и в самом деле ведунья?
Она фыркнула, набирая из ампулы в шприц что-то розовое.
– Если нету идиосинкразии, тогда подставьте руку. Давление нормальное?
– Сто тридцать на восемьдесят. Иногда скачет под сто восемьдесят.
– При вашей комплекции и пристрастии к вину.... – Ввела шприц в вену. Вы не бойтесь. Я колдунья с дипломом. Опа!
Он не знал, сколько времени прошло, пока он был в отключке. И что эта стерва ввела ему в вену – белену какую-нибудь. Дурман. Русские ведьмы изобретательны. Варево из лягушек и прочей дряни – это прерогатива кельтов. Он оцепенел. Он видел ведьму и Оливию: они о чем-то шептались, перехикиваясь. Он полный дурак. Доверился двум идиоткам.
Он отчетливо видел все, что они делали, – входили и выходили из баньки, о чем-то разговаривали, – но не мог расслышать ничего, даже биения собственного сердца. Потом вдруг зрение его замерцало – и все погасло. Кто-то положил ему на лоб холодное влажное полотенце.
Высокие металлические ворота открылись бесшумно. Он взял под козырек, увидев выбирающегося из машины старшего офицера. Майор Синицкий. Стянув с толстой руки кожаную перчатку, майор поздоровался. "Прошу туда! – Он пошел вперед, напряженно соображая, какого черта в такое время – уже даже днем в Шатове был слышен гул немецкой артиллерии – в Домзак пожаловало высокое начальство. – Эвакуировать, наверное, будут. Могли бы и курьера прислать. А тут – майор НКВД. Сам. Значит, что-то серьезное". Они поднялись на второй этаж и, свернув за угол, оказались в кабинете начальника тюрьмы. Дневальный вытянулся, отдавая честь. "Свободен! – приказал Синицкий. – Ну и теснотища у тебя здесь, начальник. Вповалку спите, что ли? Шучу". Протянул конверт. Пока он читал бумагу, Синицкий расположился у печки, снял фуражку. Коротко стриженные курчавые волосы. Гладко выбрит. Попахивает спиртом. Ну, понятно, на таком морозе... Он перечитал бумагу. "Значит, всех?" Синицкий вынул фляжку, глотнул, обтер рукавом горлышко, протянул ему. "А ты что неграмотный? Или патронов не хватит?" "Хватит, товарищ майор!" Осторожно пригубил из фляжки – чистый спирт. Двести девяносто четыре человека к утру должны превратиться в двести девяносто четыре трупа. Интеллигенты и крестьяне, ремесленники и чиновники, русские и татары, евреи и трое удмуртов. Почему-то запомнилось, что удмуртов было трое. Он посмотрел на майора, на его скуластое лицо, порозовевшее от тепла и спирта. "Распишись, лениво велел майор. – Вон там. Шофера я погнал в город – за спиртом. А то ребята на морозе еще заразу какую-нибудь подхватят. Пусть греются". Двести девяносто четыре. Из них человек тридцать, не больше, – настоящие уголовники. Но и им уготована общая судьба. "А потом что? – спросил он. – Их же хоронить надо". Синицкий посерьезнел. "Это – обязательно, – сказал он. Пошли кого-нибудь подыскать место. Чтоб недалеко отсюда. Места у вас песчаные, так что главное – замерзшую корку подорвать. Остальное – лопатами. Да лучше всего яму какую-нибудь... углубить динамитом – динамит есть? – и засыпать. – Майор усмехнулся. – Неужели ты думаешь, что их кто-нибудь искать станет? Да никогда". Он приоткрыл дверцу печки, крупные его руки стали ярко-красными от света пламени. "Выполняй – я сейчас спущусь". Он убил его одним выстрелом – в висок. Коренастое тело майора свалилось со стула набок. Даже ножкой не дрыгнул. Прислушался: в канцелярии было тихо. Кое-как затащил Синицкого в холодную подсобку, где стояли ведра, швабры и валялся разный хлам. Закидал тело тряпьем. Подсобку запер на ключ. Предписание вместе с конвертом бросил в печку. Повел плечами, поправил ремень. Дверь за собой тоже – на ключ. Бросил дежурному офицеру: "Общий сбор!" И уже через пять минут перед ним на плацу выстроились солдаты. Даже часовых с вышек сняли. "Из Москвы поступил приказ: всех заключенных срочно распустить по домам. Бумаги им выписывать некогда, сами понимаете. Всех. Приказываю: камеры и ворота открыть!" Согревшихся было в тесных камерах заключенных пинками выгнали на мороз, выстроили в колонну по пятеро. Не забыли и тех, что были заперты в церкви. Двести девяносто четыре. "Вы свободны! – крикнул он. Ворота открыты! По мосту идти не в ногу. Шагом марш отсюда! Молитесь за товарища Сталина!" Послушно зашаркали сотни ног. Мимо него проходили сгорбленные люди – кто в пальто, а кто и в одной рубашке. Где эти удмурты? И вообще: куда они все пойдут? Да, куда? Почему-то этот вопрос и в голову ему не приходил. Но сейчас уже поздно рассуждать. Куда дойдут – туда и дойдут. Когда за последней пятеркой захлопнулись стальные ворота, он приказал: "Отбой! Всем спать!" И бегом бросился в канцелярию. Фляжка со спиртом так и осталась на столе. Он жадно глотнул. Закурил папироску и вытянул ноги к печи. Никаких вопросов он себе не задавал. Он поступил, как учили: никаких вопросов. Действовать по обстановке. Вот он и действовал. А что будет дальше – не его забота. Никто и не вспомнит про этих бедолаг да и про него... Нет, про него-то как раз вспомнят. Сразу расстреляют или посадят? Может, на фронт пошлют... Он и не заметил, как уснул. А очнулся от громкого стука в дверь. "Товарищ начальник! – кричал дежурный. – Спуститесь во двор! Товарищ начальник!" Снова поправив амуницию, он отпер дверь и, толкнув дежурного плечом, прогрохотал сапогами вниз. Что за звук? Прошло – он бросил взгляд на часы – не больше четырех часов. Темень. В ворота стучали. Множество рук. Господи, да неужели... "Открыть ворота!" Едва створки поползли в стороны, как в образовавшуюся щель протиснулся первый зек – в пальто и шапке-ушанке. За ним – остальные. Словно сквозь брешь в плотине, они хлынули во двор и бросились по своим камерам. "Стоять! – закричал он. Стоять! Стрелять буду!" К нему приблизился седобородый старик с крестом во рту. Аккуратно выплюнув крест в ладонь, перекрестил начальника. "Не гневайся, брат. Но куда ж нам идти? Мы-то думали – на волю, а воли там нету. Нету там ничего, брат!" Оттолкнув старика, он крупно зашагал к распахнутым воротам. Бросил на ходу дежурному: "Пересчитать всех!" Остановился в проеме ворот. В лицо ему бил ледяной ветер, и ветер этот, вдруг понял он, не знаком ни с крышами жилых домов, ни с лесными деревьями, ни с просторами вод. Это был ветер ниоткуда. Словно ударил из средоточия тьмы неведомой, где таился до поры до времени, чтобы вернуть закону – Закон, а силе – Силу. "Таких ветров не бывает, – тупо подумал он. – Это все... это вся эта Россия против меня... У нее даже ветер особенный отыскался, чтоб напомнить мне: шалишь, брат! А закон?"