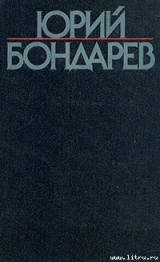
Текст книги "Тишина"
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Часть вторая
«1949 год»
1
На углу под фонарем Константин прочитал название улицы, потом уверенно подошел к низкому забору; за ним одноэтажный домик смутно белел в зарослях акаций, желтоватый свет едва просачивался сквозь листву. Здесь, на Островидова, пахло сладковатым теплом, как пахло на всех ночных улицах Одессы, когда он от вокзала шел в лунной тени безлюдных тротуаров, нагруженный двумя чемоданами.
Он приехал из Москвы, бросив все, приехал загореть на южном солнце; забыв обо всем, поваляться на прокаленном песке пляжей и, обсыпаясь горячим песком, глядеть на постоянно изменяющееся под светоносным небом теплое море, а вечером, надев белую сорочку, подчеркивающую черноту лица, фланировать по знаменитой Дерибасовской, знакомясь с темноволосыми одесситками, и пить холодное вино, и есть мороженое на террасах летних, увитых плющом кафе.
Он приехал сюда, думая об этой беспечной курортной жизни, которую во всей полноте своей представлял в раскисшей дождями Москве. Его потянуло сюда потому, что был в Одессе раз после войны, и еще потому, что Быков в разговоре с ним настоятельно посоветовал поехать именно в Одессу, поселиться у хорошо знакомых людей, дальних родственников, и сам помог Константину добиться скорого оформления плацкартного билета – в московских кассах стояли нескончаемые очереди.
Константин нашел этот домик на Островидова, 19, во втором часу ночи и, потный, уставший от дорожных разговоров, от длительной ходьбы по городу, от тяжести чемоданов, свистнул с облегчением, ногой пнул провинциально скрипнувшую калитку, вошел во двор. Внятно потянуло сыростью деревянных сараев, этот запах тотчас смыло влажно-теплой струей воздуха – мягко и душисто дуло из глубины черного сада.
В тишине, гремя цепью по проволоке, огромная собака выскочила из-за сарая, начала прыгать, яростно вставать на задние лапы, залилась хриплым лаем.
– Ах ты, милая моя, сволочь ты эдакая! Брысь отсюда! – Константин угрожающе махнул чемоданами, шагая по тропке меж кустов.
– Томи, цыц! На место! – крикнул голос от крыльца, и оборвался лай, тише зазвенела цепь; и этот же голос спросил: – Кто тут?
– Я не ошибся – Островидова, девятнадцать? Что у вас за город? Сплошной кошмар – ни одного такси! – сказал фамильярно Константин. – Пер от вокзала пешком. Здравствуйте. Будем знакомы. Константин, – прибавил он, завидев фигуру человека на крыльце: забелела в темноте рубашка.
– Прошу. – Человек сошел со ступенек; разгорелся, погас уголек папиросы, осветив мясистый нос. – Заходите! Я вас давно жду.
– Спасибо за гостеприимство. Одесса всегда славилась… Благодарю!
Человек этот пропустил Константина на террасу, закрыл на ключ дверь, затем сказал: «Идите прямо», – и через закоулок коридора ввел его в низкую, неярко освещенную запыленной люстрой комнатку со старым письменным столом, потертым диваном, на котором лежали свернутая простыня и подушка. Константин, испытывая удовлетворение, бросил в угол чемоданы, с полуулыбкой поклонился хозяину.
– Как разрешите вас?..
Высокого роста, в несвежей сатиновой рубашке, висевшей на худых плечах, хозяин дома был медлителен, стоял у двери, заложив одну руку за подтяжку, на угрюмо-небритом лице его было выражение ожидания. Он сказал наконец прокуренным голосом:
– Аверьянов. Это ваша комната. Устраивайтесь. Получил телеграмму днем. Я к вашим услугам.
Константин сел на диван, закинул ногу на ногу.
– Ну прекрасно! Эта комнатка мне подойдет. Насчет платы договоримся. Далеко отсюда море?
Аверьянов мимолетно покосился на Константина.
– Море вы найдете. – И остановил внимание на чемоданах. – Петр Иванович писал мне…
– Ах да! Вот этот чемоданчик в чехле прислал Быков, – спохватился Константин. – Кажется, здесь консервы, масло… Что-то в этом роде. У вас тут плохо с продуктами? Просто цирк – ведь в Одессе никогда плохо не жили! Кошмары!
– А я думал, балагуры только у нас, в Одессе…
Аверьянов угрюмо скомкал улыбку, поставил чемодан в сером зашитом чехле на письменный стол и, вынув из кармана перочинный ножичек, ловким движением полоснул лезвием по швам чехла. Спросил:
– А ключ позвольте?
– Его у меня нет. Я не открываю чужие чемоданы, – ответил Константин, засмеявшись, и порылся в кармане. – Попробуйте. Может, мой подойдет. Ключи – стандарт. Жалкий примитив.
– Попробуем. – Аверьянов взял у Константина ключик, не торопясь примерил его к замочкам – они щелкнули, – откинул крышку, заглянул с мрачным интересом.
– Фу ты ну ты… – выдохнул он, роясь в чемодане. – Все не то, все не то… Как нельзя понять, что Одесса – южный город? – Он еще раз ковырнул пальцем внутри чемодана, захлопнул крышку, пожал плечами. – Петр Иванович живет как на Марсе. Не догадывается, как трудно! Чесуча, чесуча идет!
Аверьянов со сдержанным раздражением выговорил это, и Константин, несколько озадаченный, спросил:
– Что трудно? Какая чесуча?
– Совсем обыкновенная. На нее спрос. – Аверьянов, казалось, усиленно соображая что-то, заскреб щетину на подбородке. – А что прикажете мне делать с бостоном? Не сезон, совсем не сезон!
– Каким еще бостоном? – спросил Константин. – Что вы меня, как лопуха, за нос тянете?
– Э-э, подождите, – пробормотал Аверьянов. – Я сейчас.
Он приоткрыл дверь, на цыпочках вышел, унося чемодан, и Константин, весь напрягаясь от охватившего его беспокойства, уловил ватные шаги в тишине дома, вязкий шепот, мышиную возню за стеной и потом, чувствуя холодок по спине от мысли, мелькнувшей в его голове, оцепенело сидел на диване – веселое ощущение приезда мгновенно стерлось, давило мертвенное безмолвие дома. «Значит, чесуча, чесуча? Ах, чесуча!..» – подумал он, ужасаясь острой своей догадке; и здесь без стука вошел на носках Аверьянов, протянул толстый пакет – сверток в газете, – сказал прокуренным голосом:
– Это Петру Ивановичу. У вас есть надежный карман?
– Карманы как карманы. Давайте!
Константин пощупал плотный пакет, бросил его на крышку чемодана и спросил с усмешкой:
– Надеюсь, это не золото, не бриллианты ацтеков? Если бриллианты по два карата, то завтра впломбируйте их мне в зубы. Так делают международные контрабандисты-спекулянты. Что в этом пакете?
Аверьянов выкатил выцветшие стоячие глаза, лицо его стало подозрительным, обрюзгшим.
– Вы шутник. – Вытянул из шкафчика на стол начатую четвертинку, хлеб, тарелочку с нарезанной колбасой. – Десять тысяч. Это мало, считаете?
– Что-о? – Константин встал. – А ну принесите сюда чемодан!
Во дворе залаяла собака. Под окном, в саду, прозвенела, заскользила по проволоке цепь, донесся близкий топот собачьих лап. Аверьянов, прислушиваясь к лаю во дворе, тяжело задышал носом: было слышно, как кто-то завозился, по-женски протяжно вздохнул за деревянной стеной.
Собачий лай смолк. Звенели цикады в тишине.
Аверьянов поправил занавеску на окне, засипел шепотом:
– Вы что, маленький? Сорок девятый год – не сорок шестой. Не понимаете? Опасно! Вчера взяли с бостоном Кутепова… На вокзале взяли…
– Я сказал: принесите сюда чемодан! – уже бешено крикнул Константин и нечетко, как сквозь дым, увидел сгорбленную и боком семенящую к двери узкоплечую фигуру Аверьянова – и сразу сомкнулась тишина, будто дом опустился в глубокую, сдавившую дыхание воду. «Чесуча и бостон – ах, как здорово!»
Затем шорох шагов за стеной, и так же боком протиснулся в дверь Аверьянов, без уверенности поставил чемодан перед Константином, проговорил:
– Вы что, сумасшедший? Кто считает копейка в копейку до реализации?
– Идите к… – грубо выругался Константин.
И ударом ноги раскрыл крышку чемодана, увидел на дне его, за смещенными банками консервов, свернутые отрезы черной материи и сейчас же вспомнил, как Быков при нем, аккуратно укладывая эти банки, говорил ворчливо, что дальний родственник его рад будет этому продуктовому подарочку из столичных магазинов.
– Так! – сказал Константин и, подхватив с крышки чемодана плотный пакет, втиснул его в боковой карман. – Все ясно. Ну что ж, прекрасно живем. Может быть, вы мне объясните, далеко ли мне топать до ОБХСС?
– Шутите, шутите, да знайте меру! – Аверьянов судорожно попытался улыбнуться. – Вы шутите, как сумасшедший…
– Я был идиот, когда считал, что везу продукты голодающему родственничку, – произнес Константин, чувствуя, как все тело его окатило нервным знобящим холодком. – Не думал, что буду сбывать нецензурный товарик. Вот так, господин Аверьянов. Наивняков нет. ОБХСС оплакивает вас и толстячка Быкова. Куда денешься – закон!
Аверьянов в растерянности жевал губами, машинально оттягивая подтяжки, внезапно небритое морщинистое лицо его задергалось, запрыгал подбородок, – и он бессильно, напрягая жилистое горло, заплакал; слезы потекли по щекам, застревая в щетине. Он умоляюще и жалко глядел на Константина сквозь влагу, наползающую на глаза.
– Что? Что с вами такое? – крикнул Константин.
– Я прошу, прошу, – кусая пальцы, придушенно стал вскрикивать Аверьянов, отклоняясь к стене. – Я прошу… Прошу… У меня жена, семья…
Константин поднял свой чемодан, скомандовал Аверьянову:
– А ну откройте дверь! Куда выйти?
– Я прошу вас… У меня жена, дети… не хватает на жизнь, поймите!..
– Ваня! Ванечка! – взвизгнул пронзительный голос за стеной.
– Это жена… Я прошу вас, прошу…
Аверьянов порывисто впился как бы закоченевшими пальцами в рукав Константина, потянул его к двери, во тьму сыро пахнущего плесенью коридора, говоря с задышкой:
– Я умоляю, не надо, не надо… Я сейчас выведу вас… я сейчас…
Наступая в проходе на заскрипевшие корзины, задев плащом за что-то тупое на стене, Константин ринулся за ним по коридору, ослепнув в потемках; потом спереди хлынул из раскрытой двери серый свет, мелькнули там искаженные щека, губы Аверьянова, и Константин вывалился в мокрые кусты перед крыльцом, захлеставшие по голове, по плечам ледяным ливнем росы.
Он кинулся по саду напрямик, к забору, утопая в рыхлых клумбах, плохо видя перед собой; заросли проволокой цеплялись за ноги, влажные ветви били по коленям, хватали, отбрасывали назад чемодан, ставший стопудовым.
«Неужели так глупо, так глупо? Нет, нет! Не может быть, чтобы все так глупо!.. Что же это я?» – задыхаясь, думал Константин и почти наткнулся на штакетник, затемневший за акациями, различил деревянную калитку и ударил по ней носком ботинка. Крик Аверьянова толкнул его в затылок:
– Я прошу!..
– Черт с вами… Живите… – ответил со злостью Константин, не оборачиваясь. – Черт с вами…
И вышел на сумрачную перед рассветом улицу, темно заросшую каштанами, зашагал по пустынному тротуару под чужими окнами, оглушая себя стуком своих шагов; и только когда впереди заблестел росой незнакомый, сплошь заросший травой пустырь, каркас разрушенного дома, тут только он остановился, обливаясь потом, не зная, куда пойти.
«Куда? Где переночевать? Куда теперь?..» – соображал он и, поспешно отряхнув мокрые, облепленные лепестками брюки, двинулся торопливыми шагами наугад – к вокзалу.
Когда он подходил к вокзалу, небо над домами краснело, нежно золотились кроны каштанов вдоль улицы, заспанные дворники уже звучно шаркали метлами по брусчатке мостовых.
И это тихое летнее утро с легчайшей розоватостью прозрачного воздуха немного освежило Константина.
Среди толчеи, смешанных звуков и запахов утреннего вокзала Константин окончательно пришел в себя – длинная очередь шумно толпилась у кассы на Москву; окошечко было наглухо закрыто, висело объявление: «Касса справок не дает». В очереди ему сказали, что билетов на сегодня нет, что стоят за семь суток, что, возможно, будет на сегодня лишь несколько мест за час до отхода ночного поезда. А он твердо знал, что должен был уехать отсюда, уехать сегодня, чего бы это ни стоило, уехать хоть в тамбуре, хоть на крыше, хоть на тормозной площадке товарного вагона.
Четверть часа спустя он сдал чемодан в камеру хранения и теперь со спокойным лицом вышел на привокзальную площадь, уже людную, уже южно блестевшую солнцем, жарким лаком легковых такси, стеклами ранних и еще свободных автобусов, и некоторое время постоял на площади, окаймленной кипевшей зеленью.
Еще не зная, что делать, он перешел площадь, затем на привокзальной улице сел в маленький полупустой трамвай, поехал к морю, в Аркадию. Трамвайчик, гремя, проворно катился в утренне-прохладном зеленом туннеле каштанов, из открытых окон упруго дул в лицо легкий душистый ветер, и Константин думал: «Убить время до вечера».
Он заплыл далеко от берега в теплой полуденной воде.
Впереди на море серебрились солнечные поля, темные и сияющие косяки уходили до туго натянутой нити горизонта; там шел, дымил в синей бесконечности белейший пароход, постепенно опускался за край знойной синевы.
Константин плыл не спеша, наслаждаясь запахом воды, движением своего сильного тела, своим дыханием; зеркальное сверкание солнца на мелких волнах щекочуще ослепляло его. Он с фырканьем окунался в это игривое сверкание, в эту свежесть и влагу; лицо, волосы были мокрыми, мокрыми были ресницы, и все от этого вокруг расплывалось в мягкой радуге. Он увидел, как зеленая вода обтекала его покрасневшие от долгого лежания на песке плечи, и вдруг задохнулся от полновесного ощущения молодого здоровья, от удовольствия жить, дышать, чувствовать свое послушное тело.
«Неужели все так могло кончиться?» – подумал он, и на секунду исчез радужный блеск волн, сразу почувствовал под собой черную, холодную толщу глубины. Тогда он перевернулся на спину, отдыхая, и его охватило неограниченное летнее небо с белыми дымками облаков в выси.
«Что я хочу и что я вообще хочу?» – спросил он себя и, вспомнив ночь, озяб в воде и злыми рывками, шумно выплевывая воду, поплыл к берегу в неосознанном порыве движения к людям.
Толчок необъяснимого одиночества гнал его к берегу – он плыл все быстрее, потеряв ровное дыхание; приближались ажурные здания санаториев, белизна тентов на пляже, накатывало оттуда теплым ароматом зеленых парков, но он, отплевываясь, чувствовал только рвотный вкус воды во рту и лихорадочно торопился ощутить твердое дно под ногами.
Когда, обессилев, пошатываясь, выходил из моря, здесь на мели пестрела, переливаясь под зеленой водой, галька, шуршала и звенела, перекатываемая волной, ударяла по ногам. А он лег животом на горячий песок, думая: «Мне бы еще раз встретиться с Быковым! Доехать до Москвы!..»
Он минут пять полежал так лицом вниз и повернулся на бок.
Стало немного легче. Вокруг гудение пляжа, прокаленные солнцем теневые зонтики, нагие шоколадные тела, смех девушек в купальных костюмах и резиновых шапочках, играющих в волейбол на песке, визг детей, барахтающихся в воде, знойное море, запах мокрых топчанов, на которых сидели во влажных плавках парни, стучали костяшками домино, из репродуктора над санаторием лились песенки джаза – все говорило о жизни праздной, курортной, южной.
В репродукторе защелкало, кашлянуло, ломкий голое заговорил солидно и бесстрастно:
– Внимание! Алик из Москвы, у входа на пляж вас ждет Надя с улицы Горького.
– Гражданка Желтоногова, у входа в санаторий вас ожидают муж и товарищ. Повторяю…
«Одесса», – подумал Константин.
Тогда он встал, поправил облепленные песком плавки, подошел к загорелым девушкам в купальных шапочках, обвораживающе усмехнулся:
– Среди вас нет гражданки Желтоноговой? Ах нет! Тогда разрешите постучать с вами в волейбол?
Ему не удалось достать билет, но удалось сесть на ночной поезд – его улыбка, вид разбитного парня, его ордена смягчили неприступную суровость проводницы. Его даже впустили в купированный вагон, на сидячее место, и он, довольный, радостный, потом уже, далеко за Одессой, сидя в купе этой молодой проводницы, сказал с иронически игравшей под усиками улыбкой:
– Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну нахальную морду. Как вы считаете, дорогуша, у меня крупно наглая морда?
– Ну что вы! – Она прыснула стыдливым и намекающим смехом. – Вы очень интересный мужчина!..
Поезд несся сквозь ночную тьму; тьма эта густо шла за черными стеклами, в ярко освещенном спальном вагоне было комфортабельно, чисто, тепло, стрекотал вентилятор, вбирая папиросный дым, цветной коврик вдоль всего вагона мягко и приятно пружинил, из открытых купе уютно, сонно зеленели настольные лампы, дребезжали там ложечки в пустых стаканах, шуршали газеты, в одном играли в преферанс, звучали голоса, смех, а непроглядная темнота мчалась и мчалась мимо света окон, и шевелились от дрожания вагона белые занавески.
Константин, заглядывая в купе, улыбаясь, прошел до конца коридора и здесь, в туалетной с качающимся от скорости полом, плечом опершись о зыбкую стену, зло вынул толстый пакет из внутреннего кармана пиджака – он точно жег все время ему грудь, этот пакет.
Он нетерпеливо разорвал газету, увидел пачку сотен, тут же проверил замок в туалетной и бегло сосчитал деньги. Здесь было десять тысяч.
– Так, – сказал он, – все точно.
2
В Москве хлестал по улицам дождь, сильный, грозовой, неистово-летний, свинцово кипела вода на тротуарах, буйно плескала в канализационные колодцы. Потоки, бурля, катились по мостовой, мутными реками залили трамвайные рельсы, и трамваи, потонувшие колесами в наводнении, остановились на перекрестках; гроза согнала людей в ворота, к подъездам, прижала к витринам магазинов.
Константин, не доехав остановку, сошел с троллейбуса на Зацепе и целый квартал бежал под дождем, не разбирая луж, проваливаясь по щиколотку в дождевые озера, но, когда, до нитки промокший, вбежал в свой переулок, тяжко отпыхиваясь, на миг замедлил шаги, повторяя мысленно: «Привет, привет, Петр Иванович! Вот я, кажется, и вернулся».
Он был рад, что маленький их двор, весь в пелене летящей сверху воды, был пуст, – никто не стоял, не прятался от дождя под навесом крылец, и никто не видел его, он был рад, что дверь парадного была открыта, не надо было звонить. Он шагнул через порог в полутемный коридор, стремительно прошел мимо двери кухни и, не постучав, вошел к Быковым, на пороге выговорил, раздувая ноздри:
– Где Петр Иванович? Где он?
Серафима Игнатьевна в ситцевом переднике сидела около обеденного стола, грустно, медленно протирала полотенцем посуду. В комнате сумрачно, и сумрачно было на улице; быстрые струи барабанили, стекали по стеклу; бурлило, шепелявило в водосточной трубе под окном.
Увидев в дверях Константина, промокшего, в помятом, облепленном влажными пятнами грязи плаще, увидев его набухшие грязные ботинки, набрякшие водой брюки, ахнула, уронила полотенце на посуду, зашевелила мягким ртом:
– Костенька… Костя… Что это?.. Что это?
– К дьяволу «Костенька»! – крикнул он, швыряя заляпанный грязью чемодан на ковер. – Где этот паук? Я спрашиваю – где? Где эта харя?
– Костя… Костенька, что ты? Что ты… на работе он… – поднеся к подбородку пухлые руки, как бы защищаясь, выговорила Серафима Игнатьевна. – Что, что ты?.. Разденься! Мокрый весь, господи!
– Ладно, – сказал Константин, посмотрел на свои ноги и вытер один ботинок о ковер на полу. – Ладно, – обещающе повторил он и вытер о ковер другую ногу. – Эта тряпка, кажется, стоит тысяч пять. Все равно – ворованная. Ясно? Дошло? А я подожду вашего супруга! – Он схватил чемодан, оглянулся бешеными глазами. – У меня есть время, милая Серафима Игнатьевна. Я подожду!
В коридоре он тоскливо замялся против двери Вохминцевых, не решаясь войти, стоял, пытаясь успокоиться, потом все же постучал несильно.
– Можно?
– Войдите.
Сергей лежал на диване, листал толстый учебник по горным машинам и одновременно, наматывая волосы на палец, сбоку заглядывал в тетрадь. Константин сначала, чуть-чуть приоткрыв дверь, увидел его утомленное лицо и пепельницу на стуле, заваленную окурками, вошел совсем бесшумно, спросил шепотом:
– Здорово. Ты один?.. Один?..
Отбросив книгу, Сергей пристально взглянул на Константина, опустил ноги с дивана, изумленный.
– Подожди, насколько я понимаю, ты удрал в Одессу? Ты откуда? Ну и видик у тебя, хоть выжимай! Что там, землетрясение? Раздевайся!
– Один? Больше… никого?.. – переспросил шепотом Константин, скашивая брови на дверь в другую комнату. – Аси и отца нет?
– Никого. Да раздевайся! Чихать начнешь завтра как лошадь. Вон влезай в отцовскую пижаму! – грубовато приказал Сергей. – Ну что стряслось? И вообще, что напорол с институтом?
– Плащ сниму, пижаму не надо, а под копыта дай старую газету – твоя Ася насмерть убьет за лужи! – И Константина передернуло. – Вот, Серега! Если я сегодня не изобью Быкова – понял? – буду последняя сволочь. Я влип, как цыпленок…
– Что? Куда влип? – Сергей нахмурился. – Говори яснее!
– Чемоданчик, который он мне сунул для дальнего родственничка, был не с маслом, не с хлебом – с отрезами бостона! И этот домик, куда я приехал, – спекулянтский. Удрал, как заяц, фамилию свою забыв!
– Дурак ты чертов! – выругался Сергей. – Совсем ошалел, что ли? Чемодан чужой повез… Ты что, не знал, что такое Быков?
– Пойдем, – попросил Константин, пощипывая усики. – Пойдем в павильон к Шурочке. Пообедаем. И поговорим…
– Никуда не пойдем!
Сгущались в комнате сумерки, дождь перестал, и лужи во дворе, влажный асфальт, мокрые крыши домов блестели, отражая после грозы тихое вечереющее небо.
Сергей открыл форточку, свежо потянуло речной сыростью, звучно шлепались об асфальт редкие капли, обрываясь с карнизов. Он повторил:
– Никуда не пойдем. Пообедаем здесь. И поговорим здесь. Ты мне еще ни черта не объяснил, почему удрал из института. Завтра сдавать горные машины. Знаешь это? Или спятил?
Константин с ироническим выражением полистал толстый учебник, насмешливо заглянул в записи Сергея, сделал движение головой, будто кланяясь в порыве светской благодарности.
– Целую ручки, пан студент, целую ручки… Вечер добрый. Желаю пятерку. Что ж, – он вежливо улыбнулся, – каждый умирает в одиночку. Но если уж ты стал равнодушным – наступил конец света. Целую ручки. – И, язвительно кланяясь, потоптался на газете, зашуршавшей под его грязными ботинками.
Сергей, не расположенный к шуткам, ударил его по плечу, заставил сесть на стул.
– Иди… знаешь куда? Гарольд Ллойд, юморист копеечный! Сиди, никуда не уйдешь. Пока сам не выгоню, понял? Будем обедать.
Но он не прогнал Константина ни через час, ни через два – сидели после обеда и разговаривали уже при электрическом свете, когда вспыхнули первые фонари на улице и во дворе зажглись в лужах оранжевые квадраты окон.
– Так где эти деньги? – спросил Сергей.
– Вот. Десять тысяч. – Константин достал из внутреннего кармана пачку, положил на стол. – Вот они, десять косых.
– Спрячь, – быстро приказал Сергей. – Кажется, отец!..
Хлопнула дверь парадного, шаги послышались в коридоре, потом – покашливание за стеной, стук снимаемых галош возле вешалки.
– Отцу ни слова, – предупредил Сергей. – Ясно?
– А! Знакомые все лица, и Костя у нас! – сказал Николай Григорьевич, входя с потертым портфелем и газетой в руке и близоруко приглядываясь. – Что-то ты редкий у нас гость! Обедаете? Отлично. Я перекусил в заводской столовой.
– Что значит перекусил? – возразил Сергей. – Когда?
Николай Григорьевич как-то постарел, особенно заметно это было после работы – пергаментная бледность, морщины усталости вокруг глаз; густо серебрились виски, сединой были тронуты волосы. В последние дни был он молчалив, рассеян, замкнут, тайно пил утром и перед сном какие-то ядовито пахнущие капли (пузырек с лекарством прятал за книгами в шкафу). По вечерам подолгу читал газеты, а ночью, ворочаясь, скрипел пружинами, при свете настольной лампы все листал красные тома Ленина, делал на страницах отметки ногтем, засыпал поздно.
– Ты сел бы с нами, отец, – сказал Сергей недовольно. – Я сам готовил обед. Консервированный борщ.
– И я вас давно не видел, – сказал Константин.
– Не стоит, я сыт. Не буду мешать. – Николай Григорьевич с предупредительностью кивнул обоим, прошел в другую комнату, за дверью тихо скрипнул стул, зашелестели листы газеты.
– Старик, кажется, болен, но виду не подает, – сказал Сергей вполголоса. – Все время молчит.
– Так, может, для старика схлопотать профессора? – предложил Константин. – Завозил одному дрова в сорок пятом. Телефон есть. Терапевт. Из поликлиники Семашко. Блат. А-а, вот и мой шеф! С фабрики приперся. Наконец-то!.. – вдруг сказал он и, привставая, словно бы поставил кулаком печать на столе.
Донеслись бухание парадной двери, громкое перхание, топот ног, с которых сбивали грязь, грузные шаги по коридору – и тотчас медленный темный румянец пятнами пошел по скулам Константина.
– Это он. Я пошел!
– Подожди! – задержал его Сергей и вылез из-за стола. – Что ему скажешь? Что будешь делать? Бить морду?
– Н-не знаю!.. Может быть. Здесь я не ручаюсь! – Константин блеснул заострившимися глазами на Сергея. – Что это за осторожность, Сереженька? Кажется, тогда, в «Астории», этой осторожности не было?
– Подожди! Вместе пойдем!..
В это время раздался басовитый, раскатистый голос из коридора: «Костя, Константин!» – затем вибрирующий стук в дверь, и в комнату суетливо втиснулся в неснятом, защитного цвета полурасстегнутом пальто Быков; от свежего уличного воздуха квадратное лицо розово; брови расползались в настороженно-радостном удивлении; развязанный шарф болтался, свисал с короткой его шеи.
– Константин, вернулся, шут тебя возьми? Ты чего же от Серафимы Игнатьевны удрал, шалопай эдакий? – вскричал Быков, излучая весь добродушие, приятность, одни складки морщин неспокойно затрепетали над бровями. – А ну идем, идем! Обедать идем!
Он схватил Константина за локоть, потащил к двери, возбужденно посмеиваясь, и тогда Константин высвободился сильным движением и, загораживая дверь, стал перед Быковым.
– Я пообедал, благодарю вас, – выговорил он. – Вам привет от Аверьянова. И благодарность… За подарочек. Просил передать вам, что Кутепов засыпался с бостоном. А мне позвольте доложить: чесуча, чесуча идет! А не ваш бостончик!
– Что? Ты зачем?.. Зачем?.. Что такое? – задыхающимся басом проговорил Быков, дернул Константина за лацкан пиджака и начал багроветь – с полнокровного лица багровость эта переползла на глаза, на белках проступили жилки. – Какую ты глупость говоришь! О чем болтаешь?..
– Спокойно, Петр Иванович, без нервов! – Константин нежно отвел руку Быкова от лацкана пиджака, нежно-фамильярно потрепал его по чугунно напряженному плечу. – Я хочу вас спросить: значит, вы хотели, чтобы я транспортировал в Одессу ворованный вами бостон в чемоданчике и привозил вам денежки? И сдавал в сберкассу? Или вам лично? Вы хотели сделать меня коммивояжером?
– Какая сволочь, какая паршивая сволочь! – с презрительным изумлением выдавил Быков и засмеялся. – Вы посмотрите на него – какая сволочь! – выдохнул он, обращаясь не к Константину, а к Сергею. – Вытащил его из дерьма, устроил… поил, кормил, как сына… Сволочь паршивая!.. Клевещешь? Клеветой занялся? А, Сергей? Послушай только!
– Когда моих друзей называют сволочью, я даю в морду! – резко сказал Сергей. – Это обещаю…
– Та-ак! – протянул Быков, опустив сжатые кулаки; щеки его затряслись от возбуждения. – Оклеветать захотели? Грязью облить? Сговорились? Вы в свидетели не подойдете, не-ет!.. Со мной – не-ет! Оклеветать?
– Вот свидетель! Вот ворованный бостончик! Держи-и… десять тысяч!
Константин выхватил из кармана пачку денег, со всей силой швырнул ее в грудь Быкову, пачка разлетелась, сотенные ассигнации посыпались на пол; Быков попятился, делая отряхивающие жесты руками, прохрипел горлом:
– Подлог? Деньги? Подкладываете? Ах вы, гниды! Оклеветать?.. Оклеветать?
Константин, надвигаясь на Быкова, топча грязными ботинками деньги на полу, проговорил сквозь зубы:
– Я… могу… попортить вывеску!.. Не шутя! Заткнись, идиот! Думаешь, не кумекаю, как делаются эти отрезики? Объясню!..
– Костя, подождите! Не трожьте его!..
Они оба оглянулись. Николай Григорьевич стоял в дверях, лицо было бледно, в подрагивающей руке – свернутая газета. Он серыми губами выговорил:
– Не надо, Костя, не марайте рук! С этим человеком надо говорить не так. Не здесь… В прокуратуре. Оставьте его.
– Та-ак! Оклеветать?.. Меня?.. – выкрикнул Быков, выкатив белки, и потряс в воздухе пальцем. – Поймать! Свидетелей сфабриковали? Не-ет! Деньги не мои! Номерок не пройде-ет, Николай Григорьевич!.. Я вам… вы меня семьдесят лет помнить будете! Я вас всех за клевету потяну, коммунистов липовых! Вы меня запомните… На коленях будете!.. Я законы знаю!
Он попятился к двери, распахнул ее спиной, задыхаясь, крикнул на весь коридор накаленным голосом злобы:
– Клеветники! За клевету – под суд! Под суд!.. Честного человека опорочить? Я законы знаю!..
И все стихло. Тишина была в квартире.
Константин со смуглым румянцем на скулах закрыл дверь, посмотрел на Сергея, на Николая Григорьевича. Тот, по-прежнему стискивая в кулаке газету, проговорил шепотом:
– Этот Быков… дай волю – разграбит половину России, наплевав на Советскую власть. Когда же придет конец человеческой подлости?
– Ты ждешь указа, который сразу отменит всю человеческую подлость? – спросил Сергей едко. – Такого указа не будет. Ну что, что ты будешь делать, когда тебя оплевали с ног до головы? Утрешься?
– Не говори со мной, как с мальчишкой. – Николай Григорьевич слабо потер левую сторону груди, сказал Константину своим негромким голосом: – Соберите деньги, Костя. Ах, Костя, Костя, не подумали? Не надо было объясняться с Быковым, выкладывать ему карты, это все напрасно. Это мальчишество. Соберите деньги и немедленно отнесите их в ОБХСС или в прокуратуру. Это нужно сделать. Иначе к вам прилипнет грязь, не отмоетесь. Вы меня поняли, Костя?
– Я идиот! – яростно заговорил Константин, собирая с пола деньги, и постучал себя кулаком по лбу. – Экспонат из зоопарка! Слон без хобота! Зебра с плавниками!
– Хватит! Началось самоедство! – прервал Сергей раздраженно. – Будем кричать «караул»? Действуй, и все! Это отец, старый коммунист, боится, что к нему прилипнет грязь!
– Сергей! – с упреком произнес отец, и лицо его посерело. – Замолчи! – И очень тихо, виновато добавил: – Пожалуйста, замолчи…
Сергей увидел седину в его волосах, землистое, дернувшееся лицо, его руку, поднятую к левой стороне груди, к пуговичке на потертой и застиранной пижаме, сказал отворачиваясь:
– Прости, если это тебя…
И Николай Григорьевич как-то стесненно в грустно улыбнулся:
– Когда-нибудь ты поймешь, что значит для коммуниста душевная чистота.
Дверь захлопнулась – безмолвие исходило из другой комнаты, не доносилось шуршания газеты; затем скрипнули пружины: должно быть, он лег.
И этот звук пружин, и нахмуренное лицо Сергея, и видимое нездоровье Николая Григорьевича, и отвратительная сцена с деньгами, и ощущение своей легкомысленности и глупости – все это вызвало в Константине чувство стыда, неприязни к себе, будто пришел и грубо разрушил что-то здесь.




