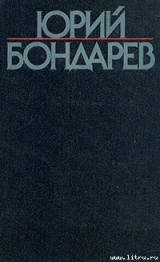
Текст книги "Тишина"
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
9
Час спустя Сергей лежал на диване в своей комнате, потушив свет, – был лимит на электроэнергию. Топилась на ночь голландка.
Разнеженная теплом кошка дремала возле постреливающей печи, спокойно вытянувшись, мурлыкая. Котята, вылизанные ее языком, с мокрой шерсткой, жалобно пищали, искали ее открытый мягкий живот, нажимали лапами вокруг сосков.
Сергей взял одного из котят, влажного, теплого, растопырившего лапы; пустил его себе на грудь; существо это беспомощно зашевелилось, дрожа слепой мордочкой, оскальзываясь лапами, заползло к горлу, тоненько пища, тыкалось дрожаще-нежно мокрым носом в шею, подбородок Сергея.
Он погладил его по шершаво-слипшейся спине.
– Дурак ты, дурак.
В слоистых потемках однотонно щелкали костяшки отцовских счетов в соседней комнате.
Сергей, лаская, гладил котенка, и было ему неспокойно, грустно, как не было с тех пор, как он вернулся. Лежа на спине, он вспоминал встречу с капитаном Уваровым в «Астории», Нину, вечер у Мукомоловых – и чувствовал, что был растерян и не хватало ему ясности и простоты; не было того, что представлялось месяц назад в гремящем прокуренном вагоне, мчавшемся домой, чего ожидал и хотел он.
– Ну что пищишь, дурак ты, дурак? – шепотом сказал Сергей и положил в коробку растопырившего лапы котенка.
Вечерняя тишина стояла в квартире. Розовое пятно – отсвет печи – суживалось и расширялось на стене, еле слышно щелкали в тишине счеты, шуршала бумага, и будто сквозь теплую толщину слабо пробивалась едва уловимая музыка – то ли радио, то ли заводил кто-то патефон. Константин?.. Он дома?
«Жить как Константин? – спрашивал себя Сергей. – А что потом? А дальше как? А завтра, а через, год? Да что задавать вопросы? Видно будет… Все будет видно… Главное, я дома… Но почему именно мне повезло, Константину, двум из школы – случайность?»
Звонок в прихожей. Три раза. Движение в глубине квартиры, шаги в коридоре, туго бухнула замерзшая дверь, голоса. Опять бухнула дверь, зазвенев пружиной. Тишина. Щелкнул выключатель, вкрадчиво постучали – и голос:
– Сергей Николаевич!
– Войдите! – Сергей скинул ноги с дивана.
Желтая полоса света из коридора легла на пол комнаты. В дверь протиснулась освещенная сзади фигура Быкова, голос сытый, как после обеда, он еще жевал что-то.
– Темнотища-то, ба-атюшки! Вам письмо или повесточка, шут разберет. Что же свет не зажигаете? Экономите?
– Давайте сюда, – сказал Сергей грубовато и при свете из коридора прочитал – это была повестка из милиции, уведомляющая его явиться завтра в одиннадцать часов утра к майору Стрешнекову. – Вы мне что-то хотите сказать? – спросил он Быкова, заглядывающего умиленно-ласково в коробку с котятами.
– К счастью, говорят, котята-то. Одного бы у вас взял, – сказал Быков. – Люблю малышей, даже детеныши безобразного бегемота – прелесть симпатичны. Видели? Я в Лейпцигском зоопарке видел.
– Слушайте, милый Петр Иванович, это вы, кажется, грозитесь тут пересажать всю квартиру? – Сергей посмотрел на него с неприязнью. – Вы? Интересно, как вы это сможете сделать?
Быков возмущенно выпрямил свое короткое, плотное тело.
– Глупости, какие глупости люди собирают! Я понимаю, я погорячился, ваш отец погорячился, но зачем глупости собирать? Вы меня еще не знаете, Сергей Николаевич, что ж, вы до войны вот как этот котенок были. Поживем – притремся, делить нам нечего. Нечего нам делить, да. В одной квартире.
– Будьте любезны… – сказал Сергей сдержанно. – Будьте любезны, прикройте дверь с другой стороны.
– Кто там у тебя? – послышался голос отца из соседней комнаты.
– Напрасно вы, напрасно. Покойной ночи, Сергей Николаевич, – заспешил, с озабоченностью наклоняя голову, Быков, затем деликатно закрыл дверь; заглохли шаги в коридоре.
Сергей при свете печи вторично прочитал веющую морозной улицей повестку.
В другой комнате загремел отодвигаемый стул, зашмыгали тапочки.
– С кем ты разговаривал? – спросил отец на пороге, устало снимая очки. – Кто заходил? Можно с тобой посидеть? Мы с тобой почти не видимся, сын.
– Заходил Быков. Передал повестку.
– Какую повестку? Опять в военкомат?
– Нет. Меня вызывают в милицию. Тебя это пугает?
– Но зачем в милицию?
– Вчера я ударил одну сволочь.
– Был пьян?
– Нет.
– Бить по физиономии – не так уж действенно, сын.
– Ты так думаешь? – усмехнулся Сергей.
Отец протер очки, спрятал их в карман пижамы, движения были спокойно-заученными, а глаза близоруко и утомленно приглядывались к полутемноте в комнате, озаренной гудящими вихрями огня в голландке. И все это раздражало Сергея своей добротой, домашностью, какой-то слабостью даже, которую он не хотел видеть в отце; и, не в силах подавить возникшее раздражение, Сергей заговорил неожиданно для себя:
– Вот ты, старый коммунист, даже старый чекист, скажи: почему ты терпишь Быкова? Не думал ли ты, что мы даем всяким хмырям взятки, именно взятки, чтобы они не беспокоили нас, – улыбаемся им, молчим, здороваемся, хотя знаем все? Так, что ли?
– Почему ты о Быкове?
– Ты знаешь, что он орет на кухне? Он что, пугает вас всех – и вы лапки кверху?
– Его не подведешь под статью Уголовного кодекса, Сергей. Он никого не убил, – ответил, опираясь на колени локтями, отец. – К сожалению, бывают вещи труднодоказуемые, сын. В августе сорок первого года я выводил полк из окружения, и мой растяпа политрук потерял сейф с партийными документами. Политрук погиб, а я едва не поплатился партбилетом. И хожу с выговором до сих пор. И ничего не сделаешь. Вот так, сын, не было четких доказательств. Не было. И ответил я как комиссар полка. А пятно трудно смыть.
– Что же тогда делать? – спросил Сергей вызывающе. – Терпеть, молчать? Так? Не-ет! Лучше ходить с выговорами! Может быть, ты вину политрука тоже по доброте душевной взял на себя? Ты что – добр ко всем?
– Во-первых, Сережа, на мертвых свалить легко. Во-вторых, я не советую тебе связываться необдуманно, – Николай Григорьевич неуверенно коснулся ладонью колена Сергея. – Только терпение и факты. Мерзавцев надо уничтожать фактами, доказательствами, а не эмоциями. Эмоции не докажут состава преступления. У тебя есть какие-нибудь доказательства против того, кого ты ударил?
– Доказательства для военного трибунала.
– А свидетели есть у тебя, сын?
– Только один свидетель – это я…
– Тогда этот человек может обвинить тебя в клевете. И легко привлечь тебя к суду за физическое оскорбление, за хулиганство. Здесь закон оборачивается против тебя.
Сергей встал, раздраженный.
– Ты, кажется, трусишь? Или чересчур осторожничаешь?
Отец тоже встал, сожалеюще-печально взглянул в лицо Сергея, сказал вполголоса:
– После смерти матери мне уже ничего не страшно. Страшно только за тебя. И то после того, как ты вернулся и живешь непонятной мне жизнью.
И пошел в свою комнату, шлепая стоптанными тапочками, горбясь, перед дверью задержался, смутно видимый в темноте, договорил:
– Вот уже месяц ты никак не называешь меня. Слово «папа» ты перерос, я понимаю. Называй меня «отец». Так легче будет и тебе и мне.
«Зачем я говорил так с ним? Он не заслужил этого! – несколько позже думал Сергей, шагая по улице, вдыхая щекочущие горло иголочки морозного воздуха. – Я не имел права так говорить. Я раздражен все время… Почему я раздражен против него?»
На углу он зашел в автоматную будочку, насквозь промерзшую, до скрипа накаленную стужей. Снял скользкую от инея трубку; подышав на пальцы, набрал номер Нины. Долго не подходили, и неопределенно длинные гудки в пространстве вызывали у него тревогу.
Когда щелкнуло в трубке и женский прокуренный голос пропел «алю-у», он попросил:
– Мне Нину Александровну.
– Нету ее, голубчик, нету. – Голос этот нехорошо фыркнул. – Ушла Нина Александровна.
Сергей резко повесил трубку. Некоторое время стоял в нерешительности – в раздумье глядел, как пар дыхания ползет по обледенелой стене, испещренной номерами телефонов, по инею на стекле, на котором кто-то гривенником вычертил рожицу с выпяченными губами, с комично длинным носом.
Стиснув зубы, он набрал номер Константина, сразу же отозвался приятно-веселый голос: «На проводе», – потом громкое чавканье; тоненькой струйкой влился фокстрот, как из другого мира.
– Пошел… со своим проводом, – проговорил Сергей. – Что у тебя там – патефон, компания?
– Прошу государственную тайну не разглашать! – Константин преспокойно жевал. – Никакой компании, за исключением патефона и бутербродов на столе. Ты что звонишь, а не зашел? Подняться на второй этаж – дороже плюнуть.
– Ты мне нужен. Приходи к метро «Павелецкая».
– Что стряслось? Деньги? Женщина? – Константин перестал жевать. – Мгновенно надеваю штаны. Нет таких крепостей, которые…
Возле метро в морозном пару, вылетающем из дверей, – беспрестанное движение толпы. Подземные скоростные поезда приносили людей из теплых недр туннелей; толпа, спеша, растекалась от метро, металлический скрип снега раздавался в студеном воздухе; поднятые воротники, голоса, огоньки зажигаемых спичек, простуженно-бодрые выкрики продавцов папирос около входа – развязных парней в телогрейках:
– «Казбек», «Казбек», покупай с разбегу! Запасайся к Новому году! – И бормотание озябшими губами: – Штучный «Беломор», штучный «Беломор»!
Сергей всматривался в растекающуюся от дверей толпу, искал на лицах мужчин, даже в походке женщин каких-то особых примет взаимного понимания. Он заметил в толпе немолодого мужчину, несущего елку, завернутую в мешковину, и рядом с ним женщину, молодую, живо говорившую ему что-то, и тогда вспомнил о близком Новом годе, но без праздничного ожидания, а с холодком неопределенного беспокойства.
– Категорический привет! Ты давно?
Подошел Константин в роскошной пыжиковой шапке, в кожанке на меху, красный шерстяной шарф по-модному подпирал подбородок. Сказал, протягивая руку, нагретую меховой перчаткой:
– Э-э, мордализация нахмуренная, решаешь мировые проблемы? Плюнь, не решишь. Пойдем куда-нибудь пиво пить.
– Подышим свежим воздухом, – хмуро сказал Сергей.
Когда отошли на сотню шагов от метро, уже не дуло банным воздухом из дверей вестибюля, острые лезвия мороза резали по лицу, иней оседал на воротнике.
– Американские миллиардеры для сохранения здоровья придерживаются гимнастики дыхания, – не выдержал молчания Константин. – На счет «четыре» – вдох, на счет «четыре» – выдох. Делай, братцы, вдох с левой ноги… Сделаем, братцы, по-армейски. Не желаете, товарищ Вохминцев, изображать миллионера? Напрасно.
– Помолчи, Костька…
– Ясно. Готов слушать. Что стряслось?
– Ничего. Иди и молчи.
– Не могу! – взмолился Константин плачущим голосом и перчаткою остервенело потеребил ухо. – Приятно прогуливаться весной с хорошенькой девочкой под крендель, а у меня обморожены руки и уши – нахватался сталинградских морозов, хватит! Зайдем куда-нибудь! Хоть в этот знакомый павильончик.
В закусочной, кивая на все стороны знакомым, Константин бесцеремонно-вежливо растолкал стоявших и сидевших за стойками, потеснил кого-то шутя («Братцы, всем место под солнцем»), очистил край столика в углу, крикнул через головы:
– Шурочка, принимай гостей – две кружки!
Пили из толстых кружек, залитых пеной, подогретое пиво; Константин густо посыпал края кружки солью, отхлебывал, вздыхая через ноздри, улыбался от явного удовольствия.
– Ей-богу, Сережка, здесь клуб фронтовиков!
Выло здесь многолюдно, тесно, накурено. Задушенная сизым дымом лампочка мутно горела под потолком. Голоса гудели, сталкивались в спертом пивном воздухе, пахло селедкой, оттаявшей в тепле одеждой, и перемешивались разговоры, смех, крики, не прекращающиеся среди серых шинелей; лишь уловить можно было недавнее, военное, знакомое: «Плацдарм на Одере…», «Под Житомиром двинули танки Манштейна…», «В сорок третьем стояли на Букринском плацдарме, через каждые пять минут играли „ванюши…“, „Бомбежка – чепуха, самое, брат, неприятное – мины…“ Мужские голоса накалялись, гул становился густым, хлопали промерзшие двери, впуская морозный пар, он мешался с дымом над головами людей; из-за столпившихся перед стойкой спин появлялось игривое, румяное лицо Шурочки, звенящей стаканами.
– Клуб, – повторил Константин, подул на шапку белой пены, спросил наконец: – Что все-таки случилось? Чего ощетинился?
– Ерундовое настроение.
– Почему «ерундовое»? Может быть, угрызения совести, что морду набил вчера этому… в «Астории»?.. Плюнь! Но должен тебя предупредить: ты тактически вел себя неосторожно – на рожон лез, пер грудью, как паровоз. – Константин отпил глоток пива, покрутил пальцами в воздухе.
Сергей поморщился, расстегнул на груди шинель (здесь было душно, жарко), сдвинул назад шапку, вынул папиросу; и, прикуривая, чиркая зажигалкой, с ощущением раздражения против Константина, против этой опытной его осмотрительности сказал:
– Ну а дальше?
Константин возвел глаза к потолку.
– Мы еще не живем при коммунизме, и в наше время, как это ни горько, еще волшебно действуют справки и прочие свидетельства. У тебя их нет. Бумажных доказательств. Чем ты можешь козырнуть против него, Сережка? Сейчас орут: все воевали! Докажешь, что не все воевали честно? Не докажешь! Хорошо, что все хорошо кончилось. Плюнь на все это!..
– Еще ничего не кончилось, – перебил Сергей. – Меня вызывают в милицию. Завтра. Я постараюсь доказать все.
Гул голосов все нарастал, двери закусочной беспрестанно хлопали, впуская и выпуская людей, пар, желтея, вздымался от порога, обволакивая лампочку.
– Не советую! Вот этого не советую! – убежденно произнес Константин. – Ни хрена не докажешь. Мы победили, война кончилась, ну кто будет разбираться в перипетиях? Тебе ответят: война – на войне убивают. Кто прав, кто виноват – разбираться поздно. Поверь, Сережка, просто я на год вернулся раньше тебя, пообтерся. Ты еще не обгорел. Этот хмырь не так прост. И на кой он тебе?
– Иногда мне хочется послать тебя подальше со всей твоей опытностью! – сказал зло Сергей. – И уж совсем мне непонятна твоя дружба с нашим милым соседом Быковым!
– Напомню: я работаю у него шофером на фабрике. Следовательно, он – мое начальство. С начальством ссориться – плевать против ветра.
– Идиотство!
Константин с грустным выражением посыпал солью на край кружки.
– Ничего не навязываю. Сказал, что думал. Знаю, знаю, – несколько ревниво проговорил он. – Если бы тебе посоветовал Витька Мукомолов, ты бы с ним согласился. Я для тебя друг второго сорта. Со штампом – «второй сорт». Так ведь? – Константин разминал на пальцах соль.
– Пошли отсюда, – сказал Сергей с неприятным и едким чувством к себе, к Константину. – Надоело.
Они вышли на улицу, изморозь мельчайшей слюдой роилась, сверкала в ночном воздухе.
10
– Я пришел вот по этой повестке. Мой военный билет у вас.
– Так. Вохминцев Сергей Николаевич, одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения… Капитан запаса? Так. Ну что ж… За нарушение порядка в общественном месте вы оштрафовываетесь на двадцать пять рублей.
– И только-то? За этим вы меня и вызвали?
– Вас не устраивает, гражданин Вохминцев? Та-ак! Может быть, вас устроит письмо в военкомат, в партийную организацию, где вы работаете? Произвели безобразие, скандал, избили человека – за это по статье привлекают, судят! Ваше счастье, что человек, ваш товарищ, которому вы нанесли физические увечья, не возбуждает дело. Вы это сознаете?
Майор милиции был молод, розовощек, холоден, на ранней лысине ровно и гладко начесаны волосы; сидел он, углами расставив локти на столе, отгороженном от Сергея деревянным барьером. Неприязненный голос, отчужденно-официальное лицо его не вызывали острого желания доказывать свою правоту: видимо, дежурный майор этот выполнял свои обязанности, верил одним фактам, а не словам, как верит большинство людей, и Сергей сказал сухо:
– Как раз я хотел бы суда. И не хотел бы никакого прощения со стороны этого человека.
– Так, значит? – Майор в некотором недоумении вложил пальцы меж пальцев. – Так… Не больны, гражданин? Или думаете: милиция – игрушечка? Можно говорить, что в голову лезет? Ты посмотри, Михайлов, какие фронтовики приехали! – крикнул он милиционеру, молчаливо стоявшему возле дверей. – Ему штрафа мало, ему суд подавай. Да вы понимаете, гражданин, что говорите? Отдаете отчет?
– Я понимаю, что говорю, – ответил Сергей. – Очевидно, вам кажется, что я ударил этого человека, потому что был пьян или мне просто хотелось ударить…
– Факт есть факт. Не он вас ударил. Простите, гражданин. У меня нет времени… Кажется, все ясно, – служебным тоном прервал майор и положил на барьер военный билет Сергея. – Благодарите судьбу за счастливую звезду. Этакую несерьезность наворотили и оправдываетесь. Неприлично. Вы свободны, гражданин Вохминцев. Я вас не задерживаю. И советую быть разумнее. Не советую портить репутацию офицера.
В интонации майора, в скучном туманном взгляде его появилось сожаление, усталость от этого надоевшего дела, похожего, вероятно, на десятки других дел; и Сергей уже понял это – и все стало мелким, унизительным и неприятным.
– Хотел бы вам сказать, товарищ майор, что дерутся не только по пьянке, – совсем нехотя сказал Сергей. – И тут никакая милиция, никакие штрафы не помогут!
Он вышел на улицу, зашагал по тротуару, вдыхая после кислого канцелярского запаха крепкую свежесть морозного воздуха. Звенели трамваи, и снег, и белизна солнечной мостовой, и толкотня, и пар на троллейбусных остановках, и новогодние игрушки в палатках, и маленькие пахучие елки, которыми везде бойко торговали на углах, – все было предпразднично на улицах. «Что ж, – думал он неуспокоенно, вспоминая разговор с майором. – У меня свои счеты с Уваровым. Это мои личные счеты! Еще ничего не кончено…»
Он сел в автобус и поехал на Шаболовку, в шоферскую школу, куда по рекомендации Константина несколько дней назад подал документы.
Когда ему сказали, что его приняли на курсы, что вечерние занятия начнутся со второго января, он не испытал радости, какой ожидал, только облегчение возникло на минуту. Но лишь вышел он из одноэтажного – в конце двора – домика школы, ощущение это утратилось, и было такое чувство, что он обманул самого себя.
Он доехал на автобусе до Серпуховки, слез и пешком пошел до Зацепы по каким-то неизвестным ему тихим переулочкам. В безветренном воздухе декабрьских сумерек падал редкий снежок, легко и щекотно скользил по лицу, остужал. Под отблеском холодного заката розовели вечерние дворы, грустно заваленные снегом до окон, за воротами виднелись тропки меж сугробов; дворники свозили на волокушах снег.
Мальчишки в глубине темнеющих переулков бегали на коньках, крича, стучали клюшками по заледенелой мостовой. Не зажигались еще огни, был тот покойный час зимнего вечера, когда далекие звонки трамваев долетают в замоскворецкие переулки как из-за тридевяти земель.
Сергей остановился на углу против вывески фотографий.
Фотографии незнакомых людей тянули его, как чужая и неразгаданная жизнь. Долго рассматривал улыбающиеся в объектив и вполоборота девичьи лица, грубоватые лица солдат, каменное рукопожатие вечной дружбы – онемело стоят, сжав друг другу руки.
Задумчивое лицо молодого капитана, рядом наклонена к его плечу завитая, в мелких колечках голова девушки, светлые брови, странно застывший взгляд. И Сергей с ощущением какой-то томительной тайны, казалось, угадывал по фотографии характеры этих людей, их судьбы… Кто они? Где они? Кого они любили или любят?
«Что же я, несчастлив? – думал он. – Не то слово – несчастлив… Работать шофером, жить покойно, тихо, жениться – счастье ли это? Вот этот капитан счастлив?»
11
– Заходи, раздевайся. Я рада, что ты пришел!
Она стала поспешно расстегивать холодные пуговицы его пахнущей зимней улицей шинели.
– Только я не одна. Ты не обращай внимания, заходи.
– Кто же у тебя? – обняв и не отпуская ее, спросил он. – Кто у тебя?
– Идем, – поторопила Нина, – в комнату. Ты меня заморозишь. Шинель повесишь там…
Она раскрыла дверь, и он шагнул через порог в теплый после холода запах чистоты, уюта и покоя, тотчас увидел в углу комнаты зеленоватое от света настольной лампы женское лицо с опущенными на щеку волосами. Она сидела на тахте, и Сергей быстро обернулся к Нине, спросил шепотом:
– Кто это?
– Сережа!.. – испуганно-сниженным голосом воскликнула Нина. – Это Таня, познакомься, пожалуйста, – уже в полный голос сказала она и стремительно подошла к женщине, выпрямившейся на тахте. – Это Сергей!
– Мы знакомы, кажется, – сказал Сергей.
Он сразу узнал ее: белокурые волосы, выпуклый лоб, полные руки; отчетливо вспомнил ее метнувшееся в толпе, искаженное плачем лицо, скомканный платочек, которым она тогда в ресторане, всхлипывая, вытирала щеки Уварова, полулежащего на полу, вспомнил то ощущение виноватости перед ней, какое появилось у него при виде ее заплаканного лица.
– Здравствуйте, – официальным тоном произнес Сергей. – Я не хотел бы…
Она дернулась на тахте, губы ее перекосились.
– Не надо! Не надо! Не говорите, пожалуйста… Я не могу! Не могу слышать…
– Я извиняюсь не перед ним, а перед вами, – сказал Сергей, хмурясь.
– Вы… вы молчите лучше!..
Она вскочила, полная в талии и почему-то жалкая в этой полноте, и, кусая губы, кинулась к вешалке, срывая пальто, пуховый платок. Она протолкнула руки в рукава, накинула платок, оглянулась затравленно.
– Удивляюсь тебе, Нина!
И выбежала, стукнув дверью в передней.
– О господи! – со вздохом проговорила Нина и сжала ладонями виски. – Как странно все, господи!
Сергей стоял посреди комнаты, не снимая шинели.
– Что это значит? – спросил он. – Ты можешь объяснить?
Нина подняла глаза умоляюще, по лбу пошли морщинки, сейчас же щелкнула ключом в двери, сказала виновато:
– Не дуйся, слышишь?
Потом, не приближаясь к нему, подошла к зеркалу, передразнивая его, нахмурила брови и, надув щеки, сделала смешное лицо, показала язык, затем, исподлобья глядя в зеркало, сказала тихо:
– Ну посмотри… Ну иди и посмотри на себя… Какое у тебя холодное лицо! Ну подожди. Я тебе объясню. Таня – моя подруга, еще с института. Это тебе ясно?
И тут уже с улыбкой сняла с него шапку, бросила ее на полочку, после этого стянула шинель, посадила Сергея на тахту возле себя.
– Ну что тут особенного? Вообще, я не люблю объясняться, доказывать то, что ясно и не докажешь. Это напрасная трата душевных сил. Таня ушла, и все. Ну? Ясно? Да?
Он сказал:
– Я хотел спросить: Уваров тоже заходит к тебе?
– Нет! – решительно ответила она. – Почему Уваров? Мы отмечали мой приезд в Москву, Таня привела его в ресторан – так это было. И больше ничего… Ну хватит, пожалуйста! Я ведь не задаю тебе никаких вопросов о твоих знакомых.
– Я хочу, чтобы все было ясно.
– А именно?
– Потому что просто хочу ясности.
– Какой ясности, Сережа?
– Ты понимаешь, о чем я говорю.
– Не совсем, Сережа. Неужели война делает людей жестокими?
– Нина, кто были те, в ресторане… с тобой?..
– Это были мальчики, Сережа, – сказала она протяжно, – мои знакомые по экспедиции. Геологи. Они не такие, как ты… Просто не такие. Они не воевали…
– Но ты ведь меня не знаешь.
– Я догадываюсь. А разве ты меня знаешь, Сережа?
Они помолчали.
– Ты всегда такая? – спросил он неловко. – Не представляю тебя где-нибудь в Сибири, в телогрейке. Наверно, рабочие только тем и занимались, что пялили на тебя глаза.
Она опять с улыбкой посмотрела ему в лицо.
– Ну нет! Ошибаешься! Разве можно пялить глаза вот на такую женщину? – Нина строго свела брови над переносицей, сказала притворным хрипловатым голосом: «У вас, товарищ Сидоркин, опять лоток не в порядке? Где ваши образцы? Почему не промыли?» Ну как? Интересная женщина? Не очень!
Она засмеялась, наклонясь к нему, отвела за ухо завиток каштановых волос, и он, с любопытством наблюдая за непостижимым изменением ее лица, засмеялся тоже, привлек ее за плечи, сказал:
– Услышишь твой голос – и хочется встать «смирно». Еще не хватает: «Вы что, первый день в армии, устава не знаете?» Хотел бы быть под твоей командой.
– Как иногда мы все ошибаемся! – растягивая слоги, проговорила Нина. – Нет, ты меня знаешь чуть-чуть, капельку.
– Я просто подумал: что ты любишь и что ненавидишь? Подумал – не знаю почему.
– Я ненавижу то, что и ты.
– Нина, я не имею права задавать вопросы. И этого не надо.
– Да. Я до сих пор ненавижу ночной стук в дверь, Сережа. И голос: «Откройте, почта…» Самые жуткие слова в мире.
– Почему?
– В войну мне принесли две похоронки. И обе – ночью. На отца и старшего брата. Мать умерла в Ленинграде. Это тебе понятно?
– Да.
– Что же ты еще не понимаешь во мне? – спросила Нина и, помолчав, сама ответила: – Когда вижу почтальонов, я обхожу их. Я ненавижу ночь, я боюсь войны. И то, что многие женщины еще носят телогрейки и сапоги, а я платья и туфли, – это тебе понятно? Мне не так легко жилось… И живется. Как хочется тишины, Сережа!..
– Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя? За что? – Он обнял ее, увидел на ее плече, на сером свитере темное пятнышко грубой штопки, выговорил шепотом, задохнувшись от нежной жалости к ней: – Я не осуждаю тебя. Ты так подумала?..
Она потерлась щекой о его подбородок и молчала, закрыв глаза.
Потом он услышал ровные и отстукивающие звуки, они казались все отчетливее, громче, и Сергей невнятно понял – тикал на тумбочке будильник. Будильник шел, спокойно и четко отсчитывая секунды, как в то утро. И, на миг пронзительно ясно ощутив оглушительную тишину в комнате, Сергей подумал, что нечто важное вот придвинулось и происходит в его жизни, чего он хотел и ждал, – и, подумав об этом, почувствовал дыхание Нины на своей шее, и ослабление прозвучал ее голос:
– Но ведь тебя могли убить на войне, и ты бы никогда…
– Нет… – сказал он.
– Нет?
– Меня не могли убить на войне.
Она прижалась к нему и замерла так, глядя через его плечо на черное занавешенное окно.
– Подожди. Ох, иногда как страшно подумать…
– Но видишь, со мной ничего не случилось. Я не верил, что меня убьют.
– Как ты думаешь теперь жить, Сережа?
– Я тебе говорил – шоферская школа. Буду шофером, плохо? Мне кажется, это тебе не особенно нравится.
– Ты можешь быть и шофером, – сказала Нина. – Но я знаю, в Горнометаллургическом институте открылось подготовительное отделение. Охотно принимают фронтовиков. У меня есть знакомые в этом институте.
– Нина, я забыл таблицу умножения, пятью пять для меня сорок. Забыл все к чертям. Не усижу за партой. А что это – шахты?
– И шахты.
– Понятия не имею. В шахтах добывают уголь, так?
– Просто блестящие знания, тебя примут без экзаменов. Но я сужу, конечно, только со своей колокольни. Ты подумай. Я не могу тебе ничего советовать.
– Я сейчас не хочу об этом думать… Я просто не могу.
Он нетерпеливо притянул ее к себе, чувствуя горячую колючесть ее свитера и почему-то видя все время то пятнышко грубой штопки на плече, осторожно поцеловал ее в теплые волосы.
– Не знаю, что же это… – проговорил он неровным голосом. – Кто ты такая? Зачем я к тебе пришел? Ты это знаешь? Понятия не имею, кто ты такая. И вообще – что происходит?
– Обыкновенная и некрасивая женщина, Сережа. Восемнадцать лет уже миновало, как говорят теперь мужчины. И больше ничего.
– Ты этого, конечно, не понимаешь, и я сам не понимаю, – сказал Сергей намеренно шутливым тоном. – Но я бы все понял, если бы ты пошла за меня замуж. Пойдешь?
– Нет. – Она, смеясь, провела пальцем по его груди. – А кто ты такой?
– Кто я? Бывший командир батареи, а сейчас человек без определенных занятий. Беден. Холост. Но без памяти тянет меня к одной женщине. И сам не знаю почему. Вот и все. Кратчайшая биография. Не нужно анкеты.
Она, не смеясь уже, проговорила все-таки полусерьезно:
– Это я знаю. А дальше?
– Что ж… Значит, ты сама не знаешь, что это такое…
– А если это нельзя?
«Что я говорю? Зачем я стал говорить об этом?» – подумал он с мгновенно кольнувшей тревогой, однако преувеличенно спокойно договорил:
– Значит, ты меня не очень любишь, а?
– Сережа-а, – шепотом сказала Нина, снизу взглядывая ему в глаза. – Я тебя вот так… – И наклонилась, чуть прикоснулась губами к своей руке. – Не понял?
– Нет.
– Хорошо. Ты хочешь, я тебе скажу?.. – проговорила она, легонько дернув за борт его пиджака. – Хочешь?
– Я этого хочу.
– У меня есть муж, Сергей. Геолог. Он в Казахстане. В Бет-Пак-Дале. Но я ушла…
– Муж? И ты ушла? – спросил Сергей, следя за тем, как она все распрямляла, теребила борт его пиджака.
– Не будем портить друг другу настроение. – Ее ладонь уместилась на его рукаве, погладила ласково. – Не будем думать об этом, Сережа. Разве тебе не все равно?
– Я просто этого не знал, – сказал Сергей вполголоса.
Два часа спустя он возвращался домой; он быстро шел один по улице, ночной, снежной, безмолвной, ледяными вспышками сверкал иней на карнизах, на ручках парадных; лунный свет накалял воздух синим холодом.
«Мне все равно, был у нее муж или не был и есть ли он сейчас, – думал он. – Я люблю ее. Да, я люблю ее. И больше ничего не надо… Я хочу, чтобы мне везло. Во всем везло. Как везло на войне…»




