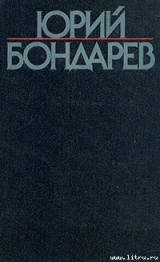
Текст книги "Тишина"
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ба-атюшки светы, такой молодой! – ахнул в толпе голос. – Грехи наши, господи!..
Сергей невольно оглянулся, увидел в черном пуховом платке сморщенное старушечье личико, жалостливо мигающие веки, ему стало смешно.
– Не беспокойтесь, бабушка. Я вернулся с надеждой жить сто лет. Сто лет и три года.
– Сдается мне, товарищ капитан… – неожиданно проговорил парень и наморщил лоб. – Мы с вами нигде не встречались? Голос и лицо вроде знакомы… А?
– Слушай, и мне кажется, я тоже тебя где-то… – вполголоса ответил Сергей, вглядываясь в дернувшееся лицо парня. – Ты был на переправе в Залещиках? На Днестре? Был?
Бросив колоду карт, тот медленно привстал, не отводя от глаз Сергея растерянного взгляда. По толпе прошелестел шумок удивления; кто-то прерывисто-длинно вздохнул, старушка в пуховом платке набожно зашевелила губами, мелко перекрестилась; засуетившись, локтем пощупала, прижала к боку свою кошелку, попятилась – и тотчас стали расходиться люди, улыбаясь с сомнением, – все могло быть здесь разыграно: рынок не вызывал доверия.
– Не был я на Днестре, – выговорил парень. – Может, на Одере, на Первом Белорусском. В разведке. Я в полковой разведке…
– Мы шли через Карпаты, в Чехословакию, – ответил Сергей, еще минуту назад веря, что они где-то встречались.
– Обознались! – засмеялся парень и разочарованно повторил: – Обознались, значит! Эх, елки-палки!..
Сергей смотрел на его узкий, решительный, с горбинкой нос, на его медали под распахнутой телогрейкой – был он похож на тот заметный на войне тип людей, о которых говорят: этот не пропадет.
– Сколько зарабатываешь тут в день?
– Полсотни. – Парень запахнул телогрейку. – Инвалид второй группы. Пенсия – с воробьиный нос. Чихнуть дороже!
– У меня только тридцатка. Возьми, – проговорил Сергей. – На кой тебе этот цирк! Придумать что-то нужно.
– Ежели бы эту тридцатку на год! – едко хохотнул парень. – С тебя, капитан, денег не возьму. С тыловиков беру.
– Сергей, давай сюда!
От забора к палаткам быстро шел Константин, с веселым видом призывно помахивая снятыми перчатками.
– Ну как? – спросил Сергей.
– Все в порядке. Можешь швырять чепчик в воздух, Не полторы, а две косых дали за твои часики. – Константин перчатками похлопал по боковым карманам. – Здесь твои – две, здесь мои – пять. Вернули долг.
– Кто вернул? – Сергей взглянул на забор, где стояли люди возле чемоданчиков. – Те двое, в телогрейках?
– Долго объяснять. Не все ли равно? Пошли, выберу костюм. Только прошу – в торговлю не лезь. Все испортишь. Кстати, тебе пойдет строгий цвет. Ну, темно-серый. Верно?
– Этого я не знаю.
3
В комнате Константина было жарко натоплено.
Сергею нравилась хаотичная теснота этой комнаты с ее холостяцкой безалаберностью, старой мебелью; громоздкий книжный шкаф, потертый диван, на котором валялись кипы английских и американских военных журналов, голливудских выпусков с фотографиями улыбающихся кинозвезд, и везде были беспорядочно разбросаны книги на креслах, висели галстуки на спинках стульев; раскрытый патефон стоял на тумбочке – веяло от всего чем-то полузабытым, мирным, довоенным.
Сергей лежал на диване, распустив узел нового галстука, рассеянно листал затрепанный иллюстрированный» журнал сорок второго года. Константин брился перед зеркалом в белейшей, свежей майке, задирая намыленный подбородок, говорил, указывая глазами на книги:
– Все это покупал на Центральном рынке, когда вернулся. Два месяца лежал на этом диване и читал, как с цепи сорвался. Хотелось копнуть жизнь по книгам. Запутался к дьяволу – и пошел в шоферы. То, что говорили нам в школе о жизни, – примитивная ерунда. Помнишь, только думали о подвигах на пулеметной тачанке. «Если завтра война…» Красиво несешься на тачанке в чапаевской папахе и полосуешь из пулемета. «Полетит самолет, застрочит пулемет, и помчатся лихие тачанки…»
Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, будто рассеивая пулеметные очереди.
– Какими романтичными сопляками мы были! – снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стаканчика пену. – Сейчас мне ясно почему. Вспомни: везде побеждали – челюскинцы, рекорды летчиков, Стаханов. В этом-то и дело. О, все легко, все доступно! И наше школьное поколение жило, как на зеленой лужайке стадионов. Нас приучали к легкой победе. Но зачем? А, бродяга! – Константин наклонился к зеркалу, пощупал щеку. – Режется, кочерга несчастная! Выпускают лезвия как для лошадей. А войну выиграли, леший бы драл, большой кровью. Не дай бог нам этих зеленых лужаек!
– Противоречишь сам себе, – сказал Сергей, рассматривая на обложке молодого светловолосого оберста, из бронетранспортера в бинокль глядящего на солнечно-снежный пик Эльбруса. – Мне хочется, чтобы вернулось то время. Но без криков «ура». По каждому поводу. Я хотел бы еще пожить в то время, среди ребят…
Он отбросил журнал, заложил руки под голову, стал глядеть в потолок на абажур, наполненный зеленым огнем. Было тихо, тепло. Сквозь зашторенное окно отдаленно, слабо донесся шум и звон трамвая. Сергей с размягченным задумчивым лицом прислушался к этому быстро стихшему шуму, долетевшему сюда, во двор, через вечерние заснеженные крыши замоскворецких переулков, сказал:
– Иногда вот так, как сейчас, лежишь ночью, а на улице где-то прозвенел трамвай, и вдруг вспомнишь школу, метель, сидишь у окна, дребезжит стекло, последний урок… Витька Мукомолов сидит рядом, рисует яхты. Хотели пойти в мореходку, в торговый флот… Черт знает о чем только мы с ним не мечтали.
Константин в зеркале посмотрел на Сергея, двумя пальцами погладил выбритый подбородок.
– Я понял так: ты хотел, чтобы то вернулось?
– Может быть, – ответил Сергей.
– А мне кажется – только начинаю жить. Понял, Сережа? Только начинаю!
Рывком Константин стянул майку, перекинул полотенце через плечо, вышел на кухню. Стало слышно в тишине, как зашепелявила вода в кране, звонко полилась, заплескала в раковину, как принялся фыркать, звучно шлепать себя ладонями по телу Константин, восклицая: «Ах, хорошо, дьявол! Отлично! Превосходная штука – вода!» Видимо, он испытывал возбуждение и удовольствие не только потому, что был здоров, крепок, но и оттого, что многое было отчетливо ясно ему, раз и навсегда понято в жизни, точно все знал, что надо делать, – и Сергей подумал с удивлением: Константин в чем-то опытнее его, может быть, потому, что вернулся он раньше. И от этой его легкой уверенности возникало ощущение покоя, не хотелось думать о том, что не было решено и было туманно, непонято.
– Долго будешь плескаться? – сказал Сергей задумчиво, хотя сам все время чувствовал странную тягу к воде, как будто хотелось смыть прошлую окопную грязь, пот, едкую гарь – порой даже казалось, что от рук все еще дымно пахнет порохом.
– Ах, дьявол! Ах, здорово, ах, вундершен! – ахал Константин, умываясь, и крикнул из кухни: – Я тебе покажу сегодня, Серега, роскошную жизнь! Завалимся в ресторан. В «Асторию»! Будем жить по коммерческим ценам!
Сергей снял со спинки стула, надел легкий, шелестящий серебристой подкладкой пиджак и, затягивая галстук, подошел к зеркалу. Он разглядывал себя внимательно. Костюм шел ему, был лишь немного тесен в плечах, облегал фигуру, как китель; это ощущение (не хватало тяжести пистолета на боку) было ему знакомо.
Было незнакомо лицо – сильно обветренное, с новым, чуть смягченным выражением, от которого за четыре года он словно отвык, белая сорочка подчеркивала грубую темноту лба, шеи, темноту глаз.
– Комильфо, вернувшийся в свет, – сказал Сергей, с грустным интересом узнавая и не узнавая себя.
Никогда до войны он не носил ни галстуков, ни хороших костюмов, вернее, не успел носить, и сейчас в этом шелковом галстуке, модном костюме, чудилось ему, было нечто полузабытое, далекое, когда-то вычитанное из книг.
– Костя! – позвал Сергей неуверенно. – Оценивай и рявкай «ура». – И рукой провел по поясу, вроде бы машинально поправлял на ремне кобуру пистолета. – Ну как?
Причесывая мокрые волосы, вошел Константин, весь обновленный, свежий, смуглый румянец проступал на скулах, очень серьезно осмотрел Сергея, дунул на расческу, сказал:
– Наверно, и перед свадьбой, – если когда-нибудь женимся, то, целуя невесту, будем хвататься за пистолет на заду… А костюм великолепный. И сидит здорово. Ты в нем красив. Девочки будут падать направо и налево. Только галстук, галстук! – воскликнул Константин и захохотал. – Нелепость в квадрате! Не то коровий хвост намотал на шею, не то шею на коровий хвост. Дай-ка завяжу.
– Ладно, действуй, – согласился Сергей, подставляя шею.
Константин ловко завязал Сергею галстук, затем застегнул пуговицы на его костюме и посоветовал:
– Ты не скромничай. Надень ордена. Все, до последней медали. Сейчас их носят все.
– Обязательно портить костюм?
– Это принципиально добровольно.
– Хорошо. Надену все – те, что дороги, и те, что не дороги!
Константин пожал плечами.
– У тебя есть такие?
– Трудно заработать первый орден.
Они вышли на улицу. К вечеру заметелило. Снег порывисто вместе с дымом сметало с крыш, густой наволочью стремительно несло вдоль домов, заметенных подъездов.
4
Огромный зал «Астории» встретил их нетрезвым шумом, жужжанием голосов, суетливой беготней официантов между столиками – той обстановкой зимнего вечера, когда ресторан полон, оркестр устал и музыканты, неслышно переговариваясь, курят, сидя за инструментами на эстраде.
Они, скинув шинели в вестибюле, вошли после холода в зал, в теплое сверкание люстр и зеркал, в папиросный дым, и эта обстановка гудящего под блеском огней веселья оглушила, ослепила в первую минуту Сергея, как и утром сегодня хаотичная толпа Тишинского рынка.
Стоя среди прохода, он оглядывал столики, эту пестроту ресторана с чувством растерянности и ожидания. Здесь было много военных всех званий – от лейтенанта до генерала, были здесь и безденежные штатские в потертых, но отглаженных костюмах, и полуголодные студенты, получившие стипендию и скромно делящие один салат на четверых, и темные личности в широких клетчатых пиджаках, шумно пьющие водку и шампанское в компании медлительных девушек с подведенными бровями.
Свободных столиков не было. Константин, слегка прищурясь, скользнул взглядом по залу, сейчас же уверенной походкой подошел к стоявшему у крайнего столика седому метрдотелю и тихо и внушительно сказал что-то. Метрдотель как бы проснувшимися глазами скосился из-за плеча Константина на Сергея, кивнул ему издали и, солидно откинув голову, повел их в глубину зала.
– Прошу вас сюда, – сказал он бархатным баритоном, передвигая на столике чистый прибор. – Единственный столик. У нас в эти часы очень много посетителей. Кондеев! – строго окликнул он пробегавшего мимо сухопарого официанта. – Обслужите, будьте любезны, фронтовиков… Располагайтесь.
– Прекрасно, – сказал Константин. – Благодарю вас.
Они сели.
– Как тебе удалось в такой толкучке? – спросил Сергей, когда метрдотель с достоинством занятого человека отошел от них.
Константин развернул меню, ответил улыбаясь:
– Иногда не нужно умирать от скромности. Я сказал, что ты только что из Берлина. И как видишь, твой иконостас произвел впечатление. Результат – вот он. Как говорится, шерсти клок.
– И это неплохо, – сказал Сергей.
Он посмотрел на ближние столики. Багровый, потный человек с налитой шеей, на лацкане тесного пиджака – орденские колодки, быстро жевал, одновременно разговаривая, наклонялся к двум молоденьким, вероятно только что из училища, младшим лейтенантам. Младшие лейтенанты, явно смущенные бедностью своего заказа, отхлебывали из бокалов пиво, растерянно хрустели убогой соломкой; сосед их, этот багровый человек, пил водку, аппетитно закусывал ножкой курицы и, доказывая что-то, дирижировал ею.
Сергей перевел взгляд, мелькнули лица в дыму, и ему показалось – недалеко от эстрады девушка в сером костюме поглядела в его сторону с чуть заметной улыбкой и тут же снова заговорила о чем-то с молодыми людьми и полной белокурой девушкой, сидевшими рядом за столиком возле колонны. Сергей сказал серьезно:
– Посмотри, Костя, у меня слишком пресная вывеска? Или идиотское выражение?
– Не нахожу, – произнес Константин, деловито занятый изучением меню. – А что? Обращают внимание? Пожинай славу. Молодой, красивый, весь в орденах. И с руками и ногами. – Он проследил за взглядом Сергея, спросил вскользь: – Вон та, что ли, со вздернутым носиком? Ничего особенного, середняк. Впрочем, не теряйся, Серега.
– Циник чертов.
Лавируя между столиками, подошел сухопарый официант, озабоченно махнул салфеткой по скатерти, сказал с приятностью в голосе:
– Слушаю, товарищи фронтовики…
– Бутылку коньяку – это во-первых… Какой у вас – «старший лейтенант», «капитан»?
– Есть и «генерал», – ухмыльнулся официант, вынимая книжечку для записи заказов. – Все сделаем.
– Тащите сюда «генерала». И сочините что-нибудь соответствующее. От вашей расторопности зависит все дальнейшее.
– Одну минутку. – И официант понесся в проходе среди столиков.
– У меня такое впечатление, что ты целыми днями торчишь в ресторанах, – сказал Сергей. – Пускаешь пыль в глаза, как миллионер!
– А, гульнем, Сережка, на всю катушку, чтоб дым коромыслом. Не заслужили, что ли?
– Когда ехал от границы по России, – проговорил Сергей, – почти везде керосиновые лампы, разрушенные станции, сожженные города – страшно становилось.
– Мы победили. Сережка, и это главное. Что ж, придется несколько лет пожить, подтянув ремень.
– Несколько лет?..
Внезапно заиграла музыка, зазвучали скрипки, говоря о печали мерзлых военных полей. В тени эстрады стояла певица с худеньким, бледным и стертым лицом, руки подняты к груди.
Я кручину никому не расскажу,
В чистом поле на дорогу упаду.
Буду плакать, буду суженого звать,
Буду слезы на дорогу проливать.
В зале нервно покашливали. «Что это? Кажется, еще и война не кончилась?» – подумал Сергей, сжатый волнением, видя, как внимательно вглядывались в эстраду молоденькие младшие лейтенанты и, уставясь в одну точку, размеренно жевал багровый человек.
– «Буду плакать, буду суженого звать». Ничего гениального. А просто нервы у нас никуда, – услышал он голос Константина.
Тот разливал коньяк в рюмки, покусывая усики; поставил преувеличенно твердо бутылку на середину стола.
– Я понял одно: прошли всю войну, сквозь осколки, пули, сквозь все. И остались живы. Наверно, это счастье, а мы его не ценим. Так, может быть, сейчас, когда мы, счастливцы, остались живы, она нас подстерегает, глупая случайность подстерегает. На улице, за углом, на самолете, в какой-нибудь неожиданной встрече ночью. Остерегайся случайностей. Не летай на самолетах – бывают аварии. Не рискуй. Только не рискуй. Мы всю войну рисковали. Только не рискуй по-глупому.
Сергей, нахмурясь, выпил коньяк, сказал:
– Если бы я понял, что должен сейчас делать! На войне я рисковал, и в этом была цель. Я часто иду по улицам и завидую дворникам, убирающим снег. Уберет снег во дворе и войдет в свою жарко натопленную комнату, к семье. Что ж, пойти в институт? В какой? Да мне кажется, я не смогу учиться. Я завидую людям с профессией, каждому освещенному окну по вечерам. У тебя бывает такое?
– У меня? – Константин засмеялся. – Ты счастливец. Остался жив. Вся грудь в орденах. В двадцать два года – капитан. Перед тобой все двери распахнуты! У меня! – повторил он, хмыкнув. – Я, очевидно, не обладаю тем, чем обладаешь ты. Мы живы. Разве это не счастье, Сережка? Слушай, ну ее к дьяволу, болтовню. Пойдем танцевать. Танго. Здесь вперемежку – военные песни и танго. Выбирай любую, кто понравится. Кого бы мне выбрать на сегодня?
Константин подтянул спущенный узел галстука, встал, оглядел соседние столики. Сергей видел его гибкую походку, его небрежную беспечность, когда он приблизился к какому-то столику, и то, как наклоном головы он смело пригласил тонкую темноволосую женщину, и она охотно пошла с ним. «Он живет ясно и просто, – подумал Сергей. – Он понял то, чего не понял я. Да, мы остались живы, – это, вероятно, счастье. Странно, я об этом не думал даже после боя. А вот когда нет опасности, мы думаем об этом. Случайность?.. Какая случайность? Ерунда! Вся жизнь впереди, что бы со мной ни было. Мне только двадцать два…»
И он с острым, пронзительным сквознячком ожидания взглянул на женщин, которые еще не танцевали.
Девушка в узком сером костюме сидела спиной к эстраде, говорила что-то, пальцами поглаживая высокую ножку бокала, молодые люди слушали молча, глядели на ее оживленное лицо.
«Я сейчас приглашу ее»… – подумал Сергей и, когда решительно подошел к столику, произнес негромко; «Разрешите?» – она повернулась, со вниманием посмотрела снизу вверх прозрачно-зелеными глазами, спросила удивленным голосом, обращаясь к молодым людям:
– Вы мне разрешаете?
Они, не отвечая, натянуто вежливо разглядывали Сергея, и он, понимая, что помешал им, все же сказал самоуверенно:
– Простите, но, думаю, они разрешат.
– Тогда танцуем все, – проговорил один из молодых людей. – Если уж…
– Правда, я плохо танцую, – с улыбкой сказала она Сергею и встала.
Когда она, положив руку ему на плечо, пошла с ним, подчиняясь ему, слабо прижавшись грудью, задевая его коленями, он удивился условности людских взаимоотношений, – эти когда-то выдуманные людьми танцы неуловимо разрушали человеческую разъединенность; он чувствовал ее сильные пальцы, сжимавшие его руку, будто была она давно знакомой, близкой ему, и вместе с тем чувствовал некоторую ее и свою неловкость от этих движений близости. Он видел морщинку на ее лбу, глаза чуть-чуть настороженно смотрели ему на грудь.
– Странно… – проговорил он.
– Что же странно?
Она вопросительно подняла взгляд. «Может быть, это и есть то, что я хотел? – подумал он, увидев ее зрачки. – Ничего не надо. Только это. Только вот так…»
И вдруг все исчезло. Это было мгновение, которое он не уловил. Он только посмотрел в зал, желтый от дыма, и тотчас же, как от удара, оборвалась, смолкла музыка, и он словно мгновенно опустился в вязкую глухоту, чувствуя, как пальцы в его руке шевельнулись, близкий голос спрашивал о чем-то. Он даже улыбнулся этому голосу, что-то сказал, не понимая слов, и когда говорил и улыбался, то подумал: «Еще раз повернуться… возле крайних столиков, посмотреть. Я не мог ошибиться…»
Около крайних столиков он повернулся.
К этим столикам возле колонны шел человек в кителе без погон, белело при свете люстр холеное полное лицо, гладко зачесанные светлые волосы, ранние залысины над высоким лбом. Человек этот сел; женская сумочка, блестя лаком, лежала на краю столика. И Сергея удивило то, что столик этот был вблизи стола, за которым только что сидели молодые люди, и он раньше не заметил это знакомое лицо. И сейчас, облокотившись, человек этот, казалось, в рассеянности подносил папиросу ко рту, следил за танцующими.
Нет, он не мог ошибиться, не мог. Кто это – командир батареи капитан Уваров? Это он…
«Я сейчас подойду к нему, сейчас все кончится – и я подойду к нему, – вспышкой мелькнуло у Сергея. – Я подойду к нему…»
– Что вы?
И он очнулся, будто вынырнул из горячей пустоты, ощутил нажатие чужих пальцев на своем плече, и опять его словно обдуло ветерком – ее смеющийся голос:
– Вы перестали танцевать. Мы ведь стоим. Это что – новый стиль?
– Да, да… – машинально выговорил он, так же машинально отпустил девушку, договорил почти беззвучно: – Простите… – И не увидел, а почувствовал, как кто-то пригласил ее тут же.
Всего пять метров, несколько шагов было до того столика, где сидел человек с полным белым лицом, было несколько шагов осенней карпатской грязи, засосавшей орудия, тела убитых, сброшенные в воду лотки со снарядами. Там среди убитых лежал на станинах раненый лейтенант Василенко…
Крупная рука этого человека поднесла папиросу ко рту. Потом он, раздумчиво сдвинув брови, налил в бокал боржом. Не отводя глаз от танцующих, выпил, медленно вытер губы салфеткой. Помнил ли он сожженную деревню Жуковцы? Ночь в окружении и страшное серое октябрьское утро в Карпатах, когда орудия увязли на лугу и немецкие танки расстреливали их?..
Он курил и отхлебывал боржом, лицо исчезало в дыму, маленькая лаковая сумочка лежала на краю стола рядом с его локтем. Чья это сумка – жены, знакомой? Она, видимо, танцевала с кем-то.
– Капитан Уваров!..
Сергей не услышал своего голоса, только понял, что сказал это после того, как человек этот, вскинувшись, двинул локтем по столу, от движения бокал с боржомом опрокинулся на скатерти.
– А, ч-черт! – выругался он и, перекосив губы, закрыл мокрое пятно салфеткой. – Что вам? – спросил громко, обтирая сумочку. – В чем дело?
– Не узнаете? – сказал Сергей чересчур спокойно. – Правда, я не в военной форме. Трудно узнать.
– Подожди… Подожди, что-то я припоминаю… что-то в тебе знакомое… – заговорил Уваров; голубые его, покрасневшие глаза сверху вниз метнулись по лицу Сергея, по его груди, и что-то дрогнуло в них. – Капитан Вохминцев? Ты?! – налитым изумлением голосом воскликнул Уваров, вставая; раскатисто захохотал, протянул через стол руку. – Ты здесь? Демобилизовался? Из Германии?..
Сергей стоял не шевелясь; глядел на уверенно протянутую ему широкую ладонь, и в ту же минуту в его сознании мелькнула мысль, что Уваров все забыл, и, чувствуя холодный, колющий озноб на щеках, стянувший кожу, сказал тихо:
– Сядем. Поговорим. Я демобилизовался, – хрипло добавил он. – Из Германии.
И Уваров, отдернув руку, опустился на стул, сказал резким, командным голосом:
– Что за чепуха, хотел бы я знать! Не узнаешь? Контужен? Ты что?
– Мы никогда не были на «ты», – сказал Сергей, напряженно, неторопливо закуривая, с удивлением видя что руки его дрожат. – Мы не были друзьями.
– Ах, дьявол! – качнув головой, преувеличенно весело засмеялся Уваров и откинулся на стуле. – Обиделся, что ли? Все ерунда это! Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на «ты». А? И не будем показывать свою интеллигентность!
Уваров поставил перед Сергеем рюмку, потянулся за графинчиком, добродушно морщась, но в то же время голубизна глаз стала жаркой, мутноватой, и по тому, как он внезапно захохотал и потянулся за графинчиком, угадывалось настороженное беспокойство в кем.
– Не пью, – проговорил Сергей, отодвинув рюмку.
– Да ты что? Трезвенник? Нич-чево не понимаю! – досадливо поразился Уваров. – Встречаются два фронтовика, один не пьет, другой обижается, у третьего печенки, селезенки. Что происходит с фронтовиками? – Он накрыл своей ладонью руку Сергея, спросил с доверительным простодушием: – Может, перехватил уже. Давно здесь веселишься?
– Брось, Уваров! Ты все помнишь! – сухо произнес Сергей и высвободил руку из горячей тесноты его ладони.
Уваров с судорожной усмешкой спросил медлительно:
– Ты пьян?
– Помнишь, на станинах лежал Василенко, когда я со взводом вытаскивал орудия из окружения? Помнишь?
– Ты пьян, – через зубы выговорил Уваров и, оглядываясь, крикнул зычно: – Метрдотель, подойдите ко мне!
Он встал, застегивая китель.
За соседними столиками посмотрели в их сторону. Сергей твердо сказал:
– Если ты позовешь метрдотеля, я выйду на эстраду и скажу, что ты убийца. Я это сделаю.
– Ты что? – злым шепотом спросил Уваров, снова тяжело садясь. – Будешь вспоминать Жуковцы? Будешь перечислять фамилии убитых? Обвинять меня? Нет, милый, надо обвинять войну. Так ты можешь обвинить половину строевых офицеров, в том числе и себя. У тебя гибли солдаты? А? Гибли?
– В одну могилу врагов и друзей не положишь, – сказал Сергей с трудом. – Братской могилы не получится. – Он глубоко затянулся дымом, чтобы перевести дыхание, договорил отчетливее: – Ты сам взялся поставить батарею на прямую наводку, не зная, где немцы. Когда Василенко сказал тебе в глаза, что ты дуб и ни хрена не смыслишь, ты пригрозил ему трибуналом…
– Не было этого! Вранье!
– Вспомни еще – утром танки окружили Жуковцы и прямой наводкой расстреляли людей и орудия. Всех – двадцать семь человек и четыре орудия. Но Василенко даже в болоте стрелял. А ты притворился больным и как последняя шкура просидел сутки в блиндаже. Бросил людей… А потом? Все свалил на Василенко – под трибунал его! Мол, он командир первого взвода, погубил батарею. В штрафной его! Ты, конечно, знаешь, что Василенко погиб в штрафном.
– Вранье!
– Ты отправил Василенко в штрафной. А в штрафной должен был пойти ты.
– Вранье!
Уваров стукнул кулаком по столу, лицо его туго набрякло, точно мгновенно постарело, потемнели мешки под веками, лоб и залысины облило потом: голубые, с красными прожилками глаза скользили то по груди Сергея, то по залу, и вдруг он подался вперед, крепко потер крутой подбородок, неожиданно со сдержанной досадой заговорил:
– Ну чудак ты, ей-богу! Если была какая неразбериха – на то война. Не косись, брат, на меня; я не хуже и не лучше других. Ты считаешь меня своим врагом, я тебя – нет. Просто думаю: ты хороший парень. Только мнительный. Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы… ко всем матерям это!.. Глупых смертей было много. Война кончилась – бог с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и все забыть!
Он повторил «все забыть» и словно успокаивался, голос набирал осторожную фамильярную мягкость, рука легла на стол, быстро вправо-влево погладила скатерть, в эти движения будто хотели пригладить, сравнять все, что было осенью сорок четвертого года в Карпатах. Будто не было того октябрьского рассвета, залитого дождями луга, неудобно и страшно затонувших в грязи трупов солдат, четырех орудий, в упор разбитых танками. Василенко лежал на станинах, одной рукой прижимая скомканную, потемневшую пятнами шинель к плечу, в другой побелевшими пальцами со всей силы стискивал масленый ТТ, дико выкрикивал: «Где он?.. Я прикончу эту шкуру… В штрафной пойду, а прикончу!..» – и плакал глухо, беспомощно.
Была тишина. Она пульсировала в ушах. Сергей почти физически почувствовал сырой запах гнилой воды луга, гнилого тумана, размокших шинелей, крови и чесночный запах немецкого тола… Тишина оборвалась.
Играл оркестр оглушающе беспрерывно, бил очередями барабан, вибрировала труба.
– Тебя не судили потому, – как сквозь ледяную стену, пробился к Сергею собственный голос, – что меня ранило на второй день на перевале. Я знал цену Василенко и цену тебе. Ты всегда боялся меня, когда стал командовать батареей.
– Я? Боялся тебя? Я тебя никогда не боялся и сейчас не боюсь, сопляк! – Щеки Уварова стали молочно-бледными. – Все понял? Или не понял?
– Нет. Теперь я тебя нашел.
Молчание. Оркестр не играл. Как из-за тридевяти земель, просачивались ватные голоса. Мимо столика тенями шли люди. Говорили… Отодвигались стулья… Что это, кончился танец? Скорее… Сейчас подойдет эта женщина, чья сумочка, блестя лаком, лежала на столе. Скорее… Это мужское, не женское дело. Здесь никто не должен вмешиваться.
– Теперь я тебя нашел, – повторил Сергей, разделяя слова. – Я ничего не забыл.
Уваров вдруг навалился грудью на стол, глаза сузились возбужденно.
– Если ты… если ты встанешь… поперек моей дороги… Я тебя сотру! Понял, Вохминцев? Понял? Ты меня знаешь!
Сергей видел, как совсем немо шевелились тонкие губы Уварова, крупная его рука нервно соскользнула со стола, потянулась к заднему карману. «Что ж, у него может быть оружие… он мог не сдать оружия», – мелькнуло в сознании Сергея, и с какой-то возникшей ненавистью к шевелению его тонких губ, к полным щекам он сказал тихо, презрительно:
– Для этого… ты трус. – И добавил еще тише: – Встань!
– Что-о?
– Встань!
Уваров поднялся, и в то же мгновение Сергей резко и коротко, снизу вверх, ударил его по лицу, вкладывая всю силу в удар, ощутив на руке мясистое и скользкое, тотчас увидел отшатнувшееся медово-бледное лицо, запрыгавший подбородок Уварова. С треском отлетел из-под его большого тела стул к соседнему столику, от толчка со звоном опрокинулись рюмки на столе. Уваров, охнув, хватая руками воздух, упал на ковер в проходе, ошеломленно провел ладонью по носу, глянул на нее бессмысленным, тупым взглядом и, переводя глаза на Сергея, издав горлом захлебнувшийся звук, прохрипел рыдающе:
– Держите его… Держите его…
Сергей стоял подле столика не отходя. Он стоял, как в пустоте, и лишь видел в этой туманной пустоте круглые глаза Уварова, ожидая, когда он встанет. Уваров не вставал. Размазывая кровь по полным щекам, он лежал на боку на ковре и, раскачиваясь, повторял задыхающимся слабым криком.
– Он меня изуродовал… Держите его!.. Он меня изуродовал! Держите его!..
– Подлец и сволочь! – отчетливо проговорил Сергей, повернулся и спокойными, очень спокойными шагами пошел к своему столику.
Он смутно различал чернеющую толпу перед собой, какое-то движение, крики, возмущенные взгляды, обращенные на него. Кто-то с багрово-красным лбом крепко охватил его руку, старательно повис на плече, засопел в ухо. Сергей вырвал руку, взглянул в пьяные зрачки этого негодующего багрового человека, сказал: «Не лезьте не в свое дело, разберется милиция», – и тут же услышал за спиной женский плач, оглянулся: полная белокурая девушка, исказив сдерживаемым плачем губы, наклонилась над Уваровым, что-то спрашивала его, трясущимися руками платочком вытирала ему щеки. И с неприятным ощущением увидел он в толпе возле нее ту, с которой только что танцевал. Уваров замедленно поднялся. В тот же миг кто-то схватил Сергея за плечо, послышался голос Константина. Протиснувшись сквозь толпу, он, потный, стал перед ним; в лице его, в блестящих глазах – волнение, готовое сейчас же обернуться помощью.
– Что случилось? Ты кого или кто тебя?
– Ничего, – сказал Сергей. – Пошли.
– Хулиган! – крикнул кто-то в спину ему. – Орденов полна грудь, а хулиганит! Безобразие! Позовите милицию! Убил человека… Здесь не фронт – кулаками махать! Фронтовиков позоришь!
Он увидел багрово-коньячное лицо того человека, который минуту назад цепко задержал его за руку; багровый кричал что-то, бровки гневно взлетали – он забегал вперед, толкаясь, сновал среди людей, жаждал деятельности, возмущения, наказания. Сергей со злостью оглядел его рыхлую фигуру – от новеньких тупых полуботинок до фальшивой рубиновой булавки в немецком галстуке, – молча оттолкнул его.
Они сели за свой столик. Сергей был бледен, внешне спокоен, горячие струйки пота скатывались из подмышек, он подтянул галстук и, чтобы не вздрагивали пальцы, выдернул папиросу из коробки, сильно сжал ее. Константин, как бы все поняв, чиркнул спичкой, дал прикурить ему, проговорил с успокаивающей невозмутимостью:
– Потом все расскажешь. Вытри пот с висков. Полное спокойствие. Придется дело иметь с милицией.
– Я этого и хочу, – сказал Сергей.
Он жадно выпил бокал ледяной фруктовой и опять отчетливо представил лежащего на ковре Уварова, искривленные плачем губы полной некрасивой девушки – вспомнил и слегка поморщился. «Кто она ему – сестра, жена?» – подумал он без жалости к Уварову, с болезненной жалостью к ней, к ее некрасивому, искаженному болью лицу. «Что это я? – спросил себя Сергей. – Нервы размотались? Я готов пойти ее успокаивать, просить извинения?» И, помедлив, он ответил самому себе: «Нет. Она ничего не знает».




