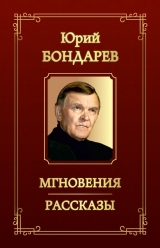
Текст книги "Мгновения. Рассказы (сборник)"
Автор книги: Юрий Бондарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Лес и проза
Если в летнем лесу человек способен испытывать очарование зелени, солнечных светотеней, то он не замечает корявых веток под ногами, пней, безобразного сушняка в чаще.
Все это не портит общего ощущения любви к сущему, и от удовольствия ходить по земле.
Так бывает и в мудрой прозе, которую следовало бы назвать добрым судьей, приведенным к присяге самой жизни.
Тот день
Иногда я пытаюсь вспомнить первые прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что может возвратить меня в наивную пору удивлений, восторга и первой любви, вернуть то, что позднее, зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно.
С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи?
Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства.
Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение сверкнувшего настроения – это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, утраченного с вечным, детского со взрослым, подобно тому как соединяются золотые сны с явью. Однако, может быть, первые ощущения – толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, исхлестывая травы под сизым лунным светом, и скрип множества телег на пыльных дорогах перемешивался с первобытной трескотней кузнечиков, заселивших сопровождающим звоном многоверстные пространств, днем выжигаемых злым солнцем до колючей терпкости пахнущего лошадьми воздуха…
Но первое, что я помню, – это высокий берег реки, где мы остановились после ночного переезда.
Я сижу в траве, укутанный в овчинный тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер, а рядом тоже укутанная в палас сидит какая-то бабушка, кроткая, уютная, домашняя. Она наклонилась к нам, своим телом согревая и защищая от рассветного ветерка, и все мы смотрим, как очарованные, на малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно близкий, искрящийся в глаза брызгами лучей, что все мы в затаенном ритуальном восторге сливаемся со всем этим на берегу безымянной степной реки.
Как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, и нас на том бугре, наклоненных слева направо, тесную нашу кучку, укутанную тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами, – вижу лицо под деревенским платком; оно рождает детскую защищенность и преданную любовь к ней и ко всей прелести открывшегося на берегу реки степного утра, неотделимого от родного лица никогда позднее не встречавшейся, воображаемой мною бабушки или прабабушки…
Когда же я вспоминаю осколочек полуяви-полусна, то будто впереди открылась вся доброта поднявшегося из травы солнца, встреченного нами в этом длительном переезде куда-то. Куда?
Странно вдвойне: я помню время переездов и приближения к невиданной и неизведанной земле, где все должно быть радостью.
И встает из уголков моей памяти деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой проступает какой-то расплывчатый в очертаниях город, с церквами и садами, незнакомый большой город.
Я не вижу самого себя – в доме ли я или возле дома. Лишь представляю завалинок, истоптанную копытами дорогу – от дома к реке – и близости беспокоящей меня до сих пор.
Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови степных предков? Уже будучи взрослым человеком, я однажды спросил у матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда не было на свете. А вернее – она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая осталась в моей памяти.
Я лежал на арбе в таком душистом сене, что кружилась голова и вместе кружилось над мной звездное небо, такое устрашающе огромное, какое бывает в ночной степи, там и тайнодейственно перестраивались созвездия. В высотах за белым дымом, двумя потоками расходился Млечный Путь, что-то происходило, совершалось, в небесных глубинах, пугающее и непонятное…
Наша арба переваливалась по степной дороге, я плыл между небом и землей, а внизу вся степь была заполнена металлическим звоном сверчков, не прекращающимся ни на секунду, и казалось мне, что сверлило серебристо в ушах от распыляющегося Млечного Пути.
И по-земному подо мной покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль хватала колеса, доносилось пофыркивание невидимых лошадей. Это привычно возвращало меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими звездными таинствами неба.
Потом рядом зашевелился отец, я услышал заспанное покрякивание, ощутил дымок табака, знакомый и терпкий; отец сел на сене, поглядел по сторонам, взял винтовку и двинул затвором с железным стуком, вынул обойму и вщелкнул опять, протерев патроны рукавом. Затем отец вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать?
В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.
Но и никогда потом не повторялось того единения с небом, того немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.
Талант и слава
Бывает, что в литературе подолгу живут книги несуетливого писателя, однако нет у него ни громкого имени, ни славы.
Бывает, что есть и слава и имя, но нет таланта в трудах знаменитости – солидная, так сказать, денежная купюра, не обеспеченная золотым запасом.
В период «массовой культуры» не часто встречается писатель божеского слияния имени и таланта, таланта и славы, заслуженной книгами.
Мгновение мгновения
Что же руководит миром и всеми нами? Может быть, это раскаленная бездна вселенной, поглощающая в утробе расплавленные тела созвездий и целые галактики? Может быть, именно эта наивысшая власть определяет все начала и концы, жизнь и смерть, вращение Земли, рождение и гибель, подобно тому, как земная природа создает в лесах муравейники и предопределяет их последнюю секунду, в рождение вкладывая срок конечный?
Немыслимо представить огнедышащие ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих все в гигантском вихре, вспышки взрывающихся звезд, ливни огненной карусели, и где-то в непознаваемой тьме, на каком-то пересечении космических координат летит, вращается пылинка – Земля, которой наивысшая сила мироустройства сообщила определенную энергию и срок существования согласно общим законам вселенского механизма.
Невозможно согласиться, что в ее рождении уже заложен последний миг, что смерть – нерасторжимая тень жизни, неразлучный ее спутник в любви, молодости, успехе, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень. Вечность – это безграничное время, и вместе с тем нет времени у вечности.
Если долголетие Земли – мгновение микроскопической крупицы мировой энергии, то жизнь человека – мгновение наикратчайшего мгновения.
26 января 1976 года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше Солнце, и загадочный взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув такое количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на миллиард лет. Никому не известно, с чем был связан этот взрыв – со смертью или рождением новой звезды, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было непостижимое высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, ее превращение в черную дыру, необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже суждено взорваться и умереть, своей смертью, образуя совсем уж загадочную белую дыру.
Кто точно ответит, каким законам, каким силам вселенной подчинена стихия и эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в жизнь?
Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а семьдесят (по Библии), почему так, быстротечна молодость и почему так длительна старость. Мы не сможем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно отъединить, как причину от следствия. Прискорбно, но не стоит и переоценивать понимание человеком своего места на земле – большинству людей не дано познать смысл бытия, цель собственной жизни. Ведь нужно прожить весь данный тебе срок, чтобы иметь основания сказать, правильно ли ты жил. Как иначе осмыслить это? Умозрительным построением возможностей и назидательных предопределений?
Но человек не хочет согласиться с тем, что он мизерная крупица пылинки-Земли, невидимая с космических высот, и, не познав себя, дерзостно уверен, что может постичь законы мироздания и, конечно, подчинить их повседневной пользе.
Беспокойная эта мысль изредка мелькает в его сознании, он отстраняет ее, он защищается, успокаивается надеждой – роковое, неизбежное, не случится завтра, еще есть время, еще есть десять лет, пять лет, два года, год, несколько месяцев…
Он не хочет расставаться с жизнью, хотя она у большинства людей состоит не из великих страданий и великих радостей, а из запаха рабочего пота и простеньких плотских удовольствий. При всем этом многие люди отделены друг от друга бездонными провалами, и тоненькие жердочки любви и искусства, то и дело ломающиеся, соединяют их.
И все же сознание человека, наделенного умом и воображением, вмещает и ледяную жуть звездных совершающихся таинств, закономерную трагедию краткосрочности жизни. Но и это не придает его поступкам тщетности, подобно тому, как не прекращают неутомимой деятельности и муравьи, озабоченные, видимо, полезной необходимостью ее. Человеку мнится, что он обладает наивысшей властью на Земле, не задумывается, что лето сменяется осенью, молодость – старостью и даже ярчайшие звезды гаснут. В его убежденности – пружины, действия, страстей. В его гордыне – легкомыслие зрителя, уверенного, что занимательный фильм жизни будет длиться непрерывно.
Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения мгновений бытия, в надежде передать человеку опыт разума и чувства, и таким образом остаться бессмертным?
Но без этого убеждения нет идеи человека и нет искусства.
Имя этого судьи – правда
Вряд ли кто-нибудь из нас рискнет определить современную литературу как морализаторскую притчу или как очерковый комментарий к событиям дня, выдаваемый за философское осмысление жизни.
Нет, цель современного искусства – разумная организация сознания, внесение в мироустройство нравственного порядка, социальной концепции природы и человека.
Сегодня невозможно отгородиться от мира каменной стеной Древнего Китая с его смертельным запретом проникновения к чужой культуре. Поэтому едва ли сейчас на Европейском, Американском и Азиатском континентах можно найти абсолют обособленного, очищенного национального искусства. Человечество объединено единым земным шаром, он стал удивительно тесен, уменьшен невероятными скоростями новой науки.
Когда известный японский критик Кендзи Симицу говорит, что «современная культура импортируется главным образом из США…», когда в Канаде создается Союз писателей с главной целью воспрепятствовать импорту американской книжной продукции, когда французская интеллигенция сетует на засилье джазовой заокеанской музыки, когда крупнейшие итальянские режиссеры заявляют, что западное кино «волочит за спиной груз американского доллара», что они, американцы, «требуют, чтобы кино не пробуждало сознание, никуда не звало». Когда мы соприкасаемся с переводными американскими романами последнего времени, то бесспорно начинаем понимать: в мировой культуре что-то случилось (слово «что-то» я употребляю здесь, имея в виду роман Джозефа Хеллера), и понятий добра и зла не существует, а сам Вельзевул взмахами обожженных недавними войнами крыльев ставит на страницах книг печать оцивилизованной тоски, безрадостного пресыщения.
Главная проблема Запада – пропасть между духовными запросами человека и его материально-плотским существованием – рождает размытость жизнеспособной моральной доктрины.
Современные буржуазные социологи объясняют новые эрзац-чувства стальной поступью «индустриального общества», называя преступником века научно-технический прогресс, который раздавил человека машинами и вещами, опошлив и подменив его мысли либо хватательным инстинктом, либо рефлексом на физиологические удовольствия.
И в литературе возникают апокалипсические параболы, идеи тотальной судьбы, тусклый контур грядущего дня человечества на отравленной, выжженной и обезвоженной планете, и вырастают «границы между „я“ и „не-я“». Возникает отчуждение, ибо «истин на земле столько, сколько и людей». И потеряна нравственность, первоэлемент общественных установлений (благороднейший тормоз свинцовых инстинктов). На замену пришло судорожное развлечение, дьявольский знак бегства от самих себя, от одиночества в каменных лабиринтах городов, где целая индустрия лжеискусства пытается заполнить духовный вакуум в последние два десятилетия, превратив искусство, в прибыльную коммерцию. Поэтому не являются ли секс, наркотики, алкоголь беспомощными врачами душевного одиночества?
Стереотипный стандарт «массовой литературы» заменили индивидуальности талантов, и это преддверие искусства постиндустриального общества.
Мы знаем, что целые культуры рано или поздно исчерпывали свои возможности и погибали, как и внешне, казалось бы, всесильные цивилизации, погребенные песками пустыни.
Что ж, может быть, культура Европы прошла свой зенит и в течение последних двадцати лет неуклонно сползает к унылому закату, о чем еще в начале века писал Освальд Шпенглер? Или, может быть, эта буржуазная культура, задохнувшись в машинной цивилизации, утратила духовную силу, передав маршальский жезл социологическому репортажу и «массовым» романам, низкий художественный уровень которых размыл критерии? Синтетикой, излишеством вещей и алчностью опрокинут, погребен эстетический кумир, и европеизм, анемичный, постаревший, напоминает уже орла с восковыми крыльями – куда и сколько ему лететь?
Для того чтобы продолжать любить человека, современному художнику нужны прочные точки опоры.
Когда мы говорим о научно-технической революции развитого социалистического общества, о высокомеханизированной цивилизации XX века, мы, конечно же, думаем о науке как об импульсе прогресса, как о рычаге, поворачивающем индивида не к миру вещей, его поглощающих, а к духовному богатству для всех. Подчиняясь нравственным законам, человек должен осознать, что век электроники и кибернетики, господство машин – это не самоцель, не прогресс ради прогресса, а ступень исторической судьбы человечества, рубеж познания, через который ему суждено пройти.
Люди готовы обвинять технику, забывая о том, что техника подчинена людям, действительным виновникам убийства и самих себя. И здесь возникают проблемы социальные.
Теоретики постиндустриального общества утверждают, что научно-технический прогресс отменит идеологию, заменив ее наукой, то есть тезис «деидеологизации» отрицает социальное преобразование современной капиталистической структуры. Все эти антимарксистские теории напоминают многолетние и многошумные дискуссии о моноромане и центробежной и центростремительной прозе, об антиромане и романе-репортаже, о романе-информации и романе экзистенциалистском – во всех пен-клубовских диспутах недоставало «жизни как она есть» и не хватало надежды.
Оптимизм? Вера в добро? Вера в человека? Но оправдан ли эпохой этот оптимизм? Девятнадцатый век был временем критического реализма. Не заслуживает ли критики наш индустриальный век?
В советской литературе нет всемирного пессимизма, нет черного юмора, балаганного святотатства, ибо искусство наше подчинено этическому началу, где герой, как правило, делает выбор не ради эгоцентрического «я».
Советской литературе не присущи морализаторство и роль исправителя рода человеческого, на что претендовала Библия – эта самая известная книга мира, набор мифов, законоустановлений и советов, догматическое руководство к действию, нередко поражающее бесцеремонной непререкаемой властностью.
Завтрашний век, что уже не за семью печатями, признает и укрепит нашу литературу как «доктрину добра» – она пытается сказать о революционной эпохе на земле, о человеке этой эпохи, сказать не нечто, не что-то, а сказать все.
В поисках истины мы не были пленниками идеалистического иррационализма, разочаровывались в человеке и не были приверженцами асоциальных направлений.
Слово родилось прежде философии, политики, социологии и всех научных систем; слово родило идеи человечности, без которых искусство и литература, вырождаясь, превращаются в зеркало жалкого развлечения, отражая бытовые случаи на житейских перекрестках.
Шедевр в прозе появляется на свет, когда диктатура идей родственно соединяется с диктатурой образа.
О любой литературе не следует судить по ее среднему уровню, как судят об обществе социологи. То, что писал Толстой, по сравнению с латинской литературой иному интеллектуалу западного толка мнится тривиальным, но стоит ли спорить против «авангардизма наоборот»?
И хотя подчас сложно провести границу между великим и смешным, мы склонны говорить, что поверхностное искусство всегда претендует быть пряным и кокетливо-модным, в то время как подлинное искусство – это не изобразитель «личных впечатлений», а целый мир, воспринятый сквозь разум и чувства при постоянном присутствии Верховного судьи, приведенного к присяге. Имя этого судьи – правда.
Мое поколение
Когда прошли равнины Польши и приблизились к границе Чехословакии, полузабытый довоенный зеленый мир юности приблизился вдруг, стал сниться нам в глухие осенние ночи под мрачный скрип сосен, под стук пулеметных очередей на высотах. Тогда преследовали меня одни и те же сны – в них все было «когда-то»…
Просыпаясь в окопе, я чувствовал, как рассветным холодом несло с вершин Карпат, как холодела под туманом земля, исчерненная воронками. И, глядя на спящих возле орудий солдат, с усилием вспоминал сон: в траве знойно трещали кузнечики, парная июльская духота стояла в окутанном паутиной ельнике, потом с громом и с молниями обрушивалась лавина короткого дождя; затем – на сочно зазеленевшей поляне намокшая волейбольная сетка, синий дымок самоваров на даче под Москвой.
И как бы несовместимо с этим другой сон – крупный снег, неторопливо падающий вокруг фонарей в переулках Замоскворечья, мохнатый снег на воротнике у нее, имя которой я забыл, белеет на бровях, на ресницах, я вижу внимательно поднятое лицо; в руках у нас обоих коньки. Мы вернулись с катка. Мы стоим на углу, и я знаю: через несколько минут надо расстаться.
Эти несвязные видения не были законченными снами, это возникало как отблеск, когда мы глохли от разрывов снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей, когда ничего не существовало, кроме железного гула, скрежета ползущих на орудия немецких танков, раскаленных до фиолетового свечения стволов, потных лиц солдат, наводчика, приникшего к наглазнику панорамы, осиплых команд, горящей травы вблизи огневой.
Удаляясь, уходя из дома, мы упорно шли к нему. Чем ближе была Германия, тем ближе был дом, тем быстрее мы возвращались в прерванную войной юность.
Нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно.
За четыре года войны, каждый час чувствуя огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что хватило бы на жизнь двум поколениям.
Мы узнали, что мир и прочен и зыбок. Порой мы ненавидели солнце – оно обещало летную погоду и, значит, косяки пикирующих «юнкерсов». Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и поздней осенью, и в жесточайшие январские морозы, но вместе с тем равнодушно обнажать во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых еще вчера мы называли по имени. Мы узнавали мир вместе с человеческим подвигом и страданиями.
Кто из нас мог сказать раньше, что трава может быть аспидной и закручиваться спиралью от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на женственных ромашках, этих символах любви, капли крови твоего друга, убитого автоматной очередью?
Мы входили в разрушенные города, зияющие провалами окон и подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались огоньки папирос под обугленными тополями парков.
В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения – Освенцим, фашистский комбинат смерти, день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул запахом человеческого пепла.
Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре года войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало только две краски: солнечно-белую и масляно-черную. Радужные цвета спектра отсутствовали.
Мы стреляли по черным крестам танков и бронетранспортеров, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.
Война была беспощадной и грубой школой, мы сидели не за партами, в аудиториях, и перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых вещей, в будничной жизни, – мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книги», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке.
Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались – ни до войны, ни после войны. Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей появились в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами – и мы зачарованно смотрели угадывали их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам.
Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем ранимее было ощущение юного и солнечного мира наших ожиданий – все это жило в нас, снилось нам. Это сообщало нам силы, рождало терпение. Это заставляло нас брать высоты, казавшиеся недоступными.
Наше поколение – те, что остались в живых, – вернулось с войны, сумев сохранить, в себе этот чистый, лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оплачена кровью. И вместе с тем четыре года войны мы сохраняли в душе естественный цвет неба, улыбку любимой женщины, мягкий блеск фонарей в сумерках и вечерний снегопад…
Война уже стала историей. Но так ли это?
Для меня ясно одно: главные участники истории – это Люди и Время. Не забывать Время – значит не забывать Людей, не забывать Людей – значит не забывать Время. Быть историчным – это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулезной точностью подсчитывают историки. Да, они подсчитывают количество потерь, определяют вехи Времени. Но они не смогут подслушать разговор солдат в окопе перед атакой, увидеть слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.
В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории. Они не знали и не могли знать, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, сконцентрировано в человеческой душе.
И вот этот фокус чувств чрезвычайно дорог мне.








