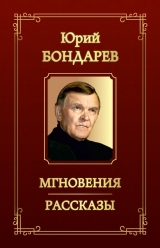
Текст книги "Мгновения. Рассказы (сборник)"
Автор книги: Юрий Бондарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Мать
«Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль…»
Я сел на диван, чтобы успокоиться, потер лоб, и когда стал вспоминать слова любимой песни моей матери, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой любовью и тоской, что вскочил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. Будто сквозной ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая зимний город, и вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там, в неприютной больнице, одна, беззащитная перед болью, в забытьи думала обо мне с безмерной любовью, которая бывает на земле только у матерей. Но когда и где я впервые слышал эту простенькую грустную мелодию и почему слова ее были связаны с матерью?
И мне стало представляться как она босиком ходила по глиняному полу, тонкая, в белой кофточке, напевала негромко прелестным голосом: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль», останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к среднеазиатскому солнцу, сквозившему через ветви карагача. Я видел ее прозрачные от обильного света глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о когда-то молодой грусти этому утру, солнцу, плещущему арыку: «Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет…» А я, до восторга влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце: ведь отец редко бывал в отъезде. Он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым нравом. Порой он носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее волосы, а она почему-то обреченно прижималась щекой к его груди.
Однажды услышал я, что она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и, испуганный, бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее слипшиеся, ресницы, но мать попыталась улыбнуться мне, потом, обняв, начала гладить мою голову нежными пальцами и говорила шепотом, что отчего-то взгрустнулось, но вот прошло, миновало…
Но почему иногда тосковала она? В какие дали, к кому тянуло ее? Всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайну…
А теперь в беспамятстве, на больничной койке, она витала над краем пропасти, и, видимо, в момент краткого просветления вспомнила обо мне с той любовью, с той непереносимой виной в душе. И я ходил по кабинету, стонал, кусал губы, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, облегчить ее страдания, и бормотал, как в беспамятстве, незатейливые эти слова:
– Кого-то нет, кого-то жаль…
Наверное, не только у меня бывали минуты, когда не приходило спасение от самого себя.
Balistes Capriscus
В Западной Африке и Южной Америке обитает странная, казалось бы, рыба Balistes Capriscus – рыба с человечьим лицом, раз я видел ее в копенгагенском аквариуме. Она зловеще вращает глазами, дышит, как человек больной насморком, приоткрывая губастый рот, – не рыба, а вздувшийся человеческий профиль, обросший плавниками, кошмарное видение, некий персонаж, сошедший с картин Босха и Брейгеля.
Видели ли когда-нибудь эти два художника подобную рыбу?
Нет, они не были ни в Африке, ни в Южной Америке, жили в Нидерландах. Подобный образ получеловеческой головы-полурыбы создало их воображение – обостренная фантазия, – направленное против физического и нравственного уродства человека.
Действительность выше самой неограниченной, гениальной фантазии; в неизмеримой воображением жизни есть все, поэтому творчество человека никогда не достигнет исчерпывающей красоты или же безобразности многоликой и многогранной реальности.
Стандарт
На тротуарах текла вечерняя толпа, мимо подъездов отелей «Амбассадор», «Золотой петух» выработанной фланирующей походкой прохаживались с сумочками через руку в меру подкрашенные девушки, переговаривались со степенными швейцарами.
На открытой террасе кафе «Европа» сидели молодые женщины в шляпах, мужчины в костюмах, оттуда доносился иностранный говор. Два солдата у киоска ели с аппетитом сосиски, макая их в горчицу на блюдечках, и, то и дело оглядываясь на проходящих девушек, жевали сильными челюстями.
Юные люди с гладкими прическами, распахнув плащи, засунув руки в карманы брюк, шли, разговаривали громко, дымили сигаретами, смеялись, тоже оглядываясь на проходивших женщин.
Я дошел до конца площади, постоял у газетного киоска, читая названия иллюстрированных журналов – на меня смотрели через стекло очаровательно-холодные лики женщин на гладких глянцевитых обложках: лики выражающие невинность.
Это множество лиц, стандарт красоты, одежды, пленительно-заученных улыбок, костюмных поз не вызывало чувств и я вспомнил американский журнал «Плейбой» (журнал для мужчин), где каждый год появлялись фотографии «Мисс красоты», там все было рассчитано на «мальчиков», которые должны захотеть быть обладателями этой красоты: поднятые вырезами купальника груди, тугие бедра, обнаженные и оттененные чистейшими простынями или обивкой софы, – среди избранных были известные актрисы, знаменитые спортсменки, открывающие красоты своих втянутых животов, мускулатуры, неженственной силы.
Разумеется, то Америка, но и в европейских городах с допусками плюс-минус давно определен стандарт женской притягательности. В ней нет изюминки, нет той скромности, которая и есть секрет женственности. Нет, это красота фотогеничная, как белый цвет бумаги.
Я вспомнил о чистоплотной красоте эллинок, о лицах эпохи Ренессанса, о некрасивой и вместе загадочной Моне Лизе, о рубенсовских и ренуаровских женщинах, о «Неизвестной» Крамского и крестьянках Серебряковой.
Почему же стандартная скука секса или парфюмерной рекламы стала нормой женской прелести, всегда многозначной, застенчивой, непостижимой?
Непостижимое
Всякий раз в утренние часы, когда я выхожу в опустевший, покинутый птицами дачный сад и когда вижу на траве сквозные лучи низкого солнца, вдыхаю уже северную влагу земли от поредевших клумб, где в конце лета распустились георгины и флоксы, предвестники зябких поздних зорь, то меня охватывает тревога предупредительного звонка на вокзале моей жизни и не покидает сознание, что где-то есть обетованные края, туманы морских побережий, незнакомые улицы чужих городов, пестрые витрины на набережных, которые я должен обязательно увидеть.
Почему в сентябрьскую пору я чувствую желание ехать куда-то в поисках неизведанных эдемских земель?
Ссора
Он наблюдал за капризной игрою ее лица, за тем, как она, закидывая голову, громко смеялась, окруженная какими-то незнакомыми ему молодыми людьми, видимо, острившими поочередно, и пожимал плечами: «Ну для чего так смеяться, так играть глазами, как будто в самом деле очень смешно?»
Он смотрел на нее и чувствовал раздражение от этих чрезмерных женских усилий казаться привлекательной, оживленной после недавнего разговора между ними и ее неприязненного лица, какого не видел ни разу за время их близости, и после брошенных ему в грудь театральных слов:
– О, не прикасайся ко мне!
Миг
Она сказала, прижимаясь к нему:
– Как быстро прошла молодость!.. Любили мы друг друга или не любили – как это забыть можно? Сколько прошло времени с того момента, когда мы познакомились, – один час или вся жизнь?
Был погашен свет, с ночной улицы доносился глуховатый, затихающий шум, однозвучно постукивали часы, поставленные звонить (он это знал) на половину седьмого утра, – и все представлялось, неизменным, как эта полночь и завтрашнее утро, которое обязательно должно наступить, с привычным вставанием, умыванием, завтраком, работой…
И вдруг ощущение остановленного колеса времени, ежедневно и еженощно крутящегося как бы вне сознания, выхватило его и понесло в скользкую бездонность, где не было ни дня, ни ночи, ни темноты, ни света, где не за что было зацепиться памятью, и он почувствовал себя бестелесной тенью, без измерения и формы, без прошлого и настоящего, без биографий, желаний, без отсчета лет.
Целая его жизнь спрессовалась в один миг и этим мгновением уничтожилась: прожитые годы, сбывшиеся надежды, молодость, любовь, рождение детей, здоровье (они, эти прошлые годы, канули куда-то) и не мог представить будущее – не подобное ли испытывает живая песчинка, затерянная и обреченная раствориться в безмерности, в пространстве?
И все-таки это был миг не песчинки, и оттого что он уловил и понял эти открывшиеся голгофные секунды, ему стало невыносимо жаль и себя и ее, женщину, которую любил, с которой прожил и разделил все в жизни. И подумал о том, что если она, всегда сдержанная, сказала об ушедшем времени, то утрата коснулась их обоих.
Он поцеловал ее с нежностью и шепотом пожелал: «Спокойной ночи, прости меня».
Закрыв глаза, он попытался не думать. Ему было не по себе от внезапно открывшихся ворот в нежное, бесприютное скитание своего сознания, необъяснимо потерявшего память о молодости.
Продажа
– Оля плакала, – сказала ему жена вечером. – Она не хотела, чтобы ты это делал. И сейчас накрылась с головой одеялом и не спит.
И он вспомнил морозное утро, заледенелый забор комиссионного магазина в Южном порту, на окраине Москвы, окоченевшего около ворот сторожа в тулупе, затем – въезд во двор, крик этого сторожа, притоптывающего валенками на снегу: «На эстакаду давай!»
На эстакаде он выключил мотор, и машина с настороженностью затихла, возвышаясь над стоявшими вокруг машинами, уже завьюженными, оставленными здесь хозяевами.
Когда приемщик ничего не выражающим взглядом бегло осмотрел мотор, кузов, багажник, а потом с равнодушной небрежностью сел за руль и задним ходом тронул ее с эстакады, она подчинилась ему и развернулась на ледяном поле вблизи других машин, вопросительно наблюдавших за ней круглыми стеклами фар, и затем как бы в растерянности, покатила к дверям конторки комиссионного магазина, где должна была произойти последняя процедура. Он все это видел, но был еще спокоен и сдержан.
– Оформим, – сказал приемщик, и, услышав его голос, он кивнул молча.
А полчаса спустя, после составления акта продажи, оценки и утвердительных росписей, он вышел из натопленной конторки, чтобы совершить последнее – передать ключ от зажигания перегонщику, молодому парню в полушубке, из овчинного воротника которого виднелось сизое, озябшее личико с мокрым носом и посинелыми губами.
Машина стояла так же около конторы, по обыкновению терпеливо ожидая его, готовая послушно зарокотать мотором, охотно покатить через всю Москву домой, в обжитой гараж, где вечерами под электрической лампочкой было по-домашнему уютно пахло бензином и маслом. Он посмотрел на переднее стекло, на капот, припорошенные снежком, надутым с поля январским ветром, потом увидел подошедших к машине нескольких покупателей, которые начали торгашески суетиться, придирчиво оглядывать, ощупывать ее, – и тогда что-то дрогнуло в его груди.
Не говоря ни слова, он отдал ключ от зажигания перегонщику, и машина заработала, неуверенно тронулась задним ходом, будто еще не понимая, что случилось, куда ее ведут, и, сделав полукруг по полю, вдвинулась в ряд других машин, объединенная с ними единой судьбой.
«Вот и все, – с непонятным облегчением сказал он сам себе. – Ее продадут скоро…»
А она издали смотрела на него, удивленно и печально поблескивающими фарами, словно не желая прощаться, расставаться с ним, и он быстро вошел в контору, чтобы не видеть ее сейчас.
– …Как мне жалко ее, – сказала жена. – Ты простился с ней? Попросил у нее прощения?
– Да, – солгал он, отлично помня, что не простился с машиной, не посидел в ней напоследок, не погладил по знакомой и гладкой коже металла.
– Оля так любила ее, так мыла ее, помнишь? Называла «хорошенький „Москвичиш-ка“»…
– Да, да, – повторил он.
Потом, не успокаиваясь, казня себя за то облегчение, какое испытал, отдавая ключ перегонщику, он представлял ее далеко от дома, на окраине Москвы, в зимней ночи, на ветру, леденящем ее металлическое тело. Там она была безвозвратно оставлена им на продажу, с расчетом, ради другой, новой, более красивой машины. И он думал, как влюблен был в нее много лет, как она верна была ему: весело сверкая на солнце окнами, катила по дорогам, красуясь, кокетничая со встречными машинами, и редко сердилась на него, когда был неосторожен, резок в обращении с ней, и по-родственному прощала все, почищенная, помытая, протертая им и десятилетней дочерью Олей.
Теперь она замерзала там, на ветру, на морозе – и не проходило ощущение совершённого предательства.
Идеал
Ссоры в молодых, и не только молодых, семьях часто возникают потому, что она, как ему кажется, не отвечает тому идеалу женщины и жены, который он хотел бы видеть в ней и который создал для себя. Он раздражается на то, что она недостаточно чутка, порой молчалива, замкнута, неаккуратно одета, не то сказала при гостях, не так воспитывает ребенка.
И он в состоянии неудовлетворения, вспылив по малозначительному поводу, не сдерживаясь, находит для нее самые обидные слова, словно мстя себе за собственную ошибку и мстя ей за оскорбленный идеал свой.
Его резкость обижает и злит ее, и она отвечает ему с той же нещадностью, с той же болью – и повторяющееся между ними отчуждение нередко убивает самое ценное – любовь.
Он и она не правы, считая себя обманутыми, но, обремененные усталостью, заботами, мало что делают для того, чтобы приблизить один другого к тому идеалу, который каждый лелеял в душе.
Ведь готовых идеалов на все случаи жизни нет.
Схимник
Был июльский день, золотые купола Печерского монастыря купались в небе. А над древними стенами, над монастырским садом плыл перезвон колоколов, торжественный, ликующий, как этот летний день, что, видимо, ощущали и молодые монахи на мощеном дворе близ колокольни. Кротко улыбаясь друг другу, они так ловко перебирали пальцами веревки, что казалось, с виртуозным умением управляли воздушным, уносящимся в поднебесье музыкальным инструментом, как бы созданным самим Богом.
Меж пахучих кустов малины мы пошли с женой по тропинке в глубину монастырского сада, где стало просторно и солнечно, и открылась поляна, зажелтели ульи в траве под низкими, отяжеленными краснеющими яблоками ветвями. Здесь напоенный клевером воздух гудел слитным гулом: пчелы облепливали хлопотливой кишащей массой щели ульев, пролетали над кустами смородины, обдающей нас духом ягодной плоти.
И посреди этого цветника я заметил на краю поляны схимника в черной рясе, с накинутым на голову капюшоном, расшитым по траурному цвету какими-то белыми, смертными узорами. Схимник стоял, засунув руки в рукава, смотрел тусклыми глазами на леток улья, где копошились, ползали, озабоченно сновали пчелы. И его лицо, истонченное до прозрачности, с потусторонними бескровными губами, выражало смиренное и печальное внимание. Он, схимник, вероятно второй раз постриженный в монахи накануне небытия, занятый ежечасным приготовлением к завтрашней смерти, наверное прощался с пчелиной суетой жизни, которая останется на земле, так же как этот благолепный день и колокольный звон обещающий ликование греховного ожидания, устроенное молодыми монахами, каким был когда-то и он, схимник.
Что было на душе его? Тоска прощания с земным? Раскаяние?
В то же время я заметил, что схимник, наблюдая хлопотливую возню пчел, ловил наше внимание – мое и моей жены, – и его красные глаза выражали отрешенность и еще более смиренную покорность судьбе. И показалось, что он, ссутуливаясь, засовывая глубже руки в рукава, видел и мое лицо, и молодую привлекательность моей жены, ее глаза, ее белокурые волосы до плеч. Он, конечно, видел и знал, что мы думаем о его скором переходе в неземное царство, о его земной подготовленности. Он также знал о неумолимости срока людей еще молодых, еще полных желаний и сил, и следил за суетой пчел на летке улья, с незаметной усмешкой скорби святого наблюдая неумолимое движение колеса бытия.
Вдова
В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, говор за столами становился все громче, и нетрезвый шум заглушал слова приветствий, и плохо слышно было, что говорили, ибо наступил момент, когда виновник торжества перестал быть центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете.
Надо было уходить, и я незаметно вышел из накуренного зала в коридор. И здесь, на прохладной после зала мраморной лестнице неожиданно увидел сухощавую женскую фигуру всю в траурно-черном, даже черные перчатки натянуты были до локтей. Особенно выделялась широкополая шляпа, какие носили в двадцатых годах, почти закрывшая ее сухонькое лицо со стеклянным взглядом. Не увидев меня, равномерно передвигая по мраморному перилу слабой кистью в креповой перчатке, она спускалась по ступеням, отражаясь в зеркалах подобно грозному знаку среди отзвуков доносившегося сверху веселья.
Я поклонился ей, а она по-прежнему не заметила меня, ее прозрачные глаза ничего не выражали. Наверное, она была пьяна, потому что внизу покачнулась, приостановилась у перил, клоня голову, отчего поля шляпы совсем закрыли лицо, и постояла несколько минут, локтем прижав к боку обшитую бисером сумочку. Это была вдова крупного ученого, бывшего основателя и директора нашего научно-исследовательского института, место которого три года назад занял менее известный ученый, но более удачливый, более решительный, чей пятидесятилетний юбилей институт сегодня торжественно отмечал.
Я не видел ее там, наверху, где шумели речи, пили, смеялись, лобызались с юбиляром, воспитанно-вежливым, седовласым, аристократически-утонченным во всем облике своем, где ни разу, хотя бы вскользь, не вспомнили о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством поднявшим его до всеевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж, – и то, что, вся траурно-черная, спотыкаясь на лестнице, она уходила с банкета в свое непоправимое одиночество, чувствовать было невыносимо.
Потом я вообразил, как она войдет в опустевшую квартиру, бессильная, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в котором властвует «навечное отсутствие» его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, шепча немолодыми губами о жестокости жизни.
Малярия
Меня начинало трясти к полудню. Я ощущал сквозь рубаху острый пожар солнца на спине, а тень под голубятней, дышавшая в этот час отдыхом, казалась неимоверно сырой – знобило при одной мысли о влажной земле, по которой ходили голуби, лениво подергивая шейками.
Мне нужно было согреться, я садился на деревянную скамейку на солнцепеке, чувствовал вонзающийся в мою голову, шею, плечи июльский жар. Жар не согревал тело, а давил, замутнял голову, соединяясь с другим, внутренним, жаром. Потом целый мир смещался, изменял обычный цвет, осязаемость – и все представлялось как через стекло: замоскворецкий дворик, могучие липы около забора, низкие красные крыши купеческих домиков, под солнечным потоком.
Приступами подташнивало, и я на шатких ногах брел домой, там мама встречала на пороге испуганным возгласом: «Горе ты мое!»
В эту несусветную жару замерзали руки, синели ногти, я пытался согреть кисти между колен, сжимаясь в комок на кровати, стучал зубами, укрытый с головой двумя одеялами, но меня бил озноб, я дрожал, всхлипывал, стонал, иссушаемый до кипения крови, мнилось, казняще пылающей печью.
Время от времени меня перекидывало на постели удушье, тут же выташнивало, выворачивало в подставленный мамой тазик, и с набрякшей головой я кашлял, давился, выплевывал желчь, пугающую кровавой окраской. После было, горячо во рту, сознание мутилось, кто-то тенью возникал в белой пелене перед кроватью, говорил о температуре сорок, все летнее за окном уходило, уплывало за тридевять земель, и мимо чудесного веснушчатого, как сорочье яйцо, лика девочки проходили в морском заливе яхты под парусами, а я, сильный, небрежный, вел первый швертбот, сидя на корме, держа одной рукой румпель, другой грота-шкот; возле, на банках яхты, продутой насквозь ветром, сидели в садках голуби, и я должен был «подкинуть» их под чужую стаю на глазах знакомой девочки, без которой не мог жить…
Потом возникала погоня во вселенной – в звездной метели среди гудящего мрака нечто зверски оскаленное, имеющее злобную власть надо мной и той девочкой; эта власть неизвестной силы преследовала меня, окружала, швыряла протуберанцами зазубренных копий, они проносились в миллиметре от головы, обжигая волосы, кожу лба, они ослепляли, а два огненных копья торчали в моих ногах, мотались, тянули пудовыми гирями. И, немо крича, я падал с огромной высоты в узкое ущелье, на дне которого бурлила меж камней горная река; вокруг по склонам возвышались каменные стены древних замков с зубчатыми башнями, стрельчатыми бойницами, с подвесными мостами через рвы, и оттуда, из двориков, грозно изготовились рыцарские доспехи, щиты, забрала – там стояли враждебные войска и злорадно, ждали, когда я упаду и разобьюсь вдребезги о гранитные плиты соборной площади или буду нанизан на длинные иглы пик, выставленных железным лесом в небо, откуда падал я в свою смерть.
Я знал, что спасение мое – зацепиться за золотой крест, на купола собора, во что бы то ни стало задержать падение тела, выдернуть копья из пробитых ног, освободиться от боли, жгущей огнем… («Кто же я был? Святой Себастьян?»)
Я схватился руками за металлическую перекладину креста, но зацепиться не смог – и, падая, с треском выворачивая крест, покатился с высоты вниз, скользя пятками по скату крутого купола, в крутящуюся пропасть начавшегося пожара, из лохматого неистовства которого торчали на кольях отрубленные пустоглазые человеческие головы.
Но в этом диком буйстве мучений и крови кто-то любил меня, и я любил кого-то с отрешенностью и безнадежностью. Она же то сидела, независимая, на перилах крыльца, болтая ногами в сандалиях, то стояла у забора под кустом акации и разгрызала стручок, глядя исподлобья неподступными глазами, а я везде искал ее, я хотел, чтобы она пожалела меня, познала мои страдания в борьбе с коварными врагами и потому пришла бы туда, где должна увидеть меня в последний раз, проститься, заплакать от любви…
Я хотел предсмертно лежать спиной на камнях, головой на ее коленях, чувствовать ее залитые слезами губы, видеть ее глаза. О, какое это несказанное наслаждение было умирать на ее коленях и ощущать сокровенное дуновение шепчущего голоса: «Я люблю тебя…» И я тоже плакал от преданности этой девочки нашей любви (которой никогда не было) и в то же время краем воспаленного сознания понимал, что все происходит в бреду, это опять приступ…
Тогда я вскидывался на кровати – чудилось: она, вернувшись с портфельчиком из школы, расширив глаза, смотрела, заглядывала со двора в окно, и возможно слышала мои бредовые слова. На краткую минуту я различал окно, сбоку кровати, с тюлевой занавеской. Нет, никто не заглядывал в комнату («Где она? Где?»), а издали как-то разделенно доносились детские голоса, солнце стрелами пронизывало наискось листву дворовых лип – и не было ни ее колен, ни ее жалости.
И вновь я погружался в расплавленные красные пески Сахары, неохватимого пространства пустыни, лишенного времени, человеческого вчера и завтра. И безмерные пески, уходящие буграми в никуда, гнали меня за неизвестные разуму пределы, жгли пятки, осыпались под ногами, я утопал в их зыбучей трясине, не мог скрыться от своих преследователей. Затем сзади несколько человек хватали за плечи, выкручивали мне руки, грубо втискивали в железную клетку для зверей и везли по пустыни целым караваном верблюдов, на головах которых в такт шагам мотались пушистые кисточки, как у цирковых лошадей.
Потом люди в черной парандже вводили меня в восточный дворец, толкали кинжалами под лопатки, торопили подойти к золотому трону, покрытому яркоцветными коврами, на них возлежал всемогущий повелитель в шелковом халате, в чалме. Лицо у него имело вид таракана, усы шевелились, а маслянистые глаза смотрели вбок, где происходило что-то нечеловеческое, противоестественное. Там садистски казнили на ковре слабенькое худое тельце, очень знакомое мне, и, узнав ее, в гневе я бросался, безоружный, на помощь, подобно Дон-Кихоту. В ту же секунду пол разверзался под ногами, со скрежетом маховиков, образуя внизу электрический провал, я падал, летел туда с охолонувшим сердцем, видя на дне машину смерти, торчащую острейшими, направленными вверх пиками. И без всякой надежды на спасение, заранее чувствуя, как подрагивающие острия пронзят меня, я меркнущим сознанием пытался представить тот момент, когда она после моей гибели придет в голубятню на заднем дворе и, думая обо мне, грустно возьмет в руки маленькую умницу, голубку с хохолком, и будет поить ее изо рта, как это делал я раньше, показывая ей своих голубей.
Почему в малярийном бреду мое мальчишеское сознание проходило через муки и любовь? И почему рисовало оно средневековые картины насилия, борьбы, страдания? Все это я не мог вычитать из книг, ибо хорошо помню, что узкий круг моего чтения (когда читать замоскворецкому голубятнику?) охватывал в ту пору один литературный жанр, наподобие «Красных дьяволят» или «Макара-следопыта».
Может быть, малярийный жар, высокая температура, раскрепощали во мне какие-то коды генов, что несли в себе отсветы памяти, осколочки прошлых событий и вместе с тем напоминали о недавнем, в тысячу крат кровавой войне, которую я прошел от начала до конца.
Война затмила все, но девочка моих видений (она училась вместе со мной) явилась однажды из забытого детского кошмара, я отчетливо не увидел ее, а ощутил возле себя осенью сорок третьего года на неизвестной высоте (между Житомиром и Белой Церковью) после танковой атаки в окружении, не оставившей от нашей батареи ни одного орудия.
И снова мне представлялось, что я лежал на заднем дворе, на свалке кирпичей, а она держала мою голову на своих коленях.
Я услышал стон и с надеждой увидеть ее, открыл глаза… но рядом никого не было. Свистел ветер в травах, небо неслось над высотой, кипело рваными тучами, будто задевало огрузшими краями исковерканный щит орудия.
«Неужели она и задний двор приснились мне?» – подумал я, сознавая, что один лежу на высоте у разбитого орудия, на кромке снарядной ниши, и что в край секунды танковой атаки, когда раскаленный смерчем ударило в грудь и упала тьма, повторился незавершенный детский сон или малярийный бред. И поразило до судороги в горле: зачем, зачем я вспомнил о ней? И понял, что люблю ее, конопатую девочку с заднего двора (а она, равнодушная ко мне, никогда не узнает, что там, в окружении, на развороченной снарядами высоте, после боя, я хотел умереть на ее коленях), я почувствовал, что теряю сознание, скатываясь в бездонность, с безнадежной мыслью увидеть ее плачущее склоненное лицо, как в той детской игре на свалке кирпичей…








