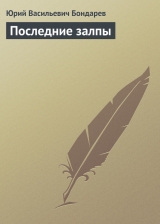
Текст книги " Последние залпы"
Автор книги: Юрий Бондарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
"Там карта, карта с огневыми!"
Красивый немец вынул карту, потертую по краям, вежливо, осторожно отодвинул на столе бутылку с фарфоровой пробкой, переставил металлический стакан, разложил карту на столе. Затем выложил, держа кончиками пальцев, насквозь пропотевшую, выгоревшую на солнце летнюю пилотку ("Там в ней иголка с ниткой", – почему-то вспомнил Овчинников), и немец жестом гадливости смахнул ее на землю. Оттопырив пальцы, развязал узелок несвежий носовой платок, в котором были парадные, сделанные из фольги лейтенантские погоны, запасные никелированные звездочки (в госпитале лежал и сам отникелировал их Овчинников в соседней часовой мастерской). Немец бросил и это на землю. Порылся в сумке, достал офицерское удостоверение, замызганные треугольнички (письма матери из Свердловска), оставил это на столе. Потом вынул испорченную зажигалку-пистолетик, немецкую зажигалку ("Зачем он взял ее, зачем?"), с интересом рассмотрел ее, как бы ища метку фирмы, и, насмешливо улыбаясь, что-то сказал сухонькому немцу в черном плаще. Немец этот, не убрав старческую холеную руку со стола, бесстрастно смотрел на разложенную карту Овчинникова, и Овчинников чувствовал, что может упасть – болезненные удары в сердце, в голове оглушали его. Не мог вспомнить, почему, почему положил он карту не в планшет, а в сумку. "Я не хотел этого, я не хотел! Не хотел! Что делать? Броситься, разорвать карту, успеть те места с отметками затолкать в рот... Спокойно, спокойно, не так... поближе к столу! Спокойно..."
Глухой от шума крови в висках, он сделал шаг к столу, но тут же чьи-то руки рванули его за плечи назад, а сухонький немец в черном плаще снова перевел глаза на его губы, пузырившиеся кровью.
Невысокий, атлетически сложенный человек в зеленом френче, одергивая френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел от машин. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки.
Сухонький в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова, полистал. У человека этого были тонкие – полоской – усики на матовом лице, косые бачки вдоль прижатых, как у боксера, ушей, неизвестный Овчинникову немецкий орден мерцал на солнце эмалью, колыхаясь на его груди, выпукло обтянутой френчем.
Подвижные черные глаза ощупали Овчинникова, засветились настороженноприветливо, и он, положив удостоверение на стол, заговорил по– русски, чуть раздвинув губы улыбкой под тонкими усиками:
– Лейтенант Овчинников, Сергей Михайлович, командир огневого взвода
первой батареи первого дивизиона двести девяносто пятого артполка?
Как от толчка, Овчинников дернулся головой, услышав это чисто русское произношение, каким не мог владеть немец, и, удивленно впиваясь зрачками в матовое, гладко выбритое лило человека, понял, кто этот переводчик.
И сквозь кривую, застывшую усмешку, с клекотом крови в горле спросил:
– Русский? Ты – русский?
– Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это поняли?..
Послышался звук над вершинами сосен – тяжелое шуршание приближалось издалека, – дальнобойный снаряд летел, будто посапывал, дышал, расталкивая воздух. И, ударив по лесу оглушительным грохотом, разорвался в чаще, за поляной. А Овчинников, поглядев в ту сторону, охваченный дрожью, злобной радостью, бившей его, подумал с последней надеждой: "Сюда, сюда, братцы родные, прицел бы снизить на два деления. Давай, давай, братцы! Сюда!"
Все вопросительно повернули головы к немцу в плаще, тот не выразил старчески сухим лицом тревоги, слабо провел белой ладонью по гладким седым волосам, не без недовольства сказал переводчику какую-то фразу и холодно кивнул женственно-красивому немцу – адъютанту, по-видимому. Тот сейчас же откинул фарфоровую пробку горлышка бутылки, налил в металлический стакан сельтерской воды, и сухонький седой немец отпил несколько глотков, устремив раздраженный взгляд на переводчика. Тот, искательно играя глазами, заторопился, заговорил резче, но Овчинников его не слушал. Пристально, не мигая, смотрел он на бутылку с фарфоровой пробкой.
И он вдруг поразительно отчетливо вспомнил, как в Польше освободили концлагерь. Полусожженные трупы один на другом лежали там штабелями, с дырками в затылках: женщины в одном месте, мужчины – в другом. Оставшиеся живыми рассказывали, что немцы расстреливали их перед уходом, приказывали ложиться лицом вниз, и люди покорно ложились, живые на мертвых: женщины в одном месте, мужчины – в другом. Немецкая мораль не позволяла класть мужчин и женщин вместе, это считалось неприличным. И каждый академический час -сорок пять минут, устав от выстрелов, вспотев, немцы, не забывая пунктуальную точность, садились на траву, пили сельтерскую воду. Соломенные корзины с пустыми бутылками стояли здесь же, около штабелей трупов. И эти корзины видел Овчинников. Тогда поразило его, почему люди покорно ложились под пули? Устали от страданий? Хотели покончить с этими страданиями? Люди ждали, а они пили сельтерскую воду...
Он стоял, смутно видя смуглое лицо переводчика, тонкие усики, белые зубы под ними, и уже не усмехался – не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь – что-то огромное, плотное и черное росло, душило его, стискивало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь. "Что он спрашивает? Что они все спрашивают? О минных полях? Об орудиях? Карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец... Конец?.. Неужели уйдут в Чехословакию? Карта на столе... Все время чего-то мне не
хватало... Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?.."
– Я все скажу, все скажу, вы не расстреляете меня... Я все скажу...
Он не услышал свой голос, хрип выталкивался из его горла. Он ступил к столу, увидел: переводчик с заигравшей под усиками улыбкой поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув ногу на ногу, выгнул брови. И чьи-то руки не задержали Овчинникова, как прежде, не остановили его. Он видел одно
– зеленый приближающийся квадрат карты на столе и повторял:
– Я все скажу... я все скажу...
Он рванулся к столу. Протянул руку, с мгновенной радостью почувствовав глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. Что-то тяжелое навалилось на него, сцепило горло, какие-то голоса, как вспышки в черной мгле: "Вилли! Вилли!" И на голову полилось жидкое, холодное. Его перевернули на спину. Он застонал, черная мгла исчезла, увидел небо – тоскливый, синий океан и среди синевы наклонившееся, заостренное лицо женоподобного адъютанта, прищуренные веки. Он лил ему на голову воду из сельтерской бутылки и, торопя, звал кого– то: "Вилли! Вилли!"
"Я еще жив? – вихрем пронеслось в мозгу у Овчинникова. – Я еще жив..."
Кто-то сильно рванул его от земли. Подняли на ноги, ударив по раненой руке, и от живой этой боли он пришел в ясное сознание, облизнул губы, судорожно усмехнулся. Он стоял на ногах, пошатываясь, – живучая сила держала его на земле. И вплотную придвинулась темная глубина стоячих, немигающих глаз переводчика, вонзилась острыми иголочками ему в зрачки, ноздри прямого носа раздувались.
– Последний раз спрашиваю, лейтенант Овчинников, последний раз... Слышите вы?
Потом вблизи лица переводчика появилось другое лицо, широкое, мясистое, багровое и какое-то все потное и сытое, как после обеда. Оно сочувственно морщилось, покачивалось, толстые складки короткой красной шеи наплывали на воротник с черной окантовкой. И новое лицо это как-то ласково подмигнуло Овчинникову, рыхлые губы расползлись в улыбке, показывая золотые, тусклые от еды зубы, и на мягкой, крупной ладони его взлетел парабеллум – человек играл им. "Вот этот новый убьет меня, – подумал Овчинников. – Это тот, кого звали Вилли..."
– В последний раз задаю вопрос... Слышишь?
"Теперь все, вот оно", – подумал Овчинников и засмеялся диким, клокочущим смехом.
– Курва ты, сволочь! Родину за три сигареты продал! – крикнул он, оборвав смех, и правой рукой ударил переводчика в подбородок. Проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу! Ни слова! Поняли? – и снова засмеялся хрипло и страшно, шагнув к немцам. – Думаете, в Чехословакию прорветесь? Не-ет!. Вам коне-ец! Все-ем вам конец! Ни одна сволочь не уйдет! Ни одна... Вас, как крыс, душить надо, как крыс!.. Я сам десять танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят! И если б...
Он задохнулся – не хватило дыхания. Увидел: переводчик, вытирая платком щеку, быстро, подобострастно говорил что-то нахмурившемуся седому немцу, говорил, словно оправдываясь, и просил о чем-то. И в то же время вынимал из кобуры пистолет.
А толстое, мясистое лицо тоже нахмурилось и ждало. Спуская предохранитель, переводчик подошел к Овчинникову, глянул мерцающими щелками глаз. Затем опять просительно что-то сказал двум немцам, стоявшим за спиной Овчинникова, и его повели.
– Выслужиться хочешь, сволочь? – крикнул Овчинников. – Так ты увидишь, курва, как умрет лейтенант Овчинников!
Короткий возглас на немецком языке услышал он позади. Невесомо-легко стало ему, никто не сжимал раненую руку, но он все-таки хотел повернуться, чтобы увидеть то, что ожидало его за спиной, прохрипел:
– Стреляй в лицо, курва предательская!..
И не успел повернуться, что-то с треском толкнуло, ударило его в бок, в грудь, и он еще почувствовал жесткий удар земли в щеку, а почувствовав это, он хотел вспомнить что-то ясное, чистое, синее, что было в его жизни, что должно было быть, но не мог вспомнить...
Он не знал и не мог уже видеть, и чувствовать, и знать, что в эту секунду к нему, улыбаясь золотой улыбкой, вразвалку подошел тот самый вызванный Вилли, нагнулся, потом, презрительно поморщась, взглянул на переводчика и спокойно, расчетливо выстрелил три раза в лицо Овчинникову, который в эти секунды еще жил...
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Бой на северо-востоке от города Касно постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел с ходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Подожженные танки перед высотой, бронетранспортеры, разбитые машины на шоссе неохотно и дымно горели до полудня. И как только начал затихать здесь бой, стала особенно слышна тяжеловесная канонада в стороне Касно. Грифельная мгла косо шла над городом, занимая полнеба. Во мгле этой через каждые полчаса приходили с востока большие партии наших штурмовиков; разворачиваясь, ныряли над улицами, подолгу обстреливали и бомбили, казалось, центр города.
Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, исступленные боем, вповалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить, кислая горечь была во рту.
В полдень принесли в термосах завтрак. Солдаты задвигались: нервно зевая, загремели котелками, ложками выскребывали из них землю. Но ели пшенную кашу устало, не жадно, запивая терпким трофейным вином, все косились на горевший город, недоверчиво взглядывали на удивительно чистый, солнечный, синий край неба над Карпатами.
В кристально студеной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие, по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело, поблескивая, озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. Туманный круг его стоял над вершинами лесов, над острыми пиками Карпат.
И в молчании мирно-тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой. Непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину.
Это ощущал и Новиков. В течение пяти часов батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера, решающий удар для той и другой стороны. Он знал это – и не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было, и возникло тревожное предположение: немцы прорвались к центру города, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.
– Что ж... всем завтракать. Да как полагается. Не мусолить, а по– настоящему жрать! – сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость. -Наминать кашу так, будто на три года в оборону здесь встали!
Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно, долго вытирал ложку чистой паклей. Новиков, сидя на станине, взял ложку, зачерпнул из котелка и, поднеся к губам, сказал насмешливо:
– Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только скатерти не хватает. Верно? И на кой... нарезали аристократическими ломтиками хлеб? Себе вон кусищи какие навалили! Вы за кого меня – за красную девицу принимаете? А как у вас аппетит, младший лейтенант?
И, сказав это, потянулся к большим ломтям хлеба, которые Ремешков положил отдельно для себя на расстеленную плащ-палатку.
Младший лейтенант Алешин ел не без аппетита, вдруг смешливо посмотрел ярко-синими глазами на замкнутое лицо Ремешкова, черенком ложки сдвинул на затылок фуражку, хотел спросить: "А где же ваш вещмешок?" – но поперхнулся, закашлялся и, прикрывая смущение, спросил, обращаясь к Новикову:
– Дернем, товарищ капитан? Я захватил ром, – и с видом пьющего, легкомысленного человека отстегнул фляжку от пояса.
– Пожалуй, дергать воздержусь, – ответил Новиков. – До завтрашнего утра пить не будем.
– Вот уж напрасно, – притворно озадаченно вздохнул Алешин, разглядывая фляжку. – После такого боя стоило. А то каша в горло не идет! Нет, а я все же выпью! Можно? За подбитые танки, товарищ капитан! – И, запрокинув голову, отхлебнул из горлышка несколько глотков, дружески, взволнованно сияя глазами, предложил фляжку солдатам: – Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? За подбитые танки! Всем по глотку!
Никто не поддержал его. Все лениво жевали, глядя в котелки.
– Эх вы, чудаки, за танки ведь! Что, плакать будем, что ли? – сказал Алешин, покраснел и так заскреб ложкой в котелке, что Новиков чуть улыбнулся.
Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам, его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которые он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору.
Порохонько не ел, даже не притронулся к котелку, лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс, галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом:
Лопатками аж чую – земля гудит. Танки по городу идут, прорвались
они...
– И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикове. – Погибать тут, не в России, – вое одно що мордой вышню давить. Двинут они – и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, та помаленьку на хребтине – раненых сюда. А, товарищ капитан?
Новиков молчал. Порохонько снова лег, вспоминающе следил за движением облаков в небе, губы его подрагивали.
– Если бы знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. Да и тот вещмешок... Сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло...
И угрюмо, исподлобья Порохонько покосился на молчавшего Новикова.
Ремешков сидел над пустым котелком, отламывал, бросал в рот кусочки хлеба, жевал осторожно.
Хотя приказ оставить орудия исходил от Овчинникова и они не могли не исполнить его, люди эти, бросившие раненых, понимали и чувствовали, что потеряли свою человеческую ценность и для Новикова, и для солдат: никто будто не замечал обоих.
Наводчик Порохонько воевал в батарее ровно год, пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Порохонько выверенно и точно; постоянно возил в передке банку белил; после каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия, затем, расставив циркулем ноги, подолгу любовался этим знаком, довольный, сообщал всем: "Ось так. Ясно, славно! Ось где нужна арифметика! За Петро, хлопчика-цыганка! Его медаль!"
Кто был, однако, этот Петро-цыганок – в батарее не знали. Но уже дважды награжденный, Порохонько ордена не надевал, а, деловито завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки, как самую большую ценность.
– Нет, не можу ждать! – повторил Порохонько и с силой постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь. – Я ж не можу ждать, товарищ капитан. Терпежу нет.
Лягалов там. Я ползком... Ремешкова возьму...
– Помолчите, Порохонько! – сказал Новиков наконец. – Етттьте лучше кашу! Я не верю в это.
Порохонько побледнел, щетина стала чернее на щеках, подбородке, спросил нащупывающим голосом:
– Не верите? Что ж, может, и ордена задаром дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный!.. Может, так?
И он зло достал из кармана гимнастерки узелок с орденами, взвесил его на ладони, длинное мрачное лицо стало замкнутым.
– Тогда возьмите ж, товарищ капитан!
– Давайте ордена, – сказал Новиков спокойно и протянул руку. – Значит, я ошибся...
Он много видел отчаяния на войне и знал: не надо жалеть людей, когда они теряли землю под ногами в минуту слабости, и, хотя сейчас видел в глазах младшего лейтенанта Алешина растерянность и осуждение, он сухо повторил:
– Давайте ордена. И так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую батарею. Ремешков, вы что хотите сказать?
Ремешков, безмолвно собиравший котелки, чтобы помыть их, с выражением застывшего недоумения обернулся к Новикову белобровым лицом своим, произнес тихо:
– А когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне: если меня убьют, доложи, мол, капитану, что десять танков подбили. Порохонько, мол, четыре. – Ремешков, сглотнув, глянул в сторону Порохонько. – И прицелы, мол, отдай капитану.
– Це же не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка. И ордена его, – то ли обращаясь к Новикову, то ли к самому себе, шепотом проговорил Порохонько, стискивая в горсти узелок с орденами, моргая обожженными порохом ресницами.
– Як быть, товарищ капитан?
– Спрячьте ордена, пока я не раздумал, – сказал Новиков холодно. Батарея за несколько часов потеряла двенадцать человек. Я не хочу, чтобы было двадцать. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку.
Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил:
– По лицу видел: все время хотел что-то сказать. Ну, слушаю.
– Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его... Зачем? Замечательный ведь наводчик! – горячо заговорил Алешин. – Я за него ручаюсь! Товарищ капитан, я ведь верю вам!.. Но он прав. Разве можно ждать? Терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан, мы оставили раненых?
Новиков сказал:
– Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют, такие штуки, как с Порохонько, – это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя?
– Вы убили его? – полуутвердительно сказал Алешин. – Я видел...
– Этого я не видел, – покачал головой Новиков. – Я чувствовал, они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.
– Не верите ему?
– Не в этом дело.
– Вы вместо наводчика сами стреляете! Тоже не верите?
– Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.
Алешин замялся, брови его хмурились, каштановые волосы наивно лежали на незащищенно чистом лбу, открытом сдвинутым назад козырьком фуражки. Но весь вид его не был беспечно лихим, как давеча, когда после боя пришел он от орудия весь налитый радостью молодого тщеславия, – расчет его подбил четыре танка. И Новиков подумал: они недалеко друг от друга по годам, но что– то резко отделяло их, просто он чувствовал себя гораздо старше Алешина, и странная, похожая на горечь нежность толкнулась в нем. "Он сохранил то, что потерял я, -жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому, что он год был рядом со мной и смог сохранить то, что я терял? – подумал Новиков. – Неужели это так?"
– У них ведь снарядов нет, товарищ капитан! – заговорил, помолчав, Алешин.
– Пять снарядов – почти ничего. А Лена там... С ранеными. Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем!.. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру... И не понимаю, не понимаю... Почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывая его.
"В отличие от меня он понимает только добро в чистом виде, – опять подумал Новиков, вспомнив недавний разговор с Гулько. – Он не умеет скрывать то, что надо иногда скрывать в себе, не научился ждать, терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять: порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще два года назад я думал иначе".
– Надо понять, – проговорил Новиков, – надо понять: нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди – значит, орудия существуют. Пять снарядов – не один снаряд. Это пять выстрелов по переправе. По танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на два, на три часа, на сутки продлится дольше.
Все ясно? Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.
Он расстегнул пуговичку на воротнике гимнастерки, сбросил ремень, лег на солому, слыша, как в замешательстве вышел из землянки Алешин. И только сейчас почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и, испытывая наслаждение, скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза – блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом, неясно и невесомо возник чей-то голос: "Там раненые возле орудий... Где Овчинников? Овчинников убит? Богатенков убит, Колокольчиков убит... Убит? А Лена? Она убита? Не может быть..."
Сквозь этот хаос вспышек, сквозь этот незнакомый голос он с чувством мучительного преодолении дремоты пытался вспомнить, представить ее лицо, какое было оно у живой. Что это? Для чего она здесь? Он где-то стоял в тишине под фонарем у забора, падал снег, и она открыто, смело, готовая на все, шла к нему узкими шагами, стройно покачиваясь, и в такт шагам колыхалась ее шинель. Но когда это было? В детстве? Что за чепуха! Вот ее последнее письмо, которое он все время носил с собой. "Тебя уже не было в живых, ты был убит, а мы сидели с ним три года за одним столом в пятой аудитории, помнишь? Вместе готовились к зачетам, и я привыкла к нему. Дима, об этом надо было сказать сразу, ведь ты веришь..."
"Молодец! В первый раз сказала прямо, лучше всего ясность... Спасибо, милая Лена... Она убита? Не может быть! Кто это сказал? Младший лейтенант Алешин? Но он не знал никогда ту Лену, тот фонарь, тот снег... Я не говорил об этом. Откуда он знал?"
Вспьттттки исчезли, что-то глухое, вязкое душило его, навалясь на грудь, и Новиков, задыхаясь, чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу. Весь в испарине, он застонал, точно стиснутый в накаленном солнцем мешке, и от ощущения физического неудобства повернулся на бок. И, на минуту очнувшись от липкой дремоты, смутно понял, что физически беспокоило его, – жали тесно, колюче сапоги. Стараясь восстановить в памяти бредовую путаницу сна, он, упираясь носком одного сапога в каблук другого, хотел стащить их с ног, чтобы освободиться от этой горячей тесноты и наконец испытать ощущение отдыха. Но неясные отблески беспокойства оставались в сознании, не покидали его.
Громкие голоса, движение возле землянки заставили Новикова разомкнуть глаза.
Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.
– Что там? – крикнул он, уже машинальным движением стягивая ремень, оправляя кобуру. И, вскочив, шагнул к выходу, завешенному плащ-палаткой, отдернул ее, тревожно охваченный предчувствием: случилось что-то с орудиями, с Леной...
На пороге стоял младший лейтенант Алешин, трудно переводя дыхание: он, видимо, бежал от огневой.
– Что случилось? Орудия? Лена? – тотчас спросил Новиков, по какой-то внутренней связи соединяя все в одно.
Алешин, подавляя возбуждение, доложил:
– Петин, товарищ капитан... От Гулько... там черт те что... Танки прорвались. В центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.
– Какие машины?
– Там Петин на огневой, товарищ капитан... Одну машину привел. Вас ждет.
Осторожней, тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию, откуда -непонятно! Вот гады!
– Пошли!
Новиков вышел из полутьмы землянки в прозрачную чистоту осеннего воздуха, в ход сообщения, залитый солнцем, и здесь Алешин остановил его:
– Пригнитесь, товарищ капитан! Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите!
И указал на выщербленные белые отметинки – следы пуль на выступавших из земли торцах наката.
– Откуда обстреляли?
– Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан!
Но прежде чем пригнуться, Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков, мирно желтели на солнце сосновый лес, бугры позиций Овчинникова, – настороженный, обогретый, странный покой был здесь. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя. В мрачно ползущей стене дыма над городом с рокотом мелькала партия наших штурмовиков, снижаясь над улицами, высекая пушечные вспышки, скачкообразные, покрывающие все разрывы бомб потрясали землю.
– Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же... – Алешин не успел договорить: сухой щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката над головой Новикова. Оглянулся – пуля легла в пулю – и посмотрел туда, где в голубой солнечной тишине перед высотой мягко лопнул выстрел. Звук выстрела растаял бесследно, но показалось Новикову: стреляли недалеко.
– Надо бы выследить эту сволочь, – сказал Новиков и, все-таки пригнув голову, пошел по ходу сообщения. – Возьми на себя, Витя. Перещелкает людей поодиночке. Слышишь?
– Здесь не один, – ответил Алешин, вглядываясь в торцы наката. Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют!
На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он, громоздкий, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Вода текла на разорванную гимнастерку, на грязные колодки медалей. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал:
– Сидите! Что в городе? Рассказывайте. Подробнее... А это что у вас с глазом?
Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла,
кровоточила мелкими порезами, один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его:
– Говорите при них. Они все должны знать. Что, танки в городе?
– Прорвались... В центр, – рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил из котелка, вытер губы. – Связь перерезали... Майор Гулько в боепитание послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали из улицы в центр на площадь, глядь – возле костела танки какие-то. Думал, наши, а они как махнут по нас из орудий! Я с шофером сидел, осколки – по стеклу, что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режет только...
Петин замолчал, неловко почесал глаз, с досадой ощупал разорванную гимнастерку.
– А это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам – от майора. Вот. Ответ пропишите.
Петин вынул из кармана кисет, из него – аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным, мелким почерком: "Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам – будет легче. Майор Гулько".
"Кому нужны сейчас эти сантименты?" – подумал Новиков и, хмурясь, сунул записку в карман. Сказал:
– Письма писать некогда. Передайте – батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?
– А там, внизу, под высотой, – полуобиженно мигнул заплывшей краснотой глаза Петин. И спросил уже неспокойно и потерянно: – А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется...
Новиков не смотрел на него.
– Всем – к машине, от огневой ползком, перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям! – негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. – А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам...
И после этих слов совсем ненужно вспомнил близкие теплые зрачки в темной, втягивающей глубине Лениных глаз, вздрагивающие от смеха ресницы, легкое, прохладное прикосновение пальцев ко лбу. "Не смотрите на губы, там ничего нет, смотрите мне в глаза! Ну?"
Как-то месяц назад в глаз ему попала соринка во время стрельбы, и Лена вытаскивала ее. Она хорошо это сделала, но и тогда раздражала Новикова своей вызывающей нестеснительностью.








