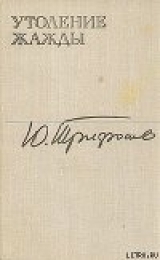
Текст книги "Утоление жажды"
Автор книги: Юрий Трифонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Потом ребята рассказывают, как они живут в песках, словно полярники, «в кучке», неделями не видят газет, не слышат музыки, а в Ашхабаде, кроме гулянья, у них много дел: надо купить для клуба радиолу, волейбольную сетку и пластинок повеселей. Вот пластинок хороших нигде нету. Не могли бы мы, как артисты, помочь им насчет пластинок? Саша что-то обещает, дает телефон.
С ребятами интересно, я бы сидел и слушал, но вдруг замечаю за дальним, возле окна, столом знакомого человека. Красное, шкиперское лицо, глубокие, как шрамы, морщины вокруг рта. И этот темно-зеленый костюм, заграничный, из нейлона, который так аккуратно развешивался каждый вечер на стенке купе. Четверо суток ехали вместе. За четверо суток я почти ничего не узнал о нем: он отмалчивался, пил пиво и скверно играл в шахматы. Кажется, он возвращался сюда после очень долгой отлучки.
Я подхожу отменно твердой походкой.
– Здравствуйте, Денис.
– А-а, привет вам! Садитесь…
Я сажусь. Рядом с ним сидит маленький, со взъерошенной сивой шевелюрой, с лицом сухим, сердитым, болезненно желтым Борис Литовко.
Денис смотрит на меня долгим взглядом, не мигая, и молчит. По его глазам я вижу, что он чудовищно пьян. Наконец он с трудом разлепляет губы.
– Вот с этим курчавым, – он кивает на Бориса Литовко, – вот с ним мы начинали жизнь. Лет почти двадцать назад. Мы были тогда молодые и красивые, то есть красивым был я, а он был такой же сушеный боб, Борис Григорьевич, он же крошка Цахес, только волосы у него были черные, и он умел нравиться женщинам, потому что помнил десять тысяч анекдотов… Ты ни черта не изменился, крошка! Я узнал тебя на улице по спине!
– О чем ты болтаешь? Никому это не интересно, – говорит Борис Литовке.
– Я вспоминаю тот день. Мы приехали красноводским поездом. Я даже помню, какие у тебя были ботинки: такие высокие, красные, с крючками. Помнишь?
– Помню, помню, это никому не интересно. Интересно другое: ты мужчина? У тебя есть воля?
– Я мужчина. Но я старый мужчина.
– Ты не старый, ты просто липа! Слюнтяй! Десять дней собираешься с духом, хотя в этом абсолютно нет сложного. Время тебя подняло из дерьма, поставило на ноги, а ты боишься сделать шаг.
– Крошка, о чем ты говоришь? Если бы ты прожил мою жизнь…
– Я прожил свою жизнь. Давай махнем не глядя, а? – Литовко зло усмехнулся. – Твоя страшная жизнь длилась шестнадцать лет, а моя семнадцать секунд. Но за эти секунды я потерял все. Все, что у меня было: мать, жену, двоих детей – мальчика девяти лет и девочку шести… – Теперь он обращается ко мне, потому что Денис, видимо, все это знает. – А почему я остался жив? Я вышел на двор. Это было ночью, в два часа ночи. И меня лишь задело доской, когда свалилась уборная.
Денис закрывает ему рот ладонью:
– Ладно! Молчи…
Потом я узнаю историю Дениса, которую тоже рассказывает Литовко. Трудно слушать, меня томят неотвязные мысли (с ним бы можно посоветоваться начистоту и спросить: есть у меня шансы в газете? Как бы спросить? Он там не маленький человек, ответсекретарь, но суть рассказа я улавливаю.
Денис не был дома шестнадцать лет. В сорок втором попал в плен, освободили американцы. Застрял в Европе, шлялся из страны в страну, как перемещенное лицо, и вот лишь недавно приехал, после амнистии. Он приехал в город, где оставалась его семья, жена и сын, и до сих пор их не видел. Не хватает смелости пойти. Никто, кроме Бориса Литовко, не знает, что он приехал, но он сам уже знает все. Он знает, что у жены другой муж, некто Аннаев, туркмен. Директор школы или, кажется, техникума. Живут хорошо, у них свой дом на Пишпекской и автомобиль «Москвич». А сын Володька – ему было полтора года в сорок первом, когда Денис уехал, – сейчас верзила баскетбольного роста, десятиклассник. И, кажется, фамилия у него не Кузнецов, а Аннаев. Вот уже вторую неделю Денис живет у Литовко, в холостяцкой комнате на окраине. А что будет дальше? Он пойдет туда завтра, а может быть, через месяц.
Денис ковыряет вилкой салат, роняя томатные капли на свой гамбургский, слегка уже потертый на обшлагах костюм. Смотрю на его опущенное к тарелке лицо, красное, выдубленное годами, тоской, окаменевшее сейчас в каком-то воспоминании. Он, так же как я, почувствовал это всей кожей: слом времени.
Нет, спрашивать у Литовко ничего не буду. Если б он мог что-нибудь сказать, он бы сам сказал. От него там ни черта не зависит.
Столики вокруг нас опустели. Кажется, только что было утро, а вот уже поздний вечер. Когда-нибудь я с таким же удивлением подумаю о жизни. Так быстро? Неужели? А пока что за окном душный, окутанный ночью город. Я почти не знаю его, но он мне нравится, он похож на человека, тоже поднимается из развалин, и мне будет жалко, если я уеду отсюда. А я уеду. Невозможно ждать. У меня нет денег, нет времени, проходит жизнь, я не могу ждать. И я никогда не узнаю, встретится ли Денис со своей семьей и как устроился в этом мире потерявший все Борис Григорьевич Литовко. И потом – мне нравятся желтые горы. По утрам они розовые. Интересно, какого они цвета, если подойти близко?
Официантки зевают. Музыканты пьют пиво за столиком возле эстрады, свет над эстрадой потух, пианино в чехле.
Подходит Саша.
– Ты остаешься?
С Борисом Григорьевичем они обмениваются холодными взглядами. Странные люди, ссорятся из-за пустяков. Я вспоминаю, что надо рассчитаться, но Саша говорит, что уже рассчитались. Ребята с канала заплатили за весь стол.
– Чему ты удивляешься?
– Они, по-моему, нас не знают.
– Ерунда. У них денег вагон.
Кажется, я забыл попрощаться с Денисом.
По темной улице сочится запах листвы, сладкий и тяжелый, как патока. Шаркаем по асфальту. Он еще теплый после дневного зноя. На скамейках во мраке гнездятся парочки. Мы проходим мимо распахнутых ставен, мимо окон, затянутых марлей и металлическими тонкими сетками от москитов, и слышим обрывки неясной ночной жизни: шепоты, невнятную речь, тихие вздохи музыки. Прощай, город! Через неделю я покину тебя, с твоей духотой, с твоими ночами, звездами, с твоими людьми, занятыми своей жизнью…
В окнах телеграфа горит свет. Саша вспомнил, что ему надо послать телеграмму жене. Она сейчас где-то далеко, в пустыне.
– У нее, между прочим, жизнь – не подарок, – бормочет Саша. – А мы тут пьем, гуляем…
Сажусь на лавку и жду, пока Саша напишет текст. Какие-то люди с застывшими, сонными лицами сидят по углам зала в ожидании вызова к междугородному телефону. Я бы тоже послал кому-нибудь телеграмму, но кому? И потом мы долго идем по ночным улицам, где почти нет фонарей, и из каждой подворотни на нас лают собаки. Весь город лежит во тьме, а над головой – яркое, цветущее звездами небо. Оно кажется живым от звезд, оно переливается, искрится, в нем бродят свечения, голубоватые и серебряные, колышется беспредельный свет, оно светлое. И только на южном краю темно и беззвездно. Там горы. Сейчас они черные, как земля, по которой мы идем.
5
Раскалившимся шаром, утопая в жаркой пыли, катилось лето. Все дальше таранили пустыню строители, метр за метром выгрызали ее нутро, и все короче становился, пока еще неощутимо, недоступно слуху и зрению, гигантский путь до Мургаба. Вновь прицепили будки к тракторам и поволокли на запад – на новое место.
Нагаев прекрасно жил в одной будке с Мариной: чужак чужаком. Ни он ей, ни она ему не мешали. Она, как и раньше, ходила на вечерние посиделки к Ивану и Беки и пела «Голубку», Иван по-прежнему получал тумаки, а Беки тосковал молча.
Марина нисколько не стеснялась тем, что рядом на койке живет мужчина. Она его, всегда хмурого, озабоченного мыслями о кубах, о работе, и за мужчину как будто не считала. Так, работяга вроде отца, скучный, старый и совсем не похожий на настоящих «кавалеров» и «мальчиков», о которых у Марины было твердое представление как у постоянной посетительницы Керкинского парка. По утрам она приказывала отцу и Нагаеву: «Вы! Отвернитесь!» – или же: «Уходите оба! Я мыться стану».
Иногда Нагаев уходил, а иногда, если возвращался усталый после ночной смены, отвечал сердито:
– Ноги не ходят…
И отец уходил, а Нагаев оставался лежать на койке, отвернувшись к стене. Марина плескалась в тазу, фыркала и шлепала себя по тугому телу: она была невероятная чистюля, обливалась до пояса чуть ли не каждый день. На новом месте вода была вольная, туркменский колодец рядом, купайся – не хочу.
Приговаривала враждебным шепотом:
– Смотри, если повернешься! Как дам тазом по голове, тогда узнаешь.
– Нужна ты мне, как корове зонтик… – бурчал Нагаев.
Любила вести с Нагаевым ехидные разговоры:
– Семеныч, а верно говорят, что ты самый богатей из экскаваторщиков? У тебя, брешут, сорок тыщ на книжке.
– Кто сказал? – настораживался Нагаев.
– Люди вообще… А не правда?
Нагаев отмалчивался или отвечал грубо, стремясь прекратить неприятный разговор. Но отшить Марину было непросто. Она настойчиво, с притворной ласковостью допытывалась:
– А зачем тебе столько денег, Семеныч? Дядька ты старый, одинокий, ни кола у тебя, ни двора.
– У меня полдома в Дмитрове.
– Что ты понимаешь, трещотка? – вступался за Нагаева Марютин. – Сорок лет, говорит, старый. Глупость какая. Вот именно в самый раз ему деньги нужны, чтобы семью заводить и все хозяйство.
– Я б тебе показал, какой я старый, – бормотал Нагаев.
Марина хохотала:
– Ой, надо же! Комик! Только показывать и осталось, верно…
– Машка! Язык оборву! – кричал Марютин строго, а в душе смеялся.
В начале августа выдался один особо мучительно жаркий день. Никто в дневные часы не работал. Экскаваторщики валялись голышом в будках, истомившиеся, дохлые: разговаривать лень, курить неохота, и спать не спится. Даже чай налить в пиалушку рука не поднимается.
Один лишь нагаевский экскаватор громыхал в забое. Вдруг умолк. Настала тишина и длилась долго. Нагаев не появлялся. Почуяв недоброе, Бринько с Амановым натянули штаны, накинули рубашки, чтоб не спечься, и пошли в забой.
Нагаев лежал навзничь на песке возле экскаватора – глаза закатились, лицо белое, безжизненное, закинуто подбородком вверх.
Ковш, наполненный грунтом, покачивался высоко под стрелой. Видимо, в последний миг перед затмением сознания Нагаев успел нажать на тормоз.
Убедившись, что Нагаев жив, но в глубоком обмороке, Иван сгреб его в охапку и понес в будку. Аманов полез в кабину, чтобы вывалить грунт и опустить ковш, как положено.
В кабине стояла такая сухая, мертвящая жара, какая может быть в тандыре, в туркменской каменной печке, когда в ней пекут хлеб.
Догоняя Бринько, Аманов испуганно кричал издали:
– Живой? Сердце бьет?
– Да бьет, бьет, – отвечал Иван. – Сомлел от жары и кувырнулся. Жадность…
Принесли, положили на койку. Нагаев не приходил в сознание. В будку вбежала Марина, растолкала всех, начала, сверкая глазами, командовать бойко, вдохновенно:
– Куда голову лежите? Беспонятные! Батя, мочи полотенце! Да куда ты в ведро? То ж нагретая! Бегите один кто к колодцу!
Эсенов побежал. Экскаваторщики переговаривались вполголоса:
– Ему бы двести граммов…
– А где взять?
– Вот и я про то…
– Никаких граммов! И чего задымили, чего задымили? – набросилась на мужчин Марина. – Мотайте отсюда с табаком!
Через четверть часа Нагаев пришел в себя. Первое, что сказал: «Ковш опустите».
Чуть спала жара, экскаваторщики ушли к машинам. Нагаев тоже попытался встать и пойти, но свалился на пороге будки. Он очень ослаб. Он пролежал весь вечер и весь следующий день.
Марина поила его крепким чаем, смачивала в холодной воде полотенце и прикладывала к его голове и сердцу. Сильными руками она переворачивала его с боку на бок и обтирала грудь, спину и плечи холодным. Нагаев ворчал сквозь зубы. Ему было стыдно своей наготы и беспомощности. А Марина упивалась ролью спасительницы. Она по-прежнему как будто не замечала, что имеет дело с мужчиной: Нагаев был для нее просто больной дяденька, всамделишный пациент, которого интересно лечить и выхаживать. Ведь она мечтала стать медсестрой, а когда-нибудь и настоящим врачом, – правда, для этого ей не мешало бы закончить три последних класса.
Желтолицый, обросший щетиной, протянув вдоль тела худые руки, лежал Нагаев на койке и пристальным взглядом смотрел на девушку. С трудом разжимая губы, цедил:
– Ну и Трухмения, ну и дрянь земля… Пропади пропадом…
– Нет, туркменская земля хоро-о-ошая, – говорила Марина мягким, баюкающим голосом, каким полагается говорить больничным сиделкам. – Правда, солнышко у нас злое, его остерегаться надо.
– И какое меня лихо занесло сюда, дурака?
– Земля наша очень прекрасная, Семеныч. Вот поехал бы ты в Чарджоу…
– Молчи! Понимаешь ты… – Он вздыхал и отворачивался. Марина кротко молчала. – Ты ведь, глупая, жизни не знаешь. Не видала ничего, кроме песков да пылюки, – медленно продолжал Нагаев. – А какие леса в России! Реки… Городов настоящих не видела… Эх, голубка… А дожди какие! «Не осенний мелкий дождичек» – знаешь песню?
– Слыхала вообще…
– Слыхала! – Нагаев презрительно двигал рукой. – Что ты понимать можешь? Ничего.
И вновь умолкал. Марина тихо сидела на войлочном полу, а он, передохнув, продолжал вяло и сбивчиво поносить жару, стройку, начальство, вспоминал прошлое, какие-то другие стройки («Вот была житуха! Дай бог всякому!»), хвалился прежней своей жизнью и вдруг с непонятным раздражением начинал высмеивать Марину за ее любовь к Туркмении и за невежество.
И, может быть, оттого, что Марина покорно слушала, или оттого, что Нагаев просто обмяк душой и телом, он делался все откровенней и рассказал кое-что о своей жизни, чего раньше никогда не рассказывал.
Исколесил он, оказывается, всю страну – от Мурманска до Сибири. Работал лесорубом, плотником, трактористом, шофером на автобусе, а последние семь лет – экскаваторщиком на разных стройках, в том числе на Волго-Доне. И в Москве побывал, и в Ленинграде жил две недели, как генерал, в самой лучшей гостинице, и заграницу успел посмотреть в период войны. Наконец, сюда занесло, в чертово пекло.
Дальше – больше, и про семейные дела пошел рассказ. Не всю жизнь Семен Нагаев бобылем гулял. Была и у него семья когда-то – жена молодая и ребеночек. До войны, конечно. А вернулся с войны в родной город Дмитров и узнал «приятную» новость: жена другого мужика нашла, одного завгара, Лыкина Сережку. Он ей в период войны большую помощь оказывал, выручал крепко. И ничего удивительного, потому что у Сережки транспорт в руках и весь район знакомый. И, короче говоря, она к нему прилепилась, и ребеночек его уже папой зовет, полный порядок.
Марина, жадно слушавшая, сказала решительно:
– Значит, не любила она тебя, Семеныч!
– А за что любить? Пришел я гол как сокол. Барахла всякого не привез, как другие, не довелось. Был шоферяга, и обратно за баранку садись. А тот-то, Лыкин Сережка, всему Дмитрову был король, такие дела обделывал – ой, господи! Правда, на денежной реформе, говорят, погорел сильно…
– Ну, а дальше что? Как ты с ней? – не терпелось узнать Марине.
– Дальше что ж? Она с ним, с дочкой, а я сам по себе.
Марина вздохнула, нервно стискивая пальцы.
– Надо же… А дочка большая?
– Семнадцатый год нынче. Мать у меня в войну померла, из родных один брат живой, у него семья громадная, в Дмитрове живут. Там полдома мои. Когда захочу – вернусь. Да только чего там делать? Не могу я там… Я, например, понял, как жить надо. Ведь в жизни самая сила что? Вот что! – он поднял руку горстью и большим пальцем с коротким желтым ногтем потер два других пальца. – Точно говорю. Я по свету помотался, все про все знаю.
– А для чего, Семеныч?
– Что?
– Мотаешься для чего?
– Да так… – Нагаев посмотрел искоса в синие внимательные глаза Марины и сказал равнодушно: – Машину хочу купить.
– А машину для чего?
– Дурочку-то не ломай. Не знаешь, машина для чего?
– Нет, правда, коли ни семьи, ни хозяйства, зачем тебе машина?
– А это нам известный вопрос, – проворчал Нагаев и добавил сурово: – Иди-ка за дровами, шлепай. А то ребята придут, а чай кипятить нечем.
Марина внезапно расхохоталась:
– Ой, Семеныч, смешной ты какой! Комик! – И, вскочив одним движением на ноги, выбежала из будки.
На другой день Нагаев вышел в забой. Теперь он стал осторожнее и в самую отчаянную дневную пору прятался, как и все, в будку.
Жара упрочилась, тяжкая, ровная – день в день.
По клубящейся дороге, ныряя в чащобах пыли, приковыляла «летучка». Марютину и Нагаеву пришел срок по графику делать профилактику. Производили ее сами машинисты с помощью слесарей и механиков, и занимала она обычно день-два. Нагаев вдруг заявил, что делать профилактику не будет. Машина, мол, в порядке, и нечего тратить время, ковыряться попусту. И так два дня потеряны из-за болезни. Слесари с «летучки» спорить не стали.
– Отказываешься? Ладно, дело твое.
Нагаев помнил условие насчет прогрессивки, но был уверен, что к нему, знатному «киту», применить эту глупость не посмеют.
Слесари провозились с марютинским экскаватором дня полтора и уехали.
Наступил срок получки. На газике начальника прибыл кассир Мурашов, рыжеусый инвалид без левой руки, человек резкий и непочтительный. Он сразу же сказал:
– Вам, Нагаев, прогрессивка не выписана.
– Что? – Нагаев обомлел. – Да ты, парень, гляди лучше!
– Мне глядеть нечего. Получайте ваши деньги. Ставьте подпись.
Нагаев машинально пересчитал деньги. Он был поражен в самое сердце и сразу не нашелся что сказать. Мысленно высчитал: потеря составляла тысячи две с лишком. Он пришел в ярость. Как! Его, Семена Нагаева, осмелились наказать штрафом?
Он орал на кассира, просто чтоб отвести душу. Тот, конечно, был ни при чем. Но парень оказался колючий, горластый, к тому же измученный жаркой дорогой, и они кричали друг на друга хрипло и с наслаждением. Потом кассир сказал:
– Прошу мне не тыкать и выйти вон. Вы своим поведением мешаете мне соображать.
Нагаев ушел.
Когда рыжеусый садился в машину, Нагаев крикнул угрожающе:
– Завтра в поселок приеду – начальнику передай!
6
Если бы он приехал в поселок на день раньше или хоть на день позже, он, быть может, чего-нибудь и добился бы. Нагаеву не повезло. Одновременно с ним в поселок прибыли высокие гости: один из проектировщиков – инженер Баскаков, заместитель начальника Управления водными ресурсами Нияздурдыев и главный инженер Восточного участка – или, как говорили на стройке, «Восточного плеча» – Хорев.
Они прилетели почтовым самолетом из Керков и намеревались проехать на машине по трассе до Мургаба.
То обстоятельство, что важного ашхабадского гостя, творца проекта, по которому строится канал, и руководящего товарища из управления сопровождает не сам начальник стройки Степан Иванович Ермасов, а второстепенное лицо, могло постороннему человеку показаться случайностью. Ермасов находился в Марах, на «Западном плече» стройки, а гости решили поехать с востока, – что ж удивительного в том, что с ними поехал Хорев? Но люди, посвященные в сложную систему взаимоотношений между начальником стройки и проектировщиками, между Управлением водными ресурсами и начальником стройки, между начальником стройки и инженером Хоревым, видели в этом факте не случайность, а закономерность. Уже полтора года, с самого начала стройки, Ермасов вел жестокую войну с проектировщиками. Началась эта война со знаменитого «ермасовского» рейда механизмов в глубь песков, когда около сотни машин проделали героический путь в самое сердце пустыни и там был основан первый поселок. Проектировщики и некоторые работники управления до сих пор не могли простить Ермасову его дерзкого самовольства, и, хотя выгоды этой операции были теперь очевидны, примирение между противниками не наступило.
Инженер Хорев был старый ирригатор. Двадцать пять лет назад он строил каналы на востоке республики, потом работал на севере, на канале Москва – Волга, потом вновь вернулся в Туркмению. Ермасов же появился в Средней Азии недавно, вернее, как строитель появился недавно, потому что еще в конце тридцатых годов он служил тут в армии и даже воевал с басмачами. Однажды в пылу спора Ермасов, невоздержанный крикун и ругатель, назвал Хорева и его единомышленников «кетменщиками», намекая на то, что весь их многолетний опыт устарел и негоден. Язвительное словцо прилипло намертво. И забыть эту грубость было, конечно, трудно. И все же главные причины вражды Ермасова с проектировщиками, поддержанными Хоревым, были гораздо глубже: они отражали ту борьбу и ломку, которая происходила повсюду, иногда открыто, но большей частью замаскированно, скрытно и даже иной раз бессознательно. Люди спорили о крутизне откосов, о дамбах, о фразах, о мелочах, но на самом деле это были споры о времени и о судьбе.
В поселок Инче Хорев и ашхабадские гости прибыли настроенные подозрительно и недобро. Здесь стоял отряд, состоявший из приверженцев Ермасова, его ревностных почитателей, его янычар.
Прежний начальник отряда Фефлов принадлежал к числу «кетменщиков»: верил в проект, как в икону, не допускал и мысли о какой-то его перестройке и ломке. Его подкузьмила история с охотой на джейранов. Ермасов сшиб Фефлова одним ударом (спасти старика было невозможно, уж очень явно и глупо он проштрафился) и посадил на его место некоего Карабаша: говорили, что он вовсе даже и не ирригатор, а работал главным механиком вскрышного участка на угольном разрезе где-то на Урале. Словом, это был человек Ермасова.
Улицы поселка были пустынны. Днем здесь никто не работал – ни конторщики, ни рабочие. Жизнь обрывалась в десять утра и возобновлялась в пять-шесть вечера. На улице, возле склада – деревянного, с двухскатной крышей домика, глубоко врытого в песок, – Хорев увидел Семена Нагаева. Он только что выпрыгнул из кузова самосвала на землю и, нагнувшись, отряхивал запылившиеся брюки.
Экскаваторщик поднял голову, хмуро кивнул инженеру.
– Сергей Аристархович, знакомься! – сказал Хорев Баскакову. – Это наш знатный механизатор Семен Нагаев, собственной персоной. Слыхали?
– А как же. И слыхал и читал.
– Семен, а это, перед тобой, – инженер Баскаков, автор проекта, по которому вы строите.
Нагаев выпрямился, подал ладонь.
– Ясно…
– Товарищ Нияздурдыев, из управления.
– Угу.
– У тебя что, зубы болят?
– Нет.
– Возможно, с женой поссорились, нет?
– Он у нас холостяк, – сказал Хорев. – Кристально чистый, несгибаемый холостяк. Ты где сейчас, на двести сорок втором километре?
– На сорок восьмом.
– Как работаете, товарищ? – спросил Нияздурдыев. – Жару переносите хорошо?
– Да жара – ладно, переносим, а вот другое переносить не могу. Я, товарищ Хорев, сюда ругаться приехал.
– Что так? – Хорев сделал удивленные глаза и взял Нагаева под руку, всем своим видом подчеркивая благожелательность и внимание.
Они пошли рядом. Нагаев рассказывал, как его «женили» с прогрессивкой. Хорев слушал, кидал многозначительно Баскакову: «Видали?», «Знакомый стилек!»
Затем Хорев сказал, что Карабаш все делает правильно, регулярную профилактику вводит правильно, вещь нужная, рваческое отношение к технике до сих пор не изжито, но заставь, говорят, умника богу молиться, он и лоб расшибет. Карабаш, видимо, недостаточно знает своих людей. Хотя за три месяца пора бы уже познакомиться. Тут вступил в разговор Баскаков и сказал, что Карабаш безусловно отменит свое решение, когда разберется в существе дела. Вышло явное недоразумение.
– Нам таких орлов, как Семен Нагаев, обижать негоже, – сказал Хорев и похлопал Нагаева по плечу. Хорев был грузный, коротконогий, а Нагаев длинный, тощий, и похлопывание вышло неловкое. – Это будет негосударственный подход к нашему самому ценному капиталу. Ты понял?
Нагаев пожал плечами:
– Вообще-то да…
Вместе поднялись по крыльцу конторы, вошли в кабинет: впереди замначальника управления, за ним Баскаков, Хорев и Нагаев последним.
Карабаш, в клетчатой выгоревшей ковбойке, с засученными до локтей рукавами, стоял посреди комнаты, быстро и решительно пожимал руки.
– Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. – Увидев Нагаева, пожал руку и тем же сухим тоном: – А вы с товарищами? Нет? Тогда прошу, пожалуйста, подождать немного.
Нагаев вышел за дверь.
Весь его заряд драчливости, копившийся со вчерашнего дня, внезапно пропал. Он и слова не успел сказать, а уже пришлось уйти. И теперь еще ждать надо, а ждать – хуже нет.
Угрюмо сел он на стул в уголке соседней комнаты, возле окна, нога на ногу, задымил папиросой. Одна из женщин, скрипевшая пером в большой книге, сказала строго: «Здесь не курят, гражданин. И так дышать нечем». Нагаеву пришлось отступить еще дальше, на крыльцо. Там примостился в тени на корточках и курил всласть, утешаясь от смутной обиды.
Через полчаса вернулся в комнату, где сидели две женщины и пожилой мужчина с бородкой, в полотняных брюках и серой сетчатой майке. Мужчина щелкал на счетах, женщины скрипели перьями. Все трое выглядели сердито. Было уже около двенадцати, давно наступило время перерыва, но конторские не собирались уходить: видимо, делали срочную работу по случаю приезда начальства. И оттого были такие сердитые.
Нагаев опять сел на стул возле открытого окна. Все окна в комнате и дверь наружу были настежь, для сквозняка, но не чувствовалось никакого дуновения. Бородатый, в сеточке, сидел на мокром стуле и утирался громадным полотенцем. Вздыхал тихо: «Ах, жизнь каторжная!», а Нагаев усмехался про себя и думал: «А ежели тебя в забой на часок – что тогда?»
В комнату зашел старший механик Мухтаров, знакомый Нагаева, потом заглянул прораб Байнуров. Нагаев с ними не заговаривал о своем деле. Он скупо и с важностью отвечал на приветствия, смотрел да слушал. Забегали и разные иные люди: одни по работе, другие насчет жилья и зарплаты или же насчет машины в Керки, чтоб поехать на рынок, а некоторые – так, по-пустому. Большинство сразу толкались в дверь, к начальнику, но строгая дамочка никого не пускала: «Нельзя, нельзя! Там совещание».
Совещание длилось долго – час, а то и два. Обе женщины и мужчина в сеточке замкнули ящики в своих столах, надели белые панамы и ушли отдыхать.
Наконец дверь кабинета распахнулась, и оттуда, продолжая разговор, вышли четверо. И у всех четверых были влажные, возбужденные лица, а у начальника под глазами легли белые полукружья. Говорил он необычно громко, напирая на каждое слово:
– Это вопрос решенный, товарищи! Есть указание Степана Ивановича Ермасова… – Карабаш обежал сидящих в комнате отсутствующим взглядом. Наткнулся глазами на Нагаева. – У вас ко мне дело, товарищ Нагаев?
– Да у меня что ж… – Нагаев поднялся, шагнул к начальнику. – Недоразумение вышло, Алексей Михайлович.
– Именно?
Нагаев рассказал. Все внимательно слушали, только Нияздурдыев и Баскаков отошли в сторону и рассматривали висевшую на стене карту.
– Нет, дорогой Нагаев, недоразумения тут нет, – сказал Карабаш. – Удержали с вас правильно. Согласно приказу.
– Правильно?
– Правильно.
– Алексей Михайлович, мне думается, вы тут несколько… – начал Хорев. – Вы рассудите логично. Семен Нагаев известный наш товарищ, знатный передовик. Он относится к машине образцово. Об этом не раз писали, это факт. А вы рубите сплеча, чешете всех под одну гребенку. Зачем? Ради чего вы это делаете? – Голос главного инженера задрожал и взвинтился. Глаза его сквозь стекла очков вонзились в Карабаша почти с ненавистью. – Ради голой строительной идеи? Я давно замечаю этот ваш заскок!
– Давно вы меня не знаете.
– Не в первый раз, не в первый раз! Да, да!
– Вы считаете, что окольцовка озер – голая строительная идея? И это говорите вы, инженер, человек практики? Ведь тут экономия сотен тысяч рублей.
– Тут грубейшее нарушение проекта, вот что! – быстро, задыхаясь, проговорил Хорев. – А вы думаете, что окольцовочные дамбы будут стоить дешевле?
– Конечно.
– Сомневаюсь! Никогда!
– Геннадий Максимович, простите меня, но вы мне напоминаете правоверного мусульманина, который боится изменить два слова в сурах Корана, хотя там, как известно, много плохих стихов и совершенных нелепостей с точки зрения здравого смысла.
– Не знаю, я Корана не читал. Вы можете говорить какие угодно дерзости…
– Идемте к карте, Геннадий Максимович. Вот озера! Здесь висячее дно. Здесь надо возводить гигантские дамбы – больше трех километров длиной…
Они подошли к карте, возле которой стояли Баскаков и Нияздурдыев, и ожесточенный спор, длившийся уже два часа, покатился дальше. Про Нагаева забыли. Он сумрачно слушал громкий разговор начальства. Раза два мимоходом Хорев и Карабаш касались истории с профилактикой, причем Хорев защищал Нагаева, а Карабаш нападал на него, но Нагаев видел, что это говорится только для спора и в пылу спора, а на самом деле в его положение не вникали.
«Упрямый, дьявол, – думал Нагаев, глядя, как Карабаш отбивается от троих. – Никак не уломают. Видать, накрылась моя прогрессивка. Уходить надо, толку не будет».
Однако – сам упрямый не менее – Нагаев не уходил, ждал, пока начальство наговорится. И как вспоминал, что две тысячи из кармана фьють, так прямо в голову что-то вступало от злости.
Наконец большие начальники ушли, и Нагаев подступил к своему начальнику, оставшемуся в одиночестве. Карабаш поднял на него измученные глаза и покачал головой.
– Нет, – сказал он бессильно и откашлялся. – Напрасно ждали. Кого другого я бы, возможно, и простил, а вас… – Он снова откашлялся, громче. – Нет. Пусть узнают люди, что самому Семену Нагаеву прогрессивку резанули, и поймут тогда, что дело нешуточное.
– Значит, нет?
– Нет.
– Да что ж, выходит, я… – нервно возвысил голос Нагаев.
– Да, да, – тихо прервал его Карабаш. – Очень полезно наказать вас для примера. Я даже приказ велю вывесить, чтобы все знали. Внедрять регулярную профилактику будем железной рукой. На первых порах будут недовольные, обиженные, но потом сами станете нас благодарить. Вот так. У вас еще что-нибудь ко мне?
– Ничего… – буркнул Нагаев.
Он испытывал гнетущую растерянность. Надо бы поднять тарарам, наскандалить, наорать на начальника вроде того, как он давеча наорал на кассира, но не хватало духу начать. Потоптавшись возле стола и пробормотав нечто невнятно-угрожающее: «Ладно, поглядим тогда», – Нагаев повернулся и вышел.
Машин в сторону лагеря не было. Приходилось болтаться в поселке до утра, ждать автолавку. Нагаев направился к магазину, где работала Фаина, зазноба Ивана Бринько.
Нагаев не любил поселка. Это была деревня, шумная, большая деревня. Здесь пахло жильем, щами, старым пыльным брезентом, уборными и хлором, которым эти уборные заливались. Юрты, деревянные будки и бараки стояли вразброс на огромном песчаном плато. Многие рабочие жили здесь семьями, с детьми и стариками. Некоторые держали кур, другие – поросят и коз.
Сейчас, в дневные часы, зной опустошил поселок, как чума. Ветер крутил пыль по вымершей улице, трепал белье на веревках, просушивая его горячим песком. Рабочие дремали под крышами. Редко-редко у каких очагов, у железных печурок под открытым небом, возились хозяйки, а иные, разленившиеся от жары, лузгали семечки, как в деревне, сидя под крохотными окнами своих жилищ.







