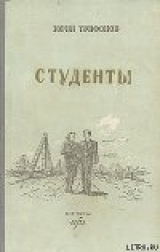
Текст книги "Студенты"
Автор книги: Юрий Трифонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Люди из переднего ряда стали оборачиваться на Лену, одни с любопытством, другие осуждающе. Но все, кто оглядывался на нее, не сразу отводили глаза – мужчины особенно долго и внимательно смотрели ей в лицо, а женщины изучали главным образом платье. Лена точно не замечала всех этих взглядов, а Вадим испытывал чувство некоторой неловкости и одновременно гордости. Ему было приятно сидеть рядом с этой красивой девушкой, на которую все обращают внимание.
– Фантазерка ты, – сказал он, кашлянув в ладонь. – На тебя уже солидная публика оглядывается.
– Почему, кто? Ну и пусть! – сказала Лена беспечно и заговорила громче: – Знаешь, я хотела, бы иметь много-много друзей, как в этом зале. И от всех получать письма…
Она не договорила, потому что потух свет и стал подниматься занавес. В оркестре что-то зазвякало и зашипело – очевидно, изображался поезд, потому что сцена представляла собой вокзал. Лена докончила шепотом:
– …получать письма, ездить к ним в гости. И встречать их в Москве на вокзале… Я так люблю встречать!
Вадим взял руку Лены и сжал ее в тонком запястье.
– Вадим! Что это значит? – спросила Лена строго и довольно громко.
В переднем ряду зашикали. Вадим пробормотал, смутившись и радуясь темноте:
– Я, просто… надо уже смотреть…
На сцене произошло что-то смешное – в зале смеялись, на балконе кто-то даже аплодировал. Вадим не понял, в чем дело, и все первое действие он понимал плохо, потому что смотрел на сцену, а думал о другом. Там кричал и суетился какой-то толстячок в узеньких штанах, каждое его слово зал встречал хохотом. Два красавца – один усатый, а другой с бакенбардами – ухаживали за высокой блондинкой с гордым лицом.
– Ведь она же старуха! Это не ее роль! – прошептала Лена. – Какие у нее костлявые руки, смотреть противно!
Вадим кивнул, хотя блондинка вовсе не казалась ему старухой, – наоборот, она казалась ему изящной, очаровательной женщиной. Потом он понял, что по-настоящему любит ее только бедный юноша, аптекарь, который стоял все время в стороне и молчал. В пьесе было много смешного, но Вадим все никак не мог сосредоточиться и понять, над чем смеются. Он в смятении думал о том, каким тупицей, должно быть, он выглядит со стороны. Лена хватала его за руку от смеха. На глазах ее были слезы. Она вытирала их платочком, а потом вдруг начинала махать им, обдавая Вадима нежной волной духов.
И Вадим был занят тем, что вовремя подставлял Лене руку. Только один раз он расхохотался довольно удачно, но как раз в этот момент зал вдруг затих.
Ему было жарко. Душно пахло деревом декораций и густой смесью разных духов, витавших над залом. Когда окончилось действие, они пошли в буфет, и Вадим купил два пирожных и бутылку фруктовой воды. Лена, веселая, улыбающаяся, напевала только что услышанные мелодии и спрашивала оживленно:
– А как тебе сцена на перроне понравилась? А как полковник – правда, хорош?..
Потом они ходили по фойе и рассматривали фотографии артистов. Лена знала почти всех – кто когда начал, где играл прежде, кого в чем надо смотреть. Вадим был позорно малосведущ в этой области и почувствовал облегчение, когда зазвенел звонок.
В последних действиях Вадим уловил несложный водевильный сюжетец пьесы. Оба красавца строили коварные планы против блондинки. Она ничего не подозревала и любила одного из обманщиков – с бакенбардами. Толстяк в узеньких штанах, ее отец, тоже был слеп и – добрый, смешной человечек! – любил обманщиков, как детей. Но вот все раскрылось! Старик разорен, дочь обманута.
Вадим смотрел на сцену, следил за действиями героев, но у него было такое чувство, словно все это он видит во сне; и люди на сцене – из сна, воздушные, ненастоящие, и он сочувствует им и горячо их любит не за их нелепые, смешные страдания и вымышленную любовь, а за то, что они каким-то необъяснимым образом изображают его собственные чувства, которые переполняли его теперь. Он смотрел на блондинку с гордым лицом, и она казалась ему прекрасной, потому что на ее месте он видел Лену. И когда бедный одинокий аптекарь ушел ночью от любимой, которая не поверила ему и прогнала прочь, Вадим вдруг почувствовал, что к горлу его подкатил теплый ком и в глазах зарябило.
Но конец был счастливым, и снова толстячок всех смешил, и Вадим смеялся вместе со всеми.
Его только угнетала мысль, что после всего этого яркого и веселого он сразу покажется Лене очень скучным, будничным. О чем они будут говорить?
Когда все кончилось, как обычно, вызывали артистов, но Вадим уже потерял всякий интерес к ним. Он покорно стоял в проходе и хлопал, безучастно глядя на артистов, которые со страшно озабоченными лицами убегали со сцены и тут же возвращались, скромно и сладостно улыбаясь.
– А все же пустая вещица, – сказала Лена, когда они вышли на улицу. – Сегодня смеялись, а завтра и не вспомнят над чем. И музыка средняя.
– Да, – согласился Вадим. – В общем чепуха.
Он поехал на метро проводить Лену. Оба долго молчали.
– Вот так всегда, пересмеешься, а потом грустно отчего-то… – сказала Лена, зевнув.
У нее был усталый вид, и она то и дело закрывала глаза, покачиваясь на мягком сиденье. Вадим искоса поглядывал на нее. Она казалась ему еще красивее теперь – побледневшая, с длинными тяжелыми ресницами. Когда они вышли на площадь, Вадим сказал фразу, которую долго обдумывал в метро:
– Мы должны пойти с тобой на что-нибудь серьезное.
– Да, – Лена кивнула и переспросила: – Что?
– Я говорю: нам надо пойти на что-нибудь серьезное. В МХАТ, в Малый…
– А-а… Да, только времени теперь не будет. Коллоквиумы начались. У нас в понедельник Козельский?
Вадим кивнул.
– Я его так боюсь! Он придирается ужасно. И вообще он смотрит на нас свысока – ты заметил? Как на героев посредственного писателя. Лагоденко до сих пор ему не сдал?
– Нет.
– Вот видишь! Я так боюсь…
– А ты не бойся. Он к девушкам не придирается.
Снова замолчали.
– Ты, Вадим, странный стал на третьем курсе, – сказала вдруг Лена, – раньше такой простой был, всегда шутил. А теперь каким-то молчальником стал. И со мной держишься как новичок. Что с тобой, а?
– Это тебе кажется.
– Да нет! И Сережа заметил, мы с ним как-то говорили… А уж он-то тебя знает, слава богу!
Вадим не ответил. Он с тревогой и удивлением убеждался в том, что не находит слов для продолжения разговора. И вообще не находит слов – какая-то неуверенность, робость сковывала его движения, мысли, слова. Молча он злился, называя себя мальчишкой, но преодолеть это дурное и раздражавшее его состояние не находил в себе сил.
– Да, Сергей тоже это заметил, – повторила Лена. – Он даже высказал одно предположение… конечно, глупое…
Лена умолкла, закусив губы, как будто в замешательстве, но Вадим чувствовал, что она умолкла намеренно, ожидая, что он заговорит на эту тему или по крайней мере спросит: что за предположение высказал Сергей?
Однако Вадим сказал:
– Кстати, тебе привет от него. Он заходил сегодня ко мне.
– Спасибо… Он часто к тебе заходит? Вы, кажется, друзья детства?
– Да, еще со школы.
– Как хорошо – учиться вместе в школе, потом в институте, потом работать вместе! Он, наверное, настоящий твой друг, – сказала Лена задумчиво.
– Сережка? Еще бы! Конечно, настоящий! – Вадим почувствовал неожиданное облегчение и прилив энергии, он заговорил горячо: – Знаешь, мы с ним встретились два с половиной года назад как раз возле этого театра, где мы были сегодня. В тот день я только что приехал в Москву, бродил по городу, и вот мы встретились. Совершенно случайно – понимаешь?
– Представляю, как вы обрадовались!
– Мало сказать – обрадовались! Ошалели! От неожиданности, радости, от всего этого… – Вадим засмеялся, покачал головой. – Вообще тот день мне запомнился на всю жизнь… Сергей хотел поступать в МГУ, на филологический.
– Я знаю.
– Да, туда он не попал и, чтобы не терять год, решил идти вместе со мной. Он очень способный человек! Он будет большим ученым, я абсолютно в этом уверен. Ты знаешь, какая у него память! Он может прочесть один раз хронологический список в нашем учебнике по всеобщей истории – и сразу повторить его наизусть! Представляешь? Серьезно! Ведь два языка он знает в совершенстве, а сейчас изучает третий – французский. Язык для него пустяки…
– Правда? – с интересом спросила Лена. – Какой молодец…
– Да, да. И потом он вообще талантлив – он и стихи пишет, а в школе писал и прозу – рассказы. И очень удачно. Ты читала его стихи в стенгазете?
– Читала, мне понравились. Насчет Уолл-стрита?
– Да, политические. Но у него есть и лирика. И потом Сергей технически образован, он работал во время войны техником по инструменту. В научном институте – это не шутка! Недаром ему два года броню давали. Нет, Сережка определенно талантлив, и многосторонне. Он и спортсмен…
Вадим долго и с искренним увлечением говорил о Сергее. Он превозносил его начитанность, остроумие, знание наук и искусств, его характер и практический ум, и хотя сам Вадим уже начинал понимать, что берет лишку, и тревожно предчувствовал в этом разговоре смутную опасность для себя, он почему-то не мог остановиться. И продолжал, доставляя себе странное удовольствие, наделять друга все новыми качествами и добродетелями.
Лена слушала его очень внимательно.
– Я где-то читала, что русский человек, если ему нечем похвалиться, начинает хвалиться своими друзьями, – вдруг сказала она, улыбнувшись, – я шучу, конечно! А в детстве вы так же дружили?
– Ну еще бы! У нас была масса историй, приключений. Мы ходили с ним в туристические походы, лазили по пещерам, один раз чуть не заблудились в старых каменоломнях, вообще… Много было всего!
– А я в детстве любила дружить с ребятами, у меня все друзья были мальчишки. А девчачьи игры, всякие сплетни, пересуды, эти «дочки-матери», «молву» я прямо терпеть не могла!
– Это, кстати, все девушки говорят, – сказал Вадим.
– Почему ты так думаешь? Наоборот, другие очень любят…
Лена обиженно умолкла. Они уже долго шли по широкой, пустынной в этот час улице, которая блестела под фонарями тускло, как заледеневшая река. К вечеру ударил морозец, на тротуарах образовалась гололедь, и идти было скользко. Вадим вел Лену под руку.
– А у Сергея, между прочим, красивое лицо. Тонкое, – сказала Лена, – хотя для мужчины это не главное.
Вадим усмехнулся:
– Спасибо. Ты великодушна.
– Вадим, ты начинаешь говорить глупости! – строго сказала Лена.
Они вошли в переулок и остановились перед двухэтажным домом. В окне за оранжевым тюлем горел свет.
– Ну, вот и пришли! Мама не спит, ждет меня.
Они стояли у подъезда – Лена на ступеньке, он внизу. Ее лицо неясно светлело в темноте, и пепельно-русые волосы, выбившиеся из-под шапочки, казались совсем черными. Вадим словно ждал чего-то. И как в дремоте – не мог ни шагнуть к ней, ни уйти…
– Я очень рада, что мы пошли с тобой, – сказала Лена тихо и протянула ему руку.
– Пошли или пришли?
Лена не ответила и покачала головой. Она улыбалась. Вадим не различал ее улыбки, но чувствовал, что она улыбается, и даже знал как: верхняя губа чуть вздернута, зубы тонко белеют, и среди них один маленький серый зуб впереди.
– Правда, Вадим, очень… – Она сказала это совсем тихо.
Он все еще держал ее руку в своей. И так они стояли – на одно мгновение потонувшие в бездонной ночной тиши переулка.
– А что для мужчины главное? – пробормотал Вадим и вдруг обнял Лену за плечи, с силой привлек к себе. Она прижалась к нему на секунду, пряча лицо, но сразу уперлась ладонями в его грудь и откинула голову.
– Нет, это тоже не главное, пусти! – быстро прошептала она. – Не надо, Вадим! Мы же друзья, правда?
– Конечно, друзья, Леночка…
– Ну вот, а это… это другое. И так не бывает, нельзя, понимаешь? – Она говорила все это шепотом и так мягко и убеждающе, словно разъясняла что-то ребенку. – Это не бывает так просто, сразу…
– Почему же сразу? – тоже шепотом и растерянно спросил Вадим. – Мы знаем друг друга третий год.
Но руки его уже разжались. Лена выпрямилась и, стоя на верхней ступеньке, поправляла шапочку. Он смотрел снизу вверх в ее улыбающееся лицо, которое отчего-то еще больше потемнело – от смущения или от мороза?
– А ты, оказывается, сильный… Ну, до свиданья! До послезавтра!
– Лена!
Но она уже вбежала в подъезд и на лестницу. Вадим подошел к дверям.
– Лена, но мы пойдем на что-нибудь серьезное?
– На что-нибудь серьезное? – Лена помолчала, остановившись на ступеньках, и вдруг сказала весело: – Ну безусловно, Вадим! Как только сдадим коллоквиум, пойдем хотя бы в Большой. На «Раймонду» – пойдем?
Вадим кивнул. Лена помахала ему рукой и скрылась за поворотом лестницы. А в морозном воздухе подъезда остался томительный, нежный запах ее духов, который – Вадим теперь знал это – может держаться очень долго, если с ними обходиться умело.
4
– Когда я вижу, что на моей лекции засыпает студент, я повышаю голос, чтоб разбудить нахала! – вдруг слышит Вадим гремящий бас. Это излюбленная шутка Кречетова.
Он вскидывает голову – голубые, хитро прищуренные глаза Кречетова смотрят на него, и все студенты тоже обернулись к нему, смеются.
– Что вы, Иван Антоныч! Даже не думал, – говорит Вадим смущенно. – «Трагедии Пушкина явились воплощением его мысли о…» – пожалуйста!
– Ну-ну, – Кречетов кивает головой, от чего его очки на мгновение пронзительно и ядовито вспыхивают. – Допустим, это вам приснилось. Шучу, шучу. Ну-с, дальше…
Кречетов ведет спецкурс по Пушкину. Записывать за ним невозможно: он говорит быстро, горячо, стремительно перебрасываясь от одного образа к другому. Следить за ним трудно и увлекательно. Однако Палавин, сидящий рядом с Вадимом, всю лекцию что-то неутомимо пишет. Вадим заглядывает через его плечо, – длинные листы исписанной бумаги, над одним жирная надпись печатными буквами: «Глава первая». А, он же говорил на днях, что начал писать какую-то повесть!.. Зачем он принес ее в институт? Сергей изредка оборачивается к окну, покусывая ногти, думает. Лицо у него необыкновенно озабоченное.
Староста курса – толстая, пучеглазая Тезя Великанова – пересылает Вадиму записку: «Вадим, скажи своему другу, чтобы он не грыз ногти. Очень неприятная привычка». Вадим пожимает плечами – какая чепуха! Только слушать мешает. Эта толстая Тезя строит из себя классную даму, всем делает замечания.
Вадиму любопытно знать: что это за новое увлечение у Сергея – повесть? О чем она? В глубине души ему не очень-то верится, чтоб у Сережки открылся вдруг писательский талант. И все же… Сережка такой человек, что от него всего можно ожидать. Однако на расспросы Вадима Сергей отвечал уклончиво: «Потерпи, брат, скоро, скоро узнаешь…»
В перерыве Вадим спрашивает у Сергея:
– Ну как, закончил «Войну и мир»?
– Нет, что ты! Я принес первую главу, хочу отдать нашей машинистке перепечатать. Но там надо было кое-что доделать, отшлифовать, а я вчера не успел. Вот и пришлось на лекции, к сожалению. Ты же знаешь, как я люблю Ивана Антоныча…
Подошла Лена. Она сегодня в новом платье и волосы уложила по-особому, с большим бантом сзади. Она стала похожа на десятиклассницу.
– Кто закончил, какую главу? – спрашивает она живо.
– Сергей повесть пишет.
– Ты, Сережа? Ой, как интересно! О чем, о войне?
– Нет, Леночка.
– А о чем же? Или это секрет?
– Нет, это вовсе не секрет. Но дело в том, что повесть далеко не кончена, что выйдет – неизвестно. Может быть, и ничего не выйдет.
– Почему это?
– Ну, почему… – Сергей скромно улыбается и разводит руками. – Талант нужен, Леночка. А шут его знает, есть ли он? Вот я и не говорю раньше времени.
«Ишь как скромен! – думает Вадим, усмехаясь. – А сам небось уверен, что талант у него есть». Ему вдруг хочется подшутить над новоиспеченным писателем. Он подмигивает Лене и говорит серьезно:
– А ты заметила, с каким подъемом читал сегодня Иван Антоныч? Шутка ли, даже Палавин стал записывать?
– Правда? А, он писал свою повесть? – Лена смеется. – Нет, а я действительно хочу почитать. Может быть, ты станешь когда-нибудь великим писателем, лауреатом, будешь разъезжать по разным странам…
К Лене подбегают несколько девушек и сразу начинают говорить очень громко, торопливо и все вместе. Громче всех, конечно, Люся Воронкова – голос у нее крикливый, пронзительный, тонкие руки так и мелькают в воздухе.
– Лена, ты записываешь Кречетова?
– Да, немного.
– Вот видишь! Это просто ужасно. Я его очень люблю, но подумай сама – нам же его сдавать! Этот фейерверк, сравнения, импрессионизм какой-то…
– Да, да, Люся, правда! У меня пальцы отнялись…
– Лекции слушают мозгами, а не пальцами, – говорит Нина Фокина, плотная, широколицая девушка в роговых очках.
– Ах, как умно! Не все же такие гении, как ты.
– Вот Козельский читает, – говорит Воронкова, – и не спецкурс, а общий курс, и – пожалуйста! Все ясно, определенно…
– Разжевано, да? – перебивает Фокина. – Ивана Антоныча с Козельским даже сравнивать нельзя!
– А сдавать? А сдавать как?
– Девочки, вы не правы, – говорит Лена. – Мы же не в школе, верно? Пушкин родился в тысяча семьсот девяносто девятом году, умер в тысяча восемьсот тридцать седьмом. И него была няня, он учился в лицее и так далее… Иван Антоныч предполагает, что мы достаточно знаем и биографию Пушкина и его творчество. Он разговаривает с нами как со своими коллегами.
В разговор ввязывается Сергей:
– Что вы галдите? Если для вас Кречетов не понятен, это факт вашей биографии. Зачем же весь курс тянуть назад?
– Конечно, – говорит Вадим.
Раздается звонок, и в аудиторию входит Кречетов с группой студентов, продолжая с ними начатый еще в коридоре разговор.
– А ты, Вадим, молчи! – кричит Воронкова, отбегая к своему месту. – Ты-то, ясно, будешь Леночке подпевать.
Вадим хмурится, краснеет, бормочет что-то невнятное о «бестолковых кликушах» и садится.
Зимнее утро сумеречно, как вечер. В аудитории жидкий электрический свет, его потушат после второго перерыва, когда посветлеет.
«Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
…Я гибну – кончено – о Дона Анна!
(Проваливаются.)»
Вадим много раз, и в детстве и недавно, перечитывал эту пушкинскую трагедию, и всегда ее последнее слово – «проваливаются» – звучало для него неожиданно иронически. Теперь он ощущает вдруг глубокий смысл этого конца. Дон Гуан «проваливается» оттого, что впервые в жизни полюбил! А он – неизменный счастливец и герой бесчисленных легких побед – не имел права на счастье. Он должен умереть. Вадим представляет себя на месте Дон Гуана. В то мгновение, когда руку его сжимает каменная рука Командора, он даже видит свое лицо: бледное, искаженное смертельной тоской и страхом. Да, бесстрашный и всегда улыбавшийся перед лицом смерти Дон Гуан дрожит от страха за свою жизнь… А как несчастна эта жизнь и как одинока! Никто не видит ее конца. Даже Дона Анна: она, кажется, упала в обморок…
Лена изредка что-то записывает. Лица ее не видно. Белый бант отсвечивает холодной синевой окна. Он так аккуратно разглажен, этот единственный на курсе бант. «Дон Гуан Пушкина – это человек страсти, это не мольеровский волокита…» О чем она думает сейчас? Локти ее, круглые и полные, так спокойно лежат на столе. Вот она обмакнула перо, сняла с него волосок, вытерла пальцы о промокашку. Ведь о чем-то она думает?
Вадим держал портфель Лены, пока она надевала боты и шапочку. Потом он помог ей надеть пальто. Лицо ее покраснело оттого, что она долго стояла нагнувшись и кровь прилила к щекам.
– Ну вот, спасибо, – сказала она, натягивая перчатки и внимательно их разглядывая. – Здрасте, уже рваться начали.
– Перчатки? – спросил Вадим.
– Ну да! Папка купил какую-то дрянь… Вы, мужчины, ничего не можете толком купить!.. – Лена шутливо ударила Вадима перчаткой и сказала назидательно: – Учти, когда женишься, сам ничего жене не покупай! Только конфеты и билеты в театр.
– Так точно-с, учту-с! – сказал Вадим, выпучив глаза и козыряя. – А кого же она в таком случае пилить будет за плохой товар? Это ж для нее полное неудобство…
Шутливый тон разговора был Вадиму в тягость. Он отдалял его от Лены, а ему надо было заговорить серьезно. Этим пустым фатовским языком почему-то было принято болтать с девушками, но Вадиму никогда не удавалось это искусство. А с Леной и вовсе выходило фальшиво, грубо. Когда они вышли из ворот, он сказал:
– Можно посмотреть сегодня новую картину. В газетах хвалят. Сценарий, между прочим…
– Да, я знаю, – сказала Лена. – Я ее видела на просмотре, в Доме кино.
Они прошли несколько шагов молча. Потом он сказал, уже без всякой надежды:
– Я так давно не был в Пушкинском музее…
– И я, – сказала Лена.
– Нам велели сходить туда по курсу Возрождения.
– Я бы с удовольствием, Вадим, но я сегодня занята. Я не смогу.
– Занята, – повторил он машинально, не зная, о чем ему теперь говорить.
– У меня что-то голова разболелась, – сказала Лена, томно вздохнув. – В аудитории ужасно топят…
Вадим усмехнулся.
– Ты видела ее на просмотре. Ты сегодня занята. У тебя что-то разболелась голова, и, наконец, – в аудитории ужасно топят.
– Ну и что? Зачем ты меня цитируешь?
– Просто так, из любви к анализу.
– Глупо! – Лена пожала плечами. – Если ты вздумал обижаться, это очень глупо… Сегодня я занята, пойдем в субботу. Ну, в субботу – хорошо?
Ее правдивые, ясно-карие глаза стали вдруг очень серьезными, на мгновение почти испуганными. И он глядел в них уже примиренный, все простивший за это одно мгновение. Вот чего не могли бы сделать никакие слова.
– Ну? Хорошо? – настойчиво повторила Лена и тронула его за руку.
– Хорошо, – сказал он и улыбнулся. – Кстати… Если б мы пошли в кино, у меня бы на обед не хватило.
Между первой и второй сменой в столовой обычно часы «пик». Веселая теснота, пахнущая паром и котлетами. Бодрый обеденный шум, беготня официанток. С разных сторон разговоры: о зимней сессии, которая вот-вот, о соревнованиях по боксу, о последнем романе Федина, о том, что Трумэн все же лучше Дьюи, о Новом годе, о Курильских островах, о мухе-дрозофиле, о любви и о мясных тефтелях.
В громкую русскую речь вплетаются мягкий украинский говор, гортанный смех и голоса кавказцев. За одним из столиков сидит группа молодых албанцев, поступивших в этом году на первый курс. Они говорят о чем-то весело, очень быстро и все сразу – кажется странным, что они понимают друг друга. Потом к ним подсаживается русская девушка, и голоса албанцев сразу стихают – они старательно и медленно выговаривают русские слова, помогают один другому и больше смеются, чем говорят.
Вадим и Сергей пришли в столовую, как обычно, вместе. Они подсели к столику Кречетова. Рядом с профессором сидел Се Ли Бон – юноша-кореец со второго курса, худенький, большеголовый, со смуглым серьезным лицом. Он уже кончил обедать и разговаривал с Кречетовым, держа на коленях толстую пачку книг. Увидев Вадима и Сергея, Ли Бон поспешно поднялся.
– Садитесь, товарищ, я кончился, – сказал он, вежливо улыбаясь, – пожалуйста, до свиданья!
– Чудесный малый этот Ли Бон! – сказал Кречетов, глядя ему вслед. – Вы помните, в прошлом году он не знал по-русски ни слова. А теперь уже Пушкина читает, Горького. Удивительно упорный человек. Он прочел недавно «Полтаву» – сейчас расспрашивал меня о Петре, о Мазепе. У нас, говорит, тоже есть Мазепа – Ли Сын Ман, но мы его все равно бросим в море, как собаку. Он – «предатель народа». И так он, знаете, грозно и с гневом это сказал, что я даже не поправил его. А что ж – слово выразительное, не правда ли? – Иван Антонович обратился к Сергею: – Ну-с, а как поживает ваш реферат о Гейне?
Сергей сказал, что реферат «поживает прекрасно» и будет готов через две недели. Работать ему трудно, времени не хватает, но реферат будет готов в срок. Он сказал это серьезно и с таким убеждением, что Вадим удивился про себя: «Ведь он говорил недавно, что еще не брался за работу и никакого желания нет».
– Поспешайте, Палавин, поспешайте, чтобы кончить до сессии, – говорил Кречетов. – «Гейне и фашизм» – очень серьезная тема, я бы сказал – философская. Вы у Нины Аркадьевны консультируетесь? Обратите внимание на высказывание Гейне об Америке в «Людвиге Берне» – он говорит о расизме в этой «богом проклятой стране». Обязательно найдите это место! А главное, будьте смелее, делайте обобщения, не копайтесь в пустяках. Это беда начинающих – вы пьянеете от бытовых мелочей, мемуарного хлама, анекдотов. Это всегда уводит. А вы держитесь магистрали. У вас получится, я в вас верю! – Он ободряюще похлопал Сергея по плечу. – Ну-с, я покидаю вас, юноши. Заседание кафедры в три часа, опаздываю. Да, а у вас как с рефератом, Белов?
– Я, вероятно, не успею до Нового года, – сказал Вадим.
– Что так?
– Не успею, Иван Антоныч.
– Не успеете? А жаль. Я на вас надеялся. Ну, мы еще поговорим! – Иван Антонович сурово погрозил пальцем и, взяв портфель, пошел к выходу. Портфель его всегда был так набит, что замок не закрывался, и Иван Антонович носил портфель под мышкой.
– А почему, собственно, ты не успеешь? – спросил Сергей.
– Я всегда работаю медленно, ты же знаешь.
Да, он работал медленно и кропотливо, с трудом подчиняя себе материал, – и не умел иначе. Сам себя он называл тугодумом, и ему казалось, что его метод и стиль слишком тяжеловесны, скучны, обыкновенны, что он никогда не сумеет в своих работах блистать легкостью языка, полемическим задором, неожиданной и остроумной мыслью, – всем тем, чем отличался Сергей.
И, однако, Вадим сказал не полную правду. В последнюю неделю он работал более чем медленно, дело совсем застопорилось. Он слишком много думал о Лене. Как только он оставался один и садился дома за стол, он начинал думать о Лене. Если бы каждый день он не встречался с нею в институте, ему было бы легче. Вот и сейчас Сергей что-то оживленно рассказывал, шумно прихлебывая суп, а он уже не слышал его, потому что думал о Лене…
К столику подошел Андрей Сырых – громоздкий, плечистый юноша в очках, с застенчивым лицом. В руке он держал стакан компота.
– Ну, жара… – сказал он, садясь и снимая запотевшие очки. Лицо его без очков стало совсем отроческим и кротким. – Невозможная жарища!..
– Не надо так много кушать, – сказал Сергей. – Тебе надо худеть. Ты безобразно жирный.
– Я жирный? Чудак! – Андрей беззлобно рассмеялся и, наклонив лицо к стакану, вытянул правую руку: – На, потрогай, какой это жир.
– Все равно ты какой-то слишком мясной. И поэтому тебе в любви не везет, – верно, Вадим? Мужчина должен быть сухопарым.
– Это справедливо. Мне не везет.
– Сгоняй вес! Когда боксерам не везет, они сгоняют вес и выступают в другой категории. А почему тебе не везет?
– Не знаю даже… времени не хватает. – Андрей допил компот и вытер губы бумажной салфеткой. – Вот мне и не везет, – повторил он, глядя на Сергея и улыбаясь. – И живу я за городом, на дорогу три часа уходит. И потом: кружки, научное общество… теперь еще в агитколлектив ввели. Так вот и не везет.
– Да… хороший ты парень, – сказал Сергей задумчиво. – Знаешь, ты на чеховского Дымова похож. Такой же наивный и положительный. И очень здоровый – как рыбий жир. А? Ха-ха…
– И такой же противный, как рыбий жир?
– Ну что-о ты, что ты, брат! Я бы хотел такого мужа своей двоюродной сестре. Родной, к сожалению, нет…
– Что-то ты расшалился сегодня, – сказал Андрей, добродушно усмехаясь. – С чего бы это веселье?
У столика появился вдруг Алеша Ремешков, которого все называли Лесик, – долговязый кудрявый парень, весельчак и острослов с третьего курса. Он с живостью обратился к Андрею:
– А ты разве не знаешь? Он же повесть пишет! Повесть!
– Какую повесть?
– Ну да! Говорят, нечто гениально-эпохальное. А другие говорят, нечто эпохально-гениальное. Идут страшные споры. А он между тем пишет и пишет. Повесть! – И Лесик продолжал громко, на всю столовую: – Палавин пишет повесть! Повесть Палавина! В печать!
С соседних столиков начали оглядываться с любопытством. Кто-то крикнул издали:
– Алло, кто там повесть пишет?
– Палавин! По буквам: Пушкин – Алигер – Лермонтов…
– Ну хватит, черт! – хохотал Сергей, хватая Лесика за рукав. – Перестань, черт же…
Андрей встал и попрощался. Его тоже зачем-то вызвали на заседание кафедры. Грузный, широкоплечий, он осторожно двигался между тесно стоящими столиками, боясь кого-нибудь случайно задеть и, по привычке сильных людей, широко растопыривая локти. Сергей, прищурясь, смотрел ему вслед.
– Он похож на комод моей тетушки, – сказал Сергей неожиданно. – Всегда молчалив, замкнут, и неизвестно, что там, под очками. И комод моей тетушки всегда заперт на все замки и такой же широкий, тяжеловесный… Я никогда не видел его открытым, и мне почему-то казалось в детстве, что там должны быть какие-то чудеса, удивительные вещи. А там, может, и не было-то ничего – пустые полки, какое-нибудь старое тряпье… А?
Они уже кончили есть, и Вадим поднялся.
– Идем?
– Да, идем. Подожди минутку! По-моему, это неплохо, с комодом. Надо его… – Сергей вынул записную книжку и что-то быстро записал. – Пригодится. Я теперь все записываю. Если не записывать, многое забывается, – сказал он озабоченно. – Ты знаешь, я в последнее время научился как-то по-новому все видеть. Ты заметил, как у нашего официанта блестит лысина? А мне сразу пришло в голову: «Лысина была единственным светлым пятном в его жизни». А? Ха-ха-ха… Это уже образ. А? Вадим?
– Ничего, – сказал Вадим.
Столовая находилась в доме напротив института, через улицу. Пока они одевались в вестибюле, потом вышли на улицу и шли через голый, с пустыми скамейками институтский сквер, Сергей все рассказывал о различных сравнениях и образах, которые приходят ему в голову, о том, как он трудно пишет и какая это увлекательная работа. О теме своей повести он так и не сказал. «Вот буду читать, тогда узнаешь». Уже второй день Сергей курил не папиросы, а красивую прямую трубку с янтарным мундштуком. И пахло от него хорошим табаком.
Вадим слушал его рассеянно. Он думал – в том, что Лена сегодня занята, нет ничего удивительного. Она всегда много занимается, зубрит иногда целыми днями, и, кроме того, у нее – «вокал». Хм, «вокал»… Ему долго казался смешным, чересчур торжественным и пышным этот консерваторский термин, и он подтрунивал над Леной, а она обижалась: «Что за глупые шутки? Так все говорят, это принято в нашей среде». Как бы там ни было, а этот «вокал» требует времени. Не каждый может и учиться и заниматься общественной работой и «вокалом». Нет, она молодец! Но какое это отвратительное слово – «занята»… И как еще далеко до субботы! Три дня!
И, однако, несмотря на то что Вадим тщательно объяснил себе, почему Лена была сегодня занята, осталось в нем чувство досады за испорченный день. Да, день был испорчен. И все оттого, что он раньше времени строил разные планы относительно сегодняшнего дня и теперь все порушилось. И никто в этом не виноват. А что порушилось, в сущности? Просто он уже настроился, а теперь надо расстраиваться. Лучше всего прийти домой и сесть за «Капитал». Самое трудное в этой сессии – политэкономия. Надо сегодня же сесть и законспектировать одну-две главы. Сразу же, не откладывая на вечер… Но ведь у Лены «вокал» по средам и понедельникам, а сегодня – вторник?








