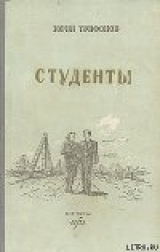
Текст книги "Студенты"
Автор книги: Юрий Трифонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Под лампой на комоде Вадим увидел недописанное письмо: «Здравствуй, дорогой мой мальчик! Однако ты не держишь своего слова – писать раз в неделю. Ты писал, что, возможно, будешь в Москве. Когда примерно тебя ждать…»
На этом же листке бумаги Вадим быстро написал письмо, которое начиналось так:
«Мама! Я уже в Москве, вчера приехал. Видишь, как я заботлив: твое письмо еще не дописано, не отправлено, а ты уже получаешь ответ. И ты еще обижаешься на меня…»
Так он и не повидал Веру Фаддеевну в этот день. Не хватило времени, надо было возвращаться в часть… И только на обратном пути с вокзала Вадим позвонил ей на службу.
– Что? Это кто? Кто говорит? – услыхал он знакомый голос, почему-то очень испуганный. – От Димы?
– Мама, я – Дима! Слушай…
– Кто это? Кто?
– Я – Дима! Я – Дима! – повторял он терпеливо, по привычке радиста.
Вера Фаддеевна переспрашивала, не веря. Она заволновалась, голос ее вдруг ослаб, и разговор получился жалкий, бессвязный, торопливый. Люди, стоявшие у автомата в очереди, стучали гривенниками в стеклянную дверь.
– Береги себя, сын!..
– Хорошо, мама.
– И… пиши! Счастливо…
Она заплакала. А может быть, ему это показалось.
Через несколько дней Вадим в составе новой, только что сформированной части отправился на Второй Украинский – танковым стрелком-радистом.
Вадим попал на фронт в тот великий год, когда сокрушительные удары отбрасывали врага все дальше на запад. Вадим участвовал в разгроме гитлеровцев под Корсунью и в августовском наступлении под Яссами. Стремительный марш на Бухарест и потом через Трансильванские Альпы в Венгрию, битва за Будапешт и кровопролитные бои у озера Балатон, взятие Вены и освобождение Праги – вот путь, который прошел Вадим со своим танком по Европе.
Он оказался счастливчиком – ни разу не был ранен. Только однажды его контузило: под Яссами, летом, во время позиционных боев.
После победы над Германией танковый полк, в котором служил Вадим, перебросили на Дальний Восток. Началась война с Японией – труднейший марш через безводную, сожженную солнцем пустыню и Хинганские горы, бои с самурайскими бандами в Маньчжурии и, наконец, Порт-Артур.
И на Тихом океане
Свой закончили поход… —
пели на набережных Порт-Артура наши моряки, высадившие в городе десант еще до подхода танков.
На краю материка, в городе русской славы, завершила Советская Армия победоносный путь.
Два военных года закалили Вадима, научили его разбираться в людях, научили смелости – быть сильнее своего страха. Они показали ему, на что способен он, Вадим Белов. Кое на что, оказывается, он был способен. В бою под Комарно его танк был подбит и окружен врагами, из экипажа в живых остались двое – Вадим и тяжело раненный башнер. Вадим отстреливался до ночи, побросал из люка все гранаты, а ночью вынес башнера из танка и с пистолетом в руках пробился к своим.
Вадим очень окреп физически, вырос, лицо его огрубело, стало таким же широким, большелобым, обветренным, как у отца. На войне он научился многому из того, что было необходимо не только для войны, но и просто для жизни. На войне он увидел свой народ, узнал его стремления и характер и понял, что это его собственный характер, собственные стремления. Он повидал заграницу – не ту, о которой он читал в разных книгах, что была нарисована на красивых почтовых марках и глянцевитых открытках, – он увидел заграницу вживе, потрогал ее на ощупь, подышал ее воздухом. И часто это бывал спертый, нечистый воздух, к которому легкие Вадима не привыкли. Он видел нарядные, белоснежные виллы на берегу озера Балатон и черные, продымленные лачуги на окраине Будапешта; он видел упитанных, багровых от пива венских лавочников и ребятишек с голодными, серыми лицами, просивших у танкистов хлеба; под Пильзеном он видел, как четверо американских солдат избивали огромного старого негра-шофера, а два офицера стояли поодаль и с интересом смотрели; он видел жалких продажных женщин, оборванных рикш на улицах Порт-Артура и потрясающую нищету китайских кварталов в Мукдене.
Да, многое следовало переделать в этих странах, раскорчевать, вспахать, засеять; многому еще предстояло научиться людям, живущим за чертой нашей границы.
В Европе окрепло у Вадима решение стать учителем. Оно созревало исподволь, бессознательно, с того горького дня, когда он узнал о гибели отца. Он, Вадим, должен был заменить отца, продолжить его дело. Во время войны дело отца было – воевать, защищать свою землю. Но вот смолкли пушки – мирная жизнь наступила не сразу, но она была теперь близка, и о ней стоило подумать.
Вадиму нравилось работать с людьми, быть всегда в большом, дружном коллективе – то, к чему он привык в армии. Его глубоко волновала сложная и разнообразная жизнь людских масс, тысячи несхожих меж собой судеб и характеров, могучей волей слитых воедино и порождающих в своем единстве волю титанической силы. Мерный шаг идущей в походном строю колонны до сих пор – на третий год военной службы – вызывал в нем почти вдохновенный трепет. Он любил хоровые солдатские песни и завидовал запевалам. Он завидовал своему полковому командиру, которому солдаты – и он вместе со всеми – верили беспредельно.
Высшим проявлением человеческого гения, казалось ему, был гений вождей, умение внушать людям волю к высокой цели и вести за собой. И теперь Вадим вспомнил слышанные им в детстве слова отца о воспитании людей – новых людей, борцов за коммунизм. Отец говорил, что это дело, вероятно, самое нелегкое, требующее самого большого упорства, таланта, ума из всех дел человеческих.
Почти год после победы над Японией прослужил Вадим в армии на маленьком, заброшенном в сопках забайкальском разъезде. Его демобилизовали в сорок шестом, и он поехал в Москву с твердым, окончательно сложившимся намерением посвятить свою жизнь учительству.
Первые месяцы студенческой жизни дались нелегко. Пришлось все начинать сначала, вспоминать позабытое, приучаться заново – и к учебникам, которые надо было читать, вникая в каждое слово, да еще конспектировать, и к ежедневным занятиям дома или в библиотеке, и к слушанию лекций, к сосредоточенному вниманию… И все же не учебные трудности были главными трудностями для Вадима. На первой зимней сессии у него была одна тройка – по английскому языку, весеннюю сессию он сдал хорошо, а на втором курсе уже стал отличником.
Трудности другого порядка осаждали его в первые месяцы студенческой жизни. В педагогическом институте, куда поступил Вадим, девушек было значительно больше, чем ребят, а от этой шумной, юношески веселой, насмешливой, острой среды Вадим, надо сказать, здорово отвык в армии. Он и раньше-то, в школьные годы, не отличался особой бойкостью в женском обществе и на школьных вечерах, на именинах и праздниках держался обычно в тени, занимал позицию «углового остряка», чем, кстати, сам о том не догадываясь, он и нравился девочкам. Танцевать он выучился, но не любил это занятие и предпочитал наблюдать за танцующими или – еще охотнее – подпевать вполголоса хоровой песне.
Придя в институт и сразу попав в непривычный для него, шумный от девичьих голосов коллектив, Вадим сначала замкнулся, напустил на себя ненужную сухость и угрюмость и очень страдал от этого фальшивого, им самим созданного положения. Из ребят его курса было несколько фронтовиков, остальные – зеленая молодежь, вчерашние десятиклассники. Но Вадим завидовал этим юнцам – завидовал той легкости, с какой они разговаривали, шутили и дружили с девушками, непринужденной и веселой развязности их манер, их остроумию, осведомленности по разным вопросам спорта, искусства и литературы (Вадим от всего этого сильно отстал) и даже – он со стыдом признавался в этом себе – их модным галстукам и прическам. Вадим целый год проходил в гимнастерке и только ко второму курсу сшил себе костюм и купил зимнее пальто. И стригся он все еще под добрый, старый «полубокс» и никак не решался на современную «польку».
Первый год в институте был годом присматривания, привыкания к новой жизни, был годом медленных сдвигов, трудных и незаметных побед и – главное, главное! – был годом радостного, несмотря ни на что, и жадного наслаждения миром, работой, ощущением верно начатого, основного для жизни дела. Иногда на лекции, в читальне или вечером дома за письменным столом, где он читал газету или перелистывал книгу, а Вера Фаддеевна, усталая после работы, дремала на диване, и у соседей тихо играло радио, и с улицы доносились гудки машин и детские голоса, – внезапно охватывало Вадима ощущение неподдельного, глубочайшего счастья. Ведь как он мечтал сначала в эвакуации, а потом в армии об этом мирном рабочем столе, о книгах, о тишине «секционного зала – обо всем том, что стало теперь повседневной реальностью и буднями его жизни!
Уже ко второму курсу это ощущение полноты достигнутого счастья сбывшейся мечты стало тускнеть, пропадать и, наконец, забылось. И об этом не следовало жалеть. Новая жизнь пришла с новыми заботами, устремлениями, надеждами. Зато исчезли постепенно и всяческие помехи и затруднения первых дней (над ними можно было теперь посмеяться), все эти ложные страхи, вспышки копеечного самолюбия, неуклюжая замкнутость и угловатость – все вошло в норму, уравнялось, утопталось, и жизнь потекла свободнее, легче и, странное дело, быстрее.
Вадим по-настоящему стал студентом только на втором курсе – до этого он все еще был демобилизованный фронтовик. Он прочно и накрепко вошел в коллектив и одинаково легко дружил теперь со своими ровесниками и с теми не нюхавшими пороха юнцами, на которых он когда-то косился и отчего-то им втайне завидовал. Студенческая жизнь с общими для всех интересами уравняла и сблизила самых разных людей и укрепила их дружбой. Вот когда стало легко учиться. Несравнимо легче, чем в первые дни и месяцы. И появился подлинный вкус к учебе, и уже рождалась любовь к своему институту.
Теперь лучшими минутами, которые проводил Вадим в институте, были не одинокие вечерние занятия в читальне (как ему казалось прежде), а шумные собрания в клубном зале, или веселые субботние вечера, или жаркие споры в аудиториях, которые продолжались потом в коридорах и во дворе. Лучшие минуты были те, когда он бывал не один.
Во многом помог ему Сергей Палавин. Вадиму повезло, он пришел в институт вместе с другом, – Сергею не удалось поступить в университет, и он решил, чтобы не терять года, пойти в педагогический.
Сережка был человеком совсем иного склада. Никаких трудностей, кроме обычных экзаменационных, для него не существовало. Он сразу, удивительно легко и естественно включился в студенческую жизнь, быстро завязал знакомство с ребятами, сумел понравиться преподавателям, а с девушками держался по-дружески беспечно и чуть-чуть снисходительно и уже многим из них, вероятно, вскружил голову.
Вадим гордился тем, что у него такой блестящий, удачливый друг. В присутствии Сергея он чувствовал себя уверенней, на лекциях старался садиться с ним рядом и первое время почти не отходил от него в коридорах. А Сергей, наоборот, стремился как можно быстрее перезнакомиться со всеми окружающими: с одними он заговаривал о спорте, с другими авторитетно рассуждал о проблемах языкознания, третьим – юнцам – рассказывал какой-нибудь необычайный фронтовой эпизод, девушкам улыбался, с кем-то шутил мимоходом, кому-то предлагал закурить… Вадим поражался этой способности Сергея мгновенно ориентироваться в любой, самой незнакомой компании.
– У тебя, Сережка, просто талант какой-то! – искренне говорил он другу. – Как ты скоро с людьми сходишься!
– Ну, брат!.. – самодовольно усмехался Сергей. – Я же психолог, человека насквозь вижу. А сходиться с людьми, кстати, проще простого… Расходиться вот трудновато.
Сергей часто бывал у Вадима дома, они вместе ходили в кино, на выставки, иногда даже вместе готовились к экзаменам и семинарам, но это бывало редко: Вадим не любил заниматься вдвоем. По существу, у Вадима, когда он вернулся из армии, были лишь два близких человека: мать и Сережка Палавин. Из старых школьных друзей в Москве никого почти не осталось, а с теми, которые и были в Москве, встречаться удавалось редко.
Веру Фаддеевну Вадим нашел очень изменившейся – она постарела, стала совсем седая. Работала она помногу, как и прежде, уходила рано утром, приходила поздно. Часто уезжала в далекие командировки – в поволжские колхозы, в Сибирь, на Алтай. Часто приезжали в Москву ее знакомые по работе, зоотехники и животноводы из тех краев, и останавливались на день-два в их квартире. В большинстве это были люди немолодые, но здоровые, загорелые, простодушно-веселые и очень занятые. Все приезжали с подарками: кто привозил арбузы, кто мед, а один ветеринар из Казахстана привез как-то целый бараний окорок. Днем они бегали по своим делам, приходили поздно вечером усталые и голодные и, вместо того чтобы сразу после ужина устраиваться на диване спать, обычно заводили с Верой Фаддеевной разговоры до полуночи – о ремонте телятников, травосеянии, о настригах, привесах, удоях… Потом они уезжали, обязательно приодевшись в столице, и если не в новом пальто, то в новом галстуке, с чемоданом московских покупок и гостинцев. И вскоре приходила телеграмма: «Доехал благополучно привет сыну ждем гости».
С матерью у Вадима давно уже установились отношения простые и дружеские. Вера Фаддеевна и в детстве не баловала сына чрезмерной лаской, не сюсюкала и не тряслась над ним, как это делают многие «любящие» матери. С юношеского возраста он привык считать себя – потому что так считала Вера Фаддеевна – самостоятельным человеком…
Так в работе, постепенной и упорной, проходили дни Вадима. Вначале, на первом курсе, он занимался, пожалуй, больше, усидчивей и азартней, чем впоследствии, когда студенческая жизнь вошла в привычку и он научился экономить часы и понял, что на свете, кроме конспектов и семинаров, есть еще множество прекрасных вещей, которым тоже следует уделять время.
И вот окончился второй курс. Полдороги осталось за плечами, а то, что предстояло, казалось уже нестрашным, не пугало ни трудностями, ни новизной.
И на рубеже третьего курса, в эту пору студенческой зрелости, пришла вдруг к Вадиму любовь. Была она неожиданной и несколько запоздалой – первая любовь в его жизни, и потому много в ней было странностей и несуразностей, и трудно было разобраться Вадиму, что в ней – горечь и что – счастье…
3
Вадим барабанил в дверь. Долго не открывали, наконец зашлепали в глубине коридора войлочные туфли: это Аркадий Львович, сосед, – как медленно!
– Что вы грохочете, Вадим? Пожар?
– Я опаздываю в театр! – радостным и прерывающимся от бега голосом проговорил Вадим. – Через сорок минут. А мне еще надо к Смоленской площади. Представляете?
– Заприте дверь как следует, – сказал Аркадий Львович, удаляясь. Однако у дверей своей комнаты он остановился и спросил с интересом: – Как вы думаете ехать на Смоленскую площадь?
Аркадий Львович был поклонником всяческой рационализации и особенно в области транспорта. У него всегда были какие-то оригинальные идеи на этот счет и целая система самых быстрых и экономичных маршрутов в разные концы города, которую он пропагандировал. Зная эту страсть Аркадия Львовича, Вадим ответил отрывисто и категорично, чтобы сразу кончить разговор:
– На метро.
– На метро? – изумленно произнес Аркадий Львович. – Вы с ума сошли! Я вам укажу чудесное сообщение: вы едете до Калужской на любом, идете через площадь…
– На метро, на метро!.. – сказал Вадим, скрываясь в своей комнате.
Но Аркадий Львович продолжал настойчиво советовать за дверью:
– Вадим! Вы бежите к Парку культуры, это две минуты, вскакиваете на десятку или «Б»… – дверь отворилась, и в комнату просунулась голова Аркадия Львовича, в очках, с черной шелковой шапочкой на бритом черепе. – Послушайте: ровно семнадцать минут…
– Не хочу слушать, я опаздываю! Скажите точно: который час?
– Вы просто безграмотный москвич! – воскликнул Аркадий Львович, рассердившись, и захлопнул дверь. Потом он вновь заглянул в комнату и таким же разгневанным голосом крикнул: – Без двадцати семь!
На письменном столе Вадим увидел записку: «Задержусь на работе, собрание. Если очень голоден, обедай без меня. Чайник с кипятком под подушкой. Мама».
Хотя он с завтрака ничего не ел, сейчас даже думать о еде не хотелось. Это было странно похоже на приподнятое нервное состояние перед экзаменами. И главное – он опаздывал!
«Какую надеть рубашку: голубую или в полоску, с пристежным воротничком? – напряженно думал Вадим, расставляя на столе бритвенный прибор. – Голубую, конечно! С воротником закопаешься, эти запонки… А где же билет?»
В десятый раз он пугался, что потерял билет, и шарил по всем карманам.
Вадим с минуту разглядывал в зеркале свое лицо – разгоряченное, с красными от мороза носом и щеками и бледными скулами. Темно-русые волосы, примятые над лбом шапкой, торчат с боков жесткими густыми вихрами – какой шутовской вид! Надо как-то пригладить их, смочить…
Когда он намыливал щеки, пришел Сергей.
– О-о! «Надев мужской наряд, богиня едет в маскарад»? Я, кажется, не вовремя, – сказал Сергей, останавливаясь на пороге.
– Ничего, проходи! Раздевайся, – сказал Вадим, не отрываясь от зеркала. – Я ухожу в театр. Через десять минут.
– С Леночкой Медовской?
– Да, да.
Вадим произнес это «да, да» так равнодушно и будто бы механически, словно это было нечто само собой разумеющееся, хотя на самом деле вопрос Сергея несколько удивил его: «Откуда он знает?»
– Да-с, с Леночкой Медовской, – повторил он с той же напускной рассеянностью. – А кстати, как ты угадал?
– А Лена вчера говорила кому-то в институте, что ты рыцарски преподнес ей билет. Я случайно услышал.
– Даже рыцарски?
– Да, но вся грусть в том, что я совсем забыл об этом и пришел к тебе по делу. Обидно.
– Какое дело? Надолго?
– Десять минут, конечно, не устроят. Ну ладно… – Сергей вздохнул и стал снимать пальто. Потом он сел в кресло рядом с Вадимом и вынул из кармана какую-то свернутую толстую рукопись. – Это реферат Нины Фокиной о повестях Пановой. Я ведь назначен оппонентом и должен на той неделе выступать в НСО. А реферат тусклый, ой какой тусклый! Ругать буду.
– Тусклый? Странно. Ведь Нина девица серьезная, «умнеющая», как выражается Иван Антоныч…
– Да что – серьезная! Слушай, она взяла свое сообщение, какое мы все делали на семинарах советской литературы, слегка расширила его и преподносит в виде научной работы. Где тут серьезность? Общие места, фразеология, ни одной своей мысли… А ведь НСО – это как-никак научное общество, пусть студенческое, но научное! Что ни говори, а такими работами смазывается вся идея НСО. Чем оно отличается тогда от наших бесконечных семинаров и коллоквиумов? Ничем! Ты не согласен?
– Н-да… конечно, – ответил Вадим. Он слушал Сергея внимательно, потому что порезал щеку и теперь всячески старался остановить кровь и как-то сделать порез незаметным.
– Я хотел тебе прочитать кое-что из этого «научного» труда и посоветоваться. Ну, услышишь сам на обществе… Выступать я буду резко. И вообще все это навело меня на очень мрачные размышления.
– Что, о бренности всего живого?
– Хуже, – Сергей серьезно покачал головой. – На мне ведь тоже висит реферат, а я и не брался. И никакого желания нет. Стимула нет.
– Это действительно хуже.
– Не шути, Вадим. А я начинаю сомневаться – стоит ли дальше тянуть эту резину? Ты уверен в том, что наше общество на самом деле научное?
– Мы должны его сделать таким, – сказал Вадим. – Все зависит от нас.
Сергей иронически усмехнулся.
– Ты отвечаешь, как на пресс-конференции. По-моему, научное общество должно как-то обогащать науку, а это пока не в наших силах. Мы пересказываем друг другу давно известные науке вещи. Одни пересказывают более грамотно, другие менее грамотно, вот и все. Получается «Дом пионеров».
– И ты, что же… – сказал Вадим, хватая полотенце и мыло и стремительно направляясь в ванную, – собираешься уйти из общества?
Когда он вернулся из ванной, влажно-раскрасневшийся и взлохмаченный, Сергей ответил:
– Уходить я пока не собираюсь, но считаю, что надо как-то преобразовать все дело. А вот реферат, если я его буду писать, я постараюсь написать по-другому. Это будет совсем не то. И потребует времени.
– Ну, дай бог. Сережка, точно – который час?
– Без семи семь… Нет, ты ответь мне: я прав?
– В общем – да. Работа, конечно, идет не блестяще, – торопливо сказал Вадим. – Ох, я опаздываю! Она уйдет без меня…
– Может быть, дело в том, – сказал Сергей, – что в общество записалось много лишних людей? Надо оставить только тех, кто хочет и кто может работать серьезно, а всю бездарную шушеру, весь балласт отсеять безжалостно. Конечно, будут шум, вопли, но это необходимо для пользы дела. Не все же способны к научной работе, в конце концов.
– Да, да… Кинь-ка мне галстук! Лежит под словарем!
Сергей подал ему галстук и безнадежно махнул рукой.
– Нет, ты сейчас невменяем. С тобой невозможно говорить.
– Ничего подобного! Я слушаю очень внимательно, – возразил Вадим. – И, например, не согласен: как ты можешь определить сейчас, кто шушера, а кто не шушера? НСО существует только полтора месяца, многие еще никак себя не проявили.
– Вот это и плохо. Ну ладно, поговорим завтра, а то ты трясешься от страха, что опоздаешь на минуту. Если б ты так трясся, чтоб на лекцию не опоздать…
– Чудак, она же уйдет без меня!
Вадим быстро надел костюм и причесался перед зеркалом.
– Ну, как я парень – ничего? – спросил он, зачем-то встав к зеркалу боком.
– Ничего, ничего. Вполне.
– А галстук как? Ничего?
– И галстук ничего. Только никогда не застегивай пиджак донизу. – Сергей подошел к нему и расстегнул нижнюю пуговицу. – Однобортный пиджак застегивается на одну среднюю.
Они оделись и вышли на улицу. Вадим вдруг вспомнил, что забыл взять платок, и Сергей дал ему свой – шелковый, в ярко-зеленую и коричневую клетку.
– Ну, всех благ! – сказал Сергей, подмигивая. – Передай Леночке привет от меня.
Лена Медовская училась в одной группе с Вадимом. До третьего курса Вадим как-то не замечал ее, вернее – он относился к Лене так же, как и к остальным двадцати трем девушкам своей группы.
Но однажды осенним днем он понял, что это было ошибкой. Это случилось совсем недавно, в начале года. И ему самому еще было неясно, что произошло: то ли изменилась после летних каникул Лена, то ли он сам стал другим. А может быть, его надоумили ребята с чужих факультетов, его знакомые, – так тоже бывает.
Они часто спрашивали его, отведя в сторону: «Что это у вас за дивчина в группе – кудрявая такая, все время смеется?» Он догадывался: «А-а, Леночка? Есть такая! – и шутливо предлагал: – Хочешь познакомлю? Чудесная девочка, веселая, поет замечательно». Потом он стал сдержанней: «Это Лена Медовская. Между прочим, неплохая девушка». И совсем равнодушно в последнее время: «Кто? А, это отличница наша, Медовская, член редколлегии».
С театром все получилось неожиданно. На прошлой неделе Лена и Вадим оставались делать курсовую стенгазету – Вадим был главным художником газеты, а Лена возглавляла сектор культуры и искусства. Одна из девушек рассказывала о спектакле, который она недавно видела в театре оперетты.
– Я так смеялась, девчата, просто безумно! И все время боялась, что завтра буду целый день плакать. И не плакала – удивительно, правда?
Редактор газеты Максим Вилькин, или попросту Мак, худой остролицый парень в очках с толстыми стеклами, всегда ходивший в синем лыжном костюме, поднял от стола кудрявую голову.
– В таком случае Лена хитрее всех нас. Она смеется целыми днями – ей просто некогда плакать.
– Что ты, Мак?! – воскликнула Лена со смехом. – А над твоими остротами? Это же чистые слезы! Ох, мальчики, плохо острить вы умеете, а никто вот не догадается купить билет в театр, пригласить своих – ну, скажем, подруг по учебе. А? Вы не бледнейте, это можно в календарный план внести как культмассовую работу. И для отчета пригодится.
– А мы не бледнеем, – сказал Вадим, который, лежа на полу, рисовал карикатуру. – Вот возьмем да и купим!
– А вот слабо!
Спустя мгновение Вадим поднял голову и увидел, что Лена смотрит на него. Он задержал свой взгляд в ее глазах – ясно-карих и как-то серьезно поддразнивающих – немного дольше, чем этого требовала шутка. И усмехнулся своему внезапному решению.
На следующий день в городской кассе Вадим купил два билета на ту самую вещь, о которой говорили.
– Вот твой билет. На субботу, – сказал Вадим на другой день, подойдя к ней в коридоре института.
Лена ничуть не удивилась.
– Серьезно? Вот молодец! – Она даже рассмеялась от удовольствия. – Сколько я тебе должна?
– Ничего, пустяки.
– Какие пустяки? Ты покупал билеты?
– Нет, ну… Ничего ты мне не должна.
Лена решительно качнула головой и протянула билет обратно:
– Тогда я не пойду. Новости еще!
– Ну хорошо… – Вадим вдруг смутился. Он подумал, что, может быть, надо уменьшить цену, но потом решил, что это будет вовсе глупо. – Билет стоит восемнадцать рублей. Я думал, что лучше поближе…
– Чудесно! Я тебе отдам в стипендию – согласен?
Ну конечно, он был согласен!
– Я так рада, Вадим, – сказала Лена улыбаясь. – Правда! Я давно не видела ничего веселого.
…И вот он стоит, запыхавшийся и не очень смелый, с только что зажженной папиросой в зубах, перед знакомой дверью. Он был у Лены однажды по делам стенгазеты. Но тогда… Тогда-то он ни о чем не думал и трезвонил в квартиру, как к себе домой.
Ему открыла мать Лены, Альбина Трофимовна, миловидная и еще не старая женщина с белокурыми косами, уложенными вокруг головы короной, – эта прическа еще более молодила ее, – и с очень черными ресницами.
– Здравствуйте, здравствуйте! – сказала она, приветливо улыбаясь. – Снимайте пальто, Вадим, проходите. А Леночка только встала, спала после обеда.
– Как? Она еще не готова?
– Не беспокойтесь, Леночка умеет очень быстро собираться. Не в пример другим девушкам.
Пока Лена с помощью Альбины Трофимовны одевалась в своей комнате, Вадим сидел на диване в столовой и перелистывал свежий номер «Огонька» – не читалось. Он отложил журнал. Он был взволнован – но вовсе не тем, что грозило опоздание в театр и надо бы, наверное, уже ехать в метро, а Лена все еще наряжалась… Нет, он и думать забыл о часах. Пристально и внимательно оглядывал он эту комнату с нежно-сиреневыми обоями и легким, как облако, розовым абажуром над столом, тяжелый буфет, пианино, на котором выстроилась целая армия безделушек и лежала заложенная ленточкой книжка в старомодном, с мраморными прожилками, переплете – Вадим издали прочитал: Данилевский. «Наверное, Альбина Трофимовна увлекается, – подумал он, – Лена говорила, что ее мать очень много читает и особенно любит историческое». И Вадиму почему-то понравилось то, что Альбина Трофимовна увлекается Данилевским (хотя узнал бы он это о своей матери – наверно бы посмеялся), и вообще она показалась ему приятной, образованной женщиной и очень красивой – похожей на Лену.
Все в этой комнате, до последней мелочи, казалось Вадиму необычайным, исполненным особого и сокровенного смысла. Ведь здесь живет Лена, здесь она завтракает по утрам, торопясь в институт и поглядывая на эти часы в круглом ореховом футляре, и вечером сидит за чаем, и лицо ее – смугло-розовое от абажура, здесь она играет на пианино, читает, забравшись с ногами на диван – вот так же сидит она в институте на подоконнике, поджав ногу… И Вадиму никуда вдруг не захотелось уходить отсюда – зачем этот глупый театр, что в нем? – он с радостью отдал бы оба билета Альбине Трофимовне, лишь бы остаться здесь, побыть хоть немного с Леной вдвоем.
В это время из соседней комнаты раздался веселый, повелительный голос Лены:
– Вадим! Можешь войти!
Он взглянул на часы – прошло пятнадцать минут, на первое действие они безусловно опоздали.
Лена стояла перед зеркалом в длинном темно-зеленом платье, оттенявшем нежную смуглость ее обнаженных рук и открытой шеи. Она казалась в нем выше, стройнее, женственней. Вадим, удивленный, остановился в дверях – он и не знал, что она такая красивая.
– Вадим, скорее советуй! Что лучше: эта брошка или ожерелье? – Она повернулась к нему, приложив к груди круглую гранатовую брошь, и кокетливо склонила голову набок. – Ну, хорошо?
Глядя не на брошку, а на ее светлое и радостное лицо, Вадим сказал убежденно:
– Хорошо, очень хорошо, но первое действие погибло.
– Так я же давно готова! – воскликнула Лена, беря с подзеркальника флакон духов и капая себе на ладонь. Она быстро провела ладонью по груди, потом капнула еще и так же быстро пошлепала себя за ушами. – За ушами дольше держится, знай, – объяснила она деловито. – Тебя подушить?
– Нет, не люблю.
Наконец они оделись, попрощались с Альбиной Трофимовной и вышли на улицу. К подъезду вдруг подкатила «Победа», остановилась, и из машины быстро вышел человек в широком черном пальто и в шляпе. Лена подбежала к нему.
– Папка! Можно нам доехать до Маяковской? Мы опаздываем в театр, а это Вадим Белов из нашей группы, познакомься!
Человек в шляпе молча пожал руку Вадиму и сказал без особого сочувствия:
– Опаздываете в театр? Это неприятно… Я не знаю, спросите у Николая Федоровича, если он согласится, пожалуйста. Если у него есть время.
Вадим как будто почувствовал в его тоне сдержанное неодобрение, и ему показалось даже, что Медовский поздоровался с ним не слишком дружелюбно. Лена принялась уговаривать шофера, называя его «Коленькой» и «голубчиком», и дело решилось в две секунды.
Они быстро сели на заднее сиденье. Вадим захлопнул дверцу, и машина понеслась. Замелькали освещенные окна, фонари, неразличимые лица прохожих… На повороте их качнуло, и Лена на мгновение прижалась к Вадиму и вскрикнула, засмеявшись: «Ой, Коленька, осторожней!» А Вадиму хотелось сказать, чтобы Коленька только так и ездил и как можно дольше не подъезжал к театру.
Через несколько минут машина остановилась перед театром, и Вадим и Лена с третьим звонком влетели в зрительный зал.
И вот они уже сидят в партере, близко от сцены. Занавес еще не поднят. В зале шум, скрип кресел, шмелиное гудение разговоров – все это понемногу стихает. Касаясь плечом Вадима, Лена разглядывает в бинокль ложи.
– Знаешь, я люблю смотреть на людей в театре, – говорит она вполголоса, – и угадывать: кто они такие, как живут? Это очень занятно… Правда? Вот, например… – Не опуская бинокля, Лена придвинулась к Вадиму и заговорила таинственно: – Вон сидит молодой парень… рабочий, наверно… Это его премировали билетом, да? Потому что он один… А вон студентки болтают, справа – видишь? Обсуждают кого-нибудь из своей группы. Вроде нас, мы тоже – соберемся и давай обсуждать… Наверно, с биофака МГУ, у них там все в очках.








