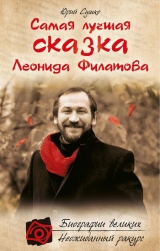
Текст книги "Самая лучшая сказка Леонида Филатова"
Автор книги: Юрий Сушко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Группа же на курсе подобралась удивительнейшая. Александр Кайдановский, Иван Дыховичный, Борис Галкин, Владимир Качан, Ян Арлазоров, Нина Русланова, Екатерина Маркова… Завтрашняя краса и гордость отечественного театра, кино и, конечно же, эстрады. А тогда, по определению Филатова, просто «замечательные талантливые провинциалы. Им так же, как и мне, предстояло каждый раз доказывать самим себе и друг другу, что мы что-то можем, что мы, вернее, каждый из нас – лучший…»
Как-то Филатов вспоминал свое выступление на Всероссийском конкурсе артистов эстрады. Вдруг на третьем туре увидел однокашников. Обнялись, теребят друг друга, спрашивают: «Как ты, Леня? А вот мы… Помнишь?!» Слушаю, говорил Леонид (тоже еще не шибко-то увенчанный), и как-то не по себе, горько… Знакомые лица, которые успел забыть! Лица постаревшие, глаза тяжелые… Не повезло им! А были талантливее меня… Шатается по России наша братия. Одному места нет, другому с режиссером не повезло, третьему – с ролями… Да мало ли причин! А любая пауза – и уходит профессия…
На курсе мастера Веры Константиновны Львовой, «совершенно небесной», по определению зрелого Филатова, они вели себя не лучшим образом: благодаря тому, что кое-что знали, сачковали «по-черному». Значительно позже понял, признавал Филатов, что мне просто повезло. А тогда, по юности, был совсем не сахар, безумно на всех обижался, считал себя непонятым, чем доставлял преподавателям немало неприятных минут…
Их студенческое общежитие на Трифоновской, а в особенности комната № 39, в которой обосновались Филатов, Галкин и Качан, являлось своего рода государством и государстве.
Существовал неписаный кодекс мужской солидарности. Однажды случилась неприятность у Сережи Вараксина. Мало того, что он угодил в милицию, так его еще там и обрили под «ноль» (была в то время такая профилактическая мера). Желая поддержать пострадавшего, жильцы 39-й комнаты в полном составе отправились в парикмахерскую и так же постриглись. «Явились, как пять биллиардных шаров, в училище, – со смешком вспоминал Галкин. – На вопрос педагогов: «В чем дело?» – ответили: «А в общежитии уже неделю нет горячей воды. Не ходить же с грязной головой. Гигиена прежде всего!» Наш решительный поступок был одобрен всеми…»
Романы? Да, случались. Пересуды? И они тоже. Бытовая неустроенность? Конечно. Гусарили? Ну да, а как же без этого?! Словом, все как у всех.
Только было в Филатове нечто, отличавшее его от прочих. Это «нечто» многие ошибочно принимали за гордыню, амбициозность, завышенное самомнение. Его извечную ироничность считали природной желчностью. Никто не принимал во внимание, что Филатов был способен столь же безжалостно иронизировать не только над другими, но и над самим собой.
Стал классикой, легендой «Трифоновки» реальный сюжет с участием двух будущих народных артистов России. Очнувшись от тяжкого сна-забытья, последний «щукинский» романтик Борис Галкин тут же взял стакан в одну руку, а во вторую – горбушку черного хлеба, густо посыпанного солью, и обратил свой мечтательный и мутный взор в не менее мутное окно. И совершил величайшее открытие, обнаружив за стеклом огненный солнечный шар: «Подъем! Как можно спать при такой красоте?! Смотрите, какой рассвет, идиоты!» Романтический пыл приятеля остудил хладнокровный надтреснутый, с легкой хрипотцой голос Филатова, комфортно расположившегося на провисшей почти до самого пола панцирной кровати: «Боря, успокойся, это не рассвет, это закат…»
Этой троицей – Филатов, Качан, Галкин (плюс порой Михаил Задорнов) – любовались. Они часто забавлялись такой немудреной игрой: кто-нибудь говорил ключевую фразу, скажем, «идет дождь», «светит солнце» или «дяденька идет по улице», а Филатов обязан был с ходу придумать стихотворение. Получив ответственное задание, Леонид начинал быстро-быстро ходить из стороны в сторону, и через минуту выдавал рифмованные строки – одну за одной…
Не о них ли пел Булат Окуджава: «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты…»?
Потом ими можно было «любоваться» уже только издали – после очередной «шалости» развеселую троицу таки выселили из общежития. Слоняясь по этажам, они, само собой, забрели на тот, где обитала «прекрасная половина человечества». Шутки ради связали ручки дверей, расположенных друг против друга, постучали в обе, и, отбежав, стали наблюдать «девичий визг на лужайке». Утром шутникам пришлось держать ответ перед активистами из студсовета. Дело приобрело характер «международного скандала». Дело в том, что в одной из комнат жила болгарская студентка. Плюс ко всему прочему еще и беременная. «Каким-то образом нас вычислили, – рассказывал Филатов. И задумывался. – Или просто продал кто?..»
Словом, друзей из общежития на Трифоновке выгнали раз и навсегда. Тогда они нашли приют на улице Герцена, в бывшей конюшне, которую снимали несколько лет кряду. Кого там только не перебывало у них в гостях за это время! «Но не надо думать, что это была какая-то богемная жизнь, – отчаянно открещивался Леонид, – скорее нищенская. Богема предполагает хотя бы наличие ванны. А мы ходили летом и зимой в одних дырявых кедах…»
Михаил Задорнов отдавал должное своему другу юности Лене Филатову, он называл его: «Мой учитель, перед которым я преклоняюсь. Благодаря ему я стал чувствовать поэзию, разбираться в кино и театре. Он развил мое чувство юмора». Но в то же время Михаил Николаевич вовсе не собирался пристраивать ангельские крылышки своим друзьям-приятелям и признавал: «Чего греха таить, мы вели безнравственный образ жизни. Страшно много пили, причем всякую дрянь. Мне, например, очень нравился одеколон «Ромео и Джульетта». Когда разбавляешь его водой, он давал наименьший осадок…»
Нередко их компанию «разбавлял» (простите за невольный каламбур) однокурсник Александр Кайдановский, парень драчливый и решительный. Филатов навсегда запомнил, как они как-то вчетвером возвращались ночью через Марьину Рощу. Неподалеку от Рижской к студентам пристали шестеро. У них были ножи. В принципе вчетвером они могли бы отмахаться, но против ножей… И тогда Кайдановский подошел к тому, кто первый вынул нож, голой рукой взялся за лезкие. Кровь хлещет, а он держит. И что-то было в его лице такое, что «хозяева» Марьиной Рощи спасовали…
О своем сокурснике Филатов отзывался несколько настороженно, как о загадочном, не всем понятном человеке: «Кайдановский мог виртуозно материться, болтать на бандитском жаргоне, а мог всю ночь говорить с тобой о литературе».
Филатов много рассказывал друзьям о своей поэтико-среднеазиатской (как звучит-то!) юности, в которой случались подобные истории и передряги. Ведь жить приходилось в двойственном мире – жесткие, бессмысленные дворовые драки и увлеченность поэзией («Ну, кто не пишет в школе? Только ленивый»). Что еще? Цветы. Когда-то мальчик из Ашхабада получил путевку в «Артек» за то, что вырастил удивительнейшей красоты розу. Плюс сломанный в драке нос и тончайшие переводы восточных акынов. Нос? «Подправили, – смягчал ситуацию Леонид. – Он такой был довольно длинный, но прямой, а стал… волнистый. Я всегда мечтал Сирано сыграть. Не вышло: Миша Козаков, решившийся это ставить, уехал…» Стало быть, понапрасну Филатов нос свой в юности «косметически подправлял».
Само собой, многие детские впечатления позже выталкивались наружу. И, как оказалось, пригодились ему много позже в творческих поисках. Даже задумал повесть о своей ашхабадской юности, о городе конца 50-х годов. И название придумал – «Звезды величиной с тарелку». «Когда я приехал в Москву, – рассказывал несостоявшийся, к сожалению, прозаик, – многое мне не нравилось как человеку южному. И я всем рассказывал, что звезды в Ашхабаде величиной с тарелку. Вспоминал разных кумиров моей юности, и положительных, и отрицательных… Это будет не дневниковая повесть…»
Повесть о своих детских и юношеских годах Филатов написать не успел.
Многие рафинированные кинокритики, да и зрители тоже, недоумевали: как удалось исполнителю роли сдержанного, почти интеллигентного Виктора Грача в одноименном фильме «Грачи» вызывать такое жгучее отвращение? Откуда у интеллигентного, казалось бы, Филатова вырывалось такое достоверное знание подлинной дремучей, отвратительной сущности бандитской натуры?
Да оттуда же, из юности все, из нее самой, пытался объяснить он досужим и любопытным журналистам. Хулиганистый, полукриминальный ашхабадский мирок довелось знать не понаслышке. «Теплый край, – с легкой ностальгией вспоминал Леонид, – туда регулярно стекались бандиты, и я их наблюдал достаточно… Они самые угрожающие вещи говорили таким ленивым южным тоном – без единого резкого звука, без «р», «д», «г», на сплошном «ш», «щ», почти нежно: «Ты шо! Шо ты тя-янешь! Ты шо!» Ну, и у меня были собственные понты-припарки, чтобы отбиваться…»
В юные годы Филатов даже обвинялся в убийстве. Не пугайтесь, поклонники артиста, – по роковой ошибке. В городе произошло убийство. Свидетель преступления, блуждая по улицам, как-то совершенно случайно увидел в молодежном кафе начинающего поэта Леонида Филатова, который пил пиво и читал свои стихи друзьям, и указал на него милиционерам: «Вот этот, по-моему». Потом недоразумение, разумеется, разъяснилось, но пережитое юношей потрясение, допросы, длинные протоколы, жуткий лязг замков в КПЗ, очные ставки, весь этот ужас, увиденный и прочувствованный им во время следствия, как оказалось, через много лет аукнулись в нем во время съемок «Грачей».
«Южный город, – без конца подчеркивал Леонид, объясняя некоторые особенности своего непростого характера, – смешение национальностей, темпераментов. Там и армяне, и украинцы, и евреи, и грузины, и туркмены, разумеется. И понятно, что проводить девочку вечером было мероприятие небезопасное. В этих республиках надо рождаться аборигеном… Мне вот слово «еврей» объяснили в Москве. Живя в Ашхабаде, я это плохо понимал, ну еврей и еврей. И чем плох еврей, объяснила «великодушная» Москва…»
Самым главным в «ашхабадском» отрочестве Филатова было прикосновение (именно прикосновение – не приобщение, слово грубоватое) к литературе: «Терся в местной газете… Печатал там какие-то переводы, стихи… От тех лет, от людей из газеты осталось на всю жизнь ощущение тепла, бескорыстия, дружбы. Этим людям, казалось, ничего не нужно было в жизни, кроме тенниски, сандалий и постоянного общения. Все, что есть, – на стол. Пиво, нехитрая закуска и – бесконечные разговоры. А параллельно с этим шла, конечно, и моя обычная жизнь школьника-старшеклассника. Нормальные детские дела, в числе которых были и неизбежные потасовки, походы «квартал на квартал».
Особое влияние на взросление Лени Филатова оказал Ренат Исмаилов, который руководил театральной студией при Доме учителя. Этот невысокий человек, с чеканным лицом, жесткими скулами, отличавшийся не менее жесткой манерой общения, ставший впоследствии незаурядным туркменским режиссером, научил его особой, той самой ашхабадской независимости, остро необходимой в городе, где всегда полезно быть начеку.
В доме Рената на проспекте Свободы собирались молодые актеры и поэты. Именно здесь в ту пору Филатов узнал как следует Жоржи Амаду, Ремарка, Колдуэлла. Но вершиной были и остались навсегда «Маленькие трагедии», гениальные пушкинские строки.
А потом, много позже, уже одолевши свой 40-летний рубеж, Филатов напишет:
Поэты браконьерствуют в Михайловском,
И да простит лесничий им грехи!..
А в небесах неслышно усмехаются
Летучие и быстрые стихи!..
Они свистят над сонными опушками,
Далекие от суетной муры,
Когда-то окольцованные Пушкиным,
Не пойманные нами с той поры!..
«Окольцованный» Пушкиным, он никогда не расставался с ним. Говорил, что не упускал ни малейшей возможности соприкоснуться с творчеством Александра Сергеевича. На первом курсе вместе с друзьями Ваней Дыховичным и Сашей Кайдановским они сыграли спектакль о поэте. Потом снимался в телевизионном спектакле по пушкинскому «Выстрелу». Была даже роль самого Александра Сергеевича на сцене «Таганки».
«Знаете, – застенчиво, но с оттенком гордости, говорил Филатов, – у меня и сын родился в день рождения поэта…»
* * *
Студенческие годы… «Это был замечательный период, – с оттенком легкой ностальгии вспоминал позднее Филатов. – Многие грозы и беды на нас еще не обрушились. Не было и чудовищного завинчивания идеологических гаек, во всяком случае, молодые этого не ощущали. Ставить можно было все, что угодно, хоть Солженицына. Никто не спрашивал и не указывал. Что хочешь выбирай, во что угодно наряжайся. Найди только партнера, сам договорись, сам поставь. Это было очень любопытно. На спектакли всегда собиралась тьма людей, сидели допоздна, поскольку студенты играли по три-четыре отрывка. И вот тут уже я разворачивался…»
На одном из таких представлений среди зрителей появился и недавний выпускник режиссерского отделения ВГИКа некий Константин Худяков, который в будущем сыграл немаловажную роль в кинематографической судьбе Филатова. «Они показывали концерт, состоящий из полной чепухи, – без особого пиетета к потенциальным звездам вспоминал никому еще не известный кинорежиссер. – Но на него (Филатова. – Ю. С.) у меня была масса душевных привязанностей…» Друзья и познакомили Леню и Костю. И у них как-то сама собой надолго завязалась такая игра – Худяков ходил за Филатовым и время от времени ехидничал: «Смотри, ты мне попадешься». А Филатов по своему обыкновению посмеивался: «Да-да, когда это будет?» – «Обязательно будет», – клялся режиссер. В общем, потом они таки, слава Богу, «доигрались», вместе сделали пять кинолент. Но это будет потом. А пока…
«Леня писал стихи, Володя Качан – музыку, – рассказывала о «щукинской» молодости их однокурсница Нина Русланова, – и эти песни распевал весь институт. Да что там институт?.. Весь город пел…»
Будущий знаменитый пересмешник, писатель Михаил Задорнов вспоминал: «Нас было несколько рижан… Нас называли – «Филатов с дрессированными рижанами»… Любили театр, поэзию и разговоры «на кухне». Филатов писал стихи о любви… Он был отчаянно влюблен… Володя сочинял по ночам музыку, потому что был влюблен чаще, чем Леня. Пройдет время, и известного киноартиста-звезду наш читатель полюбит, как поэта… А мы любили его стихи уже тогда… В полуподвальной квартире на улице Герцена, за столом с ножками, изъеденными древесными жучками, он сидел, подвернув под себя правую ногу… Благодаря песням Володи и Лени я так и не смог никогда полюбить наши эстрадные песни…»
Песенки эти сочинялись легко, чуть ли не на подоконнике. Первая песня – «Ночи зимние» – сочинилась на кухне. Как рассказывал Владимир Качан, среди картофельной шелухи в полтретьего, в три часа ночи он мне читал стихи, только что написанные. И песня потом отозвалась таким диким резонансом у всех соседей по общежитию, всех студентов, такое дикое количество водки приносилось, все хотели эту песню послушать. Но не потому, что она была так хороша, а потому что у каждого была своя история, на которую так здорово ложились филатовские слова: «Вас вместе с другом как-то видели, мой друг, наверное, солжет…» Не Бог весть какое поэтическое открытие, верно? Но каждому из слушателей казалось, что это как раз сказано и спето о нем, о его незадавшемся первом романе.
«Премьеры песен проходили на кухне, – подтверждал Борис Галкин, – куда набивалось немыслимое количество народа из всех комнат, представители всего СССР. Оттуда эти песни разлетались по всей стране. Песенное священнодействие иногда длилось до утра, с соответствующим возлиянием виноградного вина из чайника, который периодически пополнялся у виноделов с Кавказа на Рижском вокзале по 2 рубля 50 копеек, и взысканиями, выговорами «за плохое поведение» от коменданта общежития. Зачинщиками «безобразий» чаще всего была наша комната… Персонально объявить выговор было невозможно, поэтому ответ держали все как один, а это не страшно».
Воодушевленные первым успехом, авторы продолжили свои песенные опыты. Их мало заботила дальнейшая судьба песенок. «Мне было все равно, – говорил автор стихов для «шлягеров». – Может, потому что давалось легко. В течение пятнадцати минут пристраивался в общаге, в уголочке, и стишки готовы. Ну и пусть никто не знает. А что это за шедевр такой, что нужно еще и автора слов помнить?»
Когда соавтор, то бишь композитор Владимир Качан, возмущенно рассказывал Филатову, что их песню «Тает желтый воск свечи, стынет крепкий чай в стакане…» поет один молодой актер и выдает ее за свою, Леонид лишь легкомысленно отмахивался: «Ну и черт с ним, мы еще сочиним». Считал, что для композитора это, может быть, принципиально, и ему обидно. А ведь в те годы оркестр Утесова приобрел песни у творческого дуэта Филатов–Качан за баснословные деньги – 150 рублей!
Много позже, спохватившись, Качан с помощью юристов оформил, как следует, все авторские права и всерьез занялся выпуском профессиональных компакт-дисков. А что, все правильно. «Раньше об этом не думали, – говорил Владимир Качан. – Но судиться с кем-то из-за этого…» Конечно, нет. Недаром позже Леонид Алексеевич зарифмует свое кредо:
….А важно то, что в мире есть еще мужчины,
Которым совестно таскаться по судам!..
В период студенчества Филатова куда больше, нежели поэтические упражнения, интересовали собственные драматургические опыты.
«Тогда я безумно стеснялся и обманывал, по существу, всех, – объяснял он. – Причем обман был довольно дерзкий. Я думал, раз меня печатают, то спокойно могу называться любой фамилией и читать свое. Причем ладно, выдумывал бы из башки нечто неизвестное, но я же знаменитые фамилии брал. В училище писал пьесы, но назывался Артуром Миллером. Рассекретили меня лишь на третьем курсе. Написал пьесу «Судебный процесс», ее поставили. Наш тогдашний ректор Борис Евгеньевич Захава пьесу похвалил, сказав, что, когда выбирается хорошая драматургия, актерам и играть легко. После этого встал мой друг (все тот же Галкин. – Ю. С.) и, задыхаясь от счастья, сказал: «А вообще-то эту пьесу Леня Филатов написал». Ректор побагровел и очень обиделся…» С тех пор стал проходить мимо дерзкого студента как крейсер, не замечая…
Простодушный Борис Галкин обнародовал подлинное имя автора, естественно, из самых лучших побуждений. Он был горд за друга, хотел похвастаться. «Мы же взрослым доверяли, а то, что они могут по-детски обидеться, – кто ж такое мог предположить? – пытался как-то смикшировать «инцидент» сам Филатов. – Наверняка знать все невозможно, а показать невежество никто не хочет…»
И он все равно продолжал без устали кропать свои театральные миниатюры, сценки, забавные «отрывки из пьес» под звучными, как ему казалось, псевдонимами с «киношным, западным душком» – Чезаре Дзаваттини, Васко Пратолини, Ежи Юрандот… А попробуйте-ка произнести и почувствовать вкус таких роскошных имен, как Ля Биш или таинственный Нино Палумбо!.. Они тоже присутствовали в секретной обойме псевдонимов Филатова.
Писал он не «в стол» – для студийных этюдов своего и других курсов училища. С тайным, кстати сказать, умыслом. Двумя курсами младше уроки актерского мастерства осваивала известная всем филатовская пассия. Вот для нее ему и нужно было расстараться.
Когда появилась пьеса «Кого ждать к ужину», подписанная очередным псевдонимом, отысканным в литературных архивах, один из педагогов авторитетно заявил, что у него дома, кажется, где-то завалялась эта пьеса, надо бы перечитать. Словом, назавтра обещал принести. Но так и не принес…
Может быть, именно эта нехитрая история в будущем подтолкнет Филатова к идее «перелицевать» старую-старую сказку о новом платье короля. Ведь, как рассказывал Владимир Качан, вся кафедра усердно стремилась продемонстрировать друг перед другом свою недюжинную литературную эрудицию, точь-в-точь как вымышленные царедворцы изображали свое восхищение голым королем. Не находилось там того отважного мальчика, который бы откровенно ляпнул при всем честном народе, что король-то голый…
Некоторая же часть педагогов были просто наивно-искренне уверены, что у Филатова просто присутствовал природный дар находить незаигранную, качественную драматургию. Взрослым людям было неловко сознаваться в незнании современных течений на мировой сцене.
В общем, скромно объяснял свои скрытые «дарования» автор, сочинял я пьесы из западной жизни. А так как про жизнь эту никто ничего толком не знал, то был на этом поле смел и отважен.
Ко всему прочему стихи его, как выражался Филатов, сами периодически «нагоняли». Когда он учился уже на втором или третьем курсе, стали появляться в «Комсомольской правде» вирши, подписанные: «Леня Филатов, ученик 6-го класса». Никакой мистики, обычная суета-неразбериха, тетрадки со стихами годами валялись по редакциям в отделах писем, пылились и желтели, появляясь на белый свет, когда в газетной полосе аврально требовалось возникшую «дырку» залатать. Тем не менее у студента Филатова присутствовала какая-то, пусть даже такая, связь с письменным столом…
На четвертом курсе Филатов, как уже выше было сказано, безоглядно влюбился. Но и столь же безнадежно. Его избранницей стала Наташа Варлей, которая к тому времени уже успела стать знаменитой «спортсменкой, комсомолкой, красавицей», снявшись в гайдаевском блокбастере «Кавказская пленница».
За развитием их романа, «глухого и безответного», с пристальным любопытством следила вся хищная «Щука». Особо ревностно, конечно, женская половина. «Нет, она (Наташа) не отталкивала Леню, позволяла любить себя, даже не ухаживать, а именно любить, общалась с ним. Но не больше. А он из-за этого страшно переживал, – томно вздыхала красотка Таня Сидоренко, учившаяся вместе с Варлей. – Мы с Леней часто сидели в одном кафе на Арбате, он рассказывал мне о своей любви, говорил, что страдает, просил у меня совета. А что я могла ему посоветовать? Сидела, слушала, боясь лишним вздохом ему как-то помешать…»
«О женщины, вам вероломство имя!..»
Уже много позже Филатов понял, как важны в предощущении любви, в моменты прелюдии, прежде всего «разговоры, в основном разговоры. Потому что интеллект, даже у женщины, – это вещь решающая».
– Прошу прощения за слово «даже», – уточняя, он галантно склонял голову, – это не означает, что я дискриминирую женщин. Просто принято рассуждать так: если мужик – дурак, это ужас, кошмар, это предел. А если женщина дурочка (не говорю – дура) – это как бы ничего, терпимо. Но когда ты понимаешь, что ты имеешь дело уж совсем с интеллектуальным болотом – это уже воздействует на половую сферу. И невозможно вообще дальше двинуться – потому что сознаешь, что человек совершенно другой по составу крови, существо другого подвида… И с ней играть в любовь, напрягаться на какие-то подвиги… уже просто нельзя.
Всенепременный свидетель романа друга и Наташи Варлей Владимир Качан считал: «Она слишком серьезно и требовательно относилась к любви, нет в ней той самой дозы безответственности, которая необходима, вероятно, для «легких» отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому ей не слишком-то везло в ее личной жизни».
В Натальином альбоме есть трогательные стихи с посвящением «Л. Ф.»
Ты где?
Ты пишешь ли стихи?
Живешь ли
тихо-мирно-радуясь?!
А я пишу.
Взлетаю. Падаю…
И полыхает
жизнь нескладная,
Как горстка
веточек сухих,
Никем не брошенных
в очаг
Добра, тепла
и понимания…
Замучили
воспоминания
И я ношу —
ношу, как мантию, —
Боль
На худых своих плечах.
* * *
У Нины Шацкой, по ее собственному признанию, складывалась достаточно странная, неказистая и нелегкая театральная судьба. После института подалась было вслед за Золотухиным в театр имени Моссовета. Приготовила для показа отрывок из какой-то дурацкой пьесы Софронова «Обручальное кольцо», кажется. Показалась. Ан нет, тогда не взяли. Но запомнили. Буквально через год раздался суматошный звонок из «Моссовета»: «У нас ЧП, актриса не приехала. Выручайте, Ниночка! Мы же помним, как вы замечательно показывали фрагмент из этого спектакля, умоляем, спасите, сыграйте главную (!) роль!» Нина собралась с духом и сказала: «Да». Хотя ни текста не знала, ни мизансцен, ни партнеров, ничего ровным счетом. Звонок раздался в пять, а спектакли тогда начинались в восемь. Минус время на дорогу, грим. На то, чтобы выучить слова, оставалось часа полтора. На ватных ногах пришла в театр, ее начали одевать-гримировать, а она текст зубрит, а помощник режиссера в это время ей на ухо пытается объяснить, что нужно делать на сцене. Но сыграла. И даже танец какой-то сплясала.
С той поры со своими сценическими ролями (уже на Таганке) она, как правило, справлялась самостоятельно, без всякого участия властной режиссерской руки. «Единственный спектакль, где я прошла весь репетиционный период, c cерьезной читкой и репетициями, – это «Чайка» в постановке Соловьева. Тут я впервые словила актерский кайф, – признавалась Нина. – А так почти все мои роли были «домашними работами».
Может быть, сама была виновата, задумывалась она и тут же находила всему оправдание: «Потому как ненавижу начальство и ненавижу несправедливость. Я могу казаться такой мудрой Тортиллой, но только относительно других людей. Когда речь о себе, то душа, как тетива, знаю, что ничего нельзя сказать, что будет потом гадко и неудобно, но все свое «выпалю». Надо отдать должное Юрию Петровичу, как бы он ни относился к артисту, он всегда давал играть тому, кто побеждает. Так что все мои беды связаны не с Любимовым, а с собственным характером… Я человек очень ленивый и могу добиться только того, что очень захочу…»
Да, соглашался с женой Филатов: «Любимов… брал Нину почти во все значительные спектакли, будучи с ней в очень плохих отношениях. Я полагаю, он просто хотел продемонстрировать, какие женщины есть на Таганке…»
Какие? Да вот такие: яркие, эффектные, блистательные, обворожительные, талантливые, чувственные, особо женственные. Прав был-таки Андрей Вознесенский, когда в сердцах вынес вердикт: «Все богини – как поганки перед бабами с Таганки»!
Среди ролей Шацкой на сцене «Таганки» особняком стоит булгаковская Маргарита. Когда прочитала роман, она сказала себе: «Я это буду играть. Это моя роль и больше ничья».
– Когда я знаю: вот это моя роль, в десятку, – делилась Нина своими актерскими горестями и неприятностями с близкими подружками, – могу подойти и сказать. И получить ее. Какая бы стеснительная ни была. И Любимов так мне роли и давал. И Маргариту так дал. После того как я оскорбила его… Прямыми словами. Я не основное слово скажу, а – «дерьмо». Потом стыдно было. У нас была разборка в театре – администрация спровоцировала артистов на разговор, почему-то с шампанским. А у меня опять проблема с моей семейной жизнью, той (с Золотухиным. – Ю. С.). И я не пошла со всеми, дурочка, а купила сама себе бутылку шампанского. Налила больше полстакана – смотрю в зеркало: опьянела уже или нет. Нет. Я закурила. Нет. Я налила еще полстакана. И со своим грузом тяжелым душевным топ-топ-топ на второй этаж. И как-то Любимов на меня сразу обратил внимание. И сгрубил что-то. Я не могла стерпеть. Встала и сказала. После этого собрание быстро кончилось.
Но этому предшествовала история. Я вообще человек добросовестный, и если получаю роль, то проделываю домашнюю работу и все прочее. Ставили «Деревянные кони» Федора Абрамова. Роль не моя. Хотя деревенскую жизнь я знаю. Но он назначил – я стала работать. Всем дает репетиции – мне не дает. И целый год он меня мучил, не давал выходить на сцену. Вообще моя жизнь в театре – я не знаю другой такой. Я играющий человек. А всегда второй состав, и он со мной не репетирует. Потом меня уговаривали: ты должна выяснить с ним отношения…
Леня потом ввелся, чтобы со мной быть на сцене. Я с ним совсем по-другому играла… Короче, я пришла к Любимову, он говорит: Ниночка, вам надо было раньше прийти ко мне. Но он, когда «Мастера» назначал, меня все равно не имел в виду. Я была такая бабочка – как ко мне было серьезно относиться? Только близкие друзья знали меня другой. Я когда прочла «Мастера», почувствовала Маргариту, как будто это я. Хотя она очень разная. И женственная, и яростная, и ругается матом. Я думаю: я, и никто больше.
Но на эту роль уже были назначены Поплавская и Сайко… – «они внешне напоминали Елену Сергеевну Булгакову – маленькие, худенькие. Мы в то время сильно поссорились с Юрием Петровичем. Я его обидела. Иногда, знаете, как Лев Толстой… Не могу молчать! Все внутри становится как натянутая тетива, и полетела стрелочка… Вот за очередную «стрелочку» мне, видимо, в наказание и досталась только одна фраза в массовке…»
И вдруг – просто случай. Наташа Сайко пропустила репетицию. А мы все, продолжала свою исповедь Нина, как куры, сидим и смотрим. Он ходил-ходил и неожиданно обратился ко мне: Шацкая, вы знаете текст? Я говорю: да. Да-а-а? Ну идите. Я пошла. Он смотрит и как-то… оживился. На следующий день уже дальше, уже на маятнике, и ему все нравится, нравится. И я осталась в спектакле… Сайко, конечно, обижалась, но Любимов был непреклонен: нет-нет, репетировать будет Шацкая.
Когда в «Мастере» новорожденная Маргарита всему зрительному залу продемонстрировала свою безукоризненную нагую спину, мужики выли от сладострастного восторга и по-щенячьи, покорно готовы были целовать следы от ее туфелек на асфальте у входа в Театр на Таганке.
Владимир Семенович Высоцкий во время своих концертов с нескрываемым удовольствием рассказывал, как некоторые ошалевшие зрители сметали все на своем пути, прорываясь к кассам, брали за грудки обезумевшего администратора и требовали билетик на спектакль… «Солдат и маргаритка», в котором, как им говорили, голую бабу показывают. «Она, во-первых, полуголая, – охлаждал Высоцкий пыл своих зрителей и слушателей, – а, во-вторых, сидит спиной. Поэтому ради этого только на спектакль идти не стоит. Хотя спина красивая у Нины Шацкой…»
Строгий в оценках таганский Воланд – Вениамин Смехов – в своих дневниках отмечал: «На Таганке с Маргаритой очень повезло. Нина Шацкая голой по сцене не бегала, да ей бы и не разрешили органы советской власти. Зато ее лицо – прекрасно, а обнаженная спина в сцене «Бал у Сатаны» действовала на воображение зрителей и украшала сцену великолепно… Буйствует красавица Шацкая – Маргарита…»
Даже обычно скупой на похвалы «современник» Олег Табаков вынужден был, пусть с некоторым сарказмом и оговорками, но тем не менее признать: «Лучше всех для меня Воланд и Маргарита… Эта актриса, может быть, не слишком умелая, но она потрясающе сыграла свое желание сыграть Маргариту!» С понятной ревностью следил за игрой своей бывшей жены Валерий Золотухин, и как бы бесстрастно «писал в блокнотик впечатлениям вдогонку»: «10 февраля 1993 г. Среда. Мой день… Шацкой очень хорошо удается ведьминское перевоплощение. Она довольно убедительно плачет по своему Мастеру, и я ей верю. – При этом якобы «скорбел». – Да, она старовата, полновата…»







