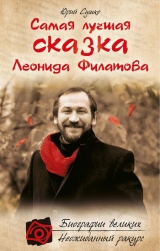
Текст книги "Самая лучшая сказка Леонида Филатова"
Автор книги: Юрий Сушко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
С ним был солидарен и Александр Абдулов: «Отказать Лене я никак не мог, несмотря на то что снимался одновременно в семи картинах. Во-первых, мы хорошие приятели, во-вторых, считаю, долг артиста помочь артисту. Я знаю его как талантливого человека и верил в то, что будет хорошая работа. И сценарий мне очень понравился, да еще про актеров – всегда интересно сыграть свою профессию… Бывало так, что мне приходилось целый день сниматься у итальянцев, потом ехал к Филатову, оттуда утром на репетицию в театр, после репетиции – к итальянцам, ночью у Лени. Часто после такого напряжения наступает озлобление. Здесь этого не было. Я видел, как ко мне относятся, видел, как меня любят, меня хотят. Актеры как дети. Скажи, что ты самый лучший, самый замечательный, и актер горы свернет… А Леня это говорил».
Хотя Филатов категорически отказывался проводить какие-либо параллели между фильмом и реальной биографией Театра на Таганке, но все же, все же, все же… Там есть кое-какой «привет» Любимову из уст партийного негодяя, которого я сыграл, – раскрывал карты Леонид Алексеевич. – Мой герой изумляется актерам некоего театра, их отношению к оставшемуся за границей режиссеру: «Он же вас предал!.. Почему же вы обвиняете всех вокруг, а его берете под защиту?» Слова эти с экрана говорит негодяй, но сыграл-то его я…»
Его Сергей Сергеевич яростно орал на взбунтовавшихся артистов: «Дураки! Чтобы стать Христом, надо иметь идею! А у вас ее нет и не может быть! И не прикидывайтесь детьми! Вы – злобные, коварные, хитрые, подлые и тупые существа! Нет, вы не дети! Вы – сукины дети!» В страстном филатовском монологе эхом отозвалась грустная фраза гениального драматурга, стоявшего, кстати, у истоков «Таганки», Николая Эрдмана, произнесенная им давным-давно: «Актеры как дети – пять минут играют, а сорок пять – сутяжничают».
Однако в целом у Филатова получилась далеко не документальная, не исключительно внутрицеховая история. А вполне показательная, горькая житейская притча. И даже не столько о театре, по крайней мере, не только о нем. По мнению автора, это должна была быть сказка о том, какими хорошими людьми могут быть актеры. В финале фильма он вообще хотел красиво отправить их всей труппой на небеса обетованные. Но отказался. И правильно сделал – ведь, если подумать, что такого особенного сделали эти актеры, чтобы их за это взяли на небеса?..
Филатов скромничал: «Мне дали деньги – я побаловался. Это и кино назвать нельзя. Простенькая история…» Кокетничал, напрашивался на безудержные комплименты? Да нет. Потому что считал: «человек, благосклонно воспринимающий комплименты, козел по определению. Ему поют оды, а он молчит, размышляет, насколько справедливы слова. Козел!..»
Да и вообще, обычно был, как всегда, прямолинеен и самокритичен Леонид Алексеевич, это все – …ходьба налево: я мог снимать фильм, а мог и не снимать. У меня нет хобби, которое могло бы меня развлечь, но чем-то ведь заниматься надо… Поэтому я и царапаю бумагу… Вообще, нашей кинематографической бедности нахлебался досыта, говорил он о бюджете, выделенном на «баловство».
Современники считали, что первый и, к огромному сожалению, последний авторский фильм Филатова стал крупным событием в российской культурной жизни «смутного времени». Как признавали авторитетные кинокритики из когорты «шестидесятников», это было «отважное, наотмашь бьющее свидетельство того, что мы-таки живы и нас не так легко ввергнуть в привычное, десятилетиями насаждавшееся состояние испуга и летаргии». Филатов объяснился в любви к коллегам по собачьей профессии. И сказал при этом все, что он о них думает, без злости и без фиги в кармане.
И все же Леонид Алексеевич не удержался и, что называется, вывернул душу наизнанку: «Это фильм о том, что люди, каждый из нас, носят в себе человека… Есть минуты, есть верховные часы, когда человек обязан стать человеком, и в нас проявляется ощущение достоинства: «Я живу один раз, и что мне все на свете начальники, плевать я на них хотел. Я умру с легкими, полными воздуха, а не так, как они мне предлагают: сползти к безымянной могиле. Жизнь уникальна, она все-таки подарок божий, а не Советской власти или правящей партии. И подчиняюсь я только Господу Богу, а не им, с их идеями, доктринами, укладами и всем прочим».
Уж кому-кому, как не соратнику Филатова по таганскому актерскому цеху, тонкому литератору и режиссеру Вениамину Смехову было дано объективно оценить работу коллеги! «Ленечка замечательно, сердечно написал, – говорил он радиослушателям «Эха Москвы». – Он не писал славу одному режиссеру и бесславие другому, он писал о веществе актерского механизма, об актерах, которые одновременно святые и предатели. Люди чести и трансформации, и вместе с тем проститутки по роду деятельности, функционально… Пришел один режиссер, они поют ему славу, пришел другой, они зависят от него и так далее. Это мучительно, но это такая комбинация нашей профессии…»
Вечный оппонент Валерий Золотухин, разумеется, слова доброго не нашел: «Уж чересчур всерьез Ленька запузырил эту чепуху. Чувство юмора изменило ему, однако. И мало «виходки», мало остроумного. Надо было (даю совет) ориентироваться на комедию. Слишком серьезны Шацкая, Евстигнеев…»
И факт чисто формальный, но тем не менее приятный – фильм Филатова «Сукины дети» получил первую премию на фестивале «Кинотавр».
Его неизменно привлекали сюжеты неожиданные, люди нестандартные, выбивающиеся из унылого, серого ряда. «Неординарность, талант, я уж не говорю о гениальности, всегда считались некоей аномалией. И поэтому интерес к таким людям закономерен. Что такое святая норма? Жующий, пьющий, заботится о семье. Но нет у него задачи осчастливить мир. Так чего изучать? Он без неожиданностей… Отразить, отобразить – бросьте! – злился Филатов. – Можно отражать и общественные туалеты. Задача искусства не кого-то чему-то научить, открыть истину человечеству, но хотя бы смягчить нравы. И если не дал Бог таланта подняться до откровения – занимайся хотя бы этим».
Неутолимое желание вырваться из удушающих объятий обыденности в какой-то момент совпало с обостренным интересом к трагической судьбе незаурядного, самобытного киргизского актера и выдающегося спортсмена, чемпиона по карате, обладателя «черного пояса» Талгата Нигматулина. За отпущенные судьбой 36 лет он успел сняться в двух десятках фильмов, среди которых особняком стояли, разумется, легендарные «Пираты ХХ века».
А затем он попал в силки религиозной секты, и «гуру» жестоко наказал строптивого актера за непослушание своей воле. Бандиты забили Талгата до смерти. Все просто, как в кино. «Жизнь моя – кинематограф, черно-белое кино…» Сценарий Николая Попкова о Нигматулине «К вам пришел ангел», который был опубликован в одном из киноальманахов, Филатова не на шутку задел, и он стал всерьез задумываться над его постановкой. Но режиссеру вновь помешала болезнь.
Филатов отдавал себе отчет в том, что упущено время, когда можно всерьез прийти в режиссуру. Ведь быть режиссером – не значит сделать одну картину и случайно «попасть». Он всегда строго, с повышенной ответственностью подходил к себе и избранному делу: «Нужно превратить в систему, разработать некую эстетику, художественную идею. Но для этого нужна была бы другая жизнь. Так поздно в режиссуру не приходят: это труд, производство, два, три года на картину, на замысел, на его реализацию, огромное количество задействованных людей, своя «команда»…
Потом все же он рискнул, и последовала новая попытка продлить линию авторского кино. Филатов уже самостоятельно написал сценарий трагикомической фантазии «Свобода или смерть» о родимом болтуне-диссидентике, писателе Толике Парамонове, смывшемся подальше от «совка» на берега мутной, но как бы вольной Сены.
Фарсовым названием – «Свобода или смерть» – Филатов, словно тяжелым театральным занавесом, укрывал собственные, глубокие философские размышления: «Есть, конечно, внешние параметры свободы. Они изложены, скажем, в Декларации прав и свобод человека… Но само по себе это слово еще ничего не означает. Варлам Шаламов говорил: «Свободным можно быть и в тюрьме». Он имел в виду свободу внутреннюю. А она от внешних причин мало зависит…
Однако мы и сегодня все еще ведем себя, как дети. И понятие свободы воспринимаем на детском, инфантильном уровне. Разрешили – значит, можно. Руки развязаны – свободен. Мы опять снимаем пленку, верхний слой. До сути – далеко. Идет… игра в поколение… Все это уже у нас было. И не раз. Ниспровергали кумиров во имя воздвижения новых. Результат этого всегда плачевен. Сколько нас, «не помнящих родства»? Страна непохороненных людей…»
Если мы не любим какое-то время, то это совсем не означает, что его не было… Все куда запутаннее и сложнее. Но водораздел все-таки четкий – суть уже обнажена. И посему ничего нельзя забывать. Ни малодушия, ни предательства, ни подвига.
К мучительной теме о неблагодарной памяти человеческой Леонид Алексеевич будет потом возвращаться еще бесконечное количество раз. В повседневной жизни и в творчестве. Один на один с листом бумаги, перед телекамерой или в разговорах со своим светлым ангелом-хранителем по имени Нина. Она неизменно была и первым слушателем, и зрителем, и первым судьей…
– Климат бездарных людей сегодня, – был категоричен Филатов. – Все поменялось… Люди свободы шиши в кармане держали. Говорили: если бы дали развернуться. Ну, дали вам свободу, вытаскивайте, что у кого есть. Все ящики пустые. Ни у кого ничего нет…
Мы увидели только человеческий мусор, пену. Тех самых «творцов», которым талантливейший актер и режиссер Ролан Быков настойчиво и убедительно, как врач больным, советовал: «Хватит вам расчесывать комариные укусы, выдавая их за боевые раны».
Конечно, филатовская киноистория, носившая фривольный подзаголовок «Амурные похождения Толика Парамонова», была фарсовой, в определенной степени издевательской. «Всерьез Парамонова воспринимать нельзя. Запойный графоман, обольщенный на свой счет, который ничего не умеет. Оказывается, кроме лозунгов: «Я против КГБ, я против того-то…», он ни на что не годится, – без всякой жалости «раздевал» своего героя автор. – Нормальная вошь. Странно, конечно, что такого придурка смогла полюбить вполне разумная французская девушка Сильви. Но она эдакий резонер, который должен внести некую толику здравого смысла во все повествование. Чтобы сконструировать притчевую историю, были неизбежны некоторые натяжки…»
Прибыл Толик в славный город Париж и привез с собой прежний образ мыслей, очерчивал вчерне свой замысел Филатов, наши вкусы, наши амбиции, непримиримость, лень, позерство. В Париже ему говорят: «Знаем мы таких умников, языка учить не желают. Дескать, примите меня таким, каков я есть». Понимаете, он все свое увез с собой. Зачем тогда уезжал? Есть в сценарии такая фраза, звучит грубовато, но, скажем, литературно: «Робеспьеров до черта, а работать некому». К сожалению, этим заражена вся страна…
В «Свободу или смерть!», как ни странно, но поверили «богатенькие буратины»-спонсоры, отыскали необходимые деньги, и в 1993 году в осеннем Париже режиссер стремительно начал съемки. Он же всегда говорил: «Я живу быстро. Для меня самое большое мучение видеть, как впустую тратятся минуты».
Тебе бы отдохнуть, советовали друзья, подлечиться. Пустое, отвечал он. В Париж Филатов прилетел уже с нарушенной координацией движений. Французы за его спиной шушукались, интересовались у членов съемочной группы: «Этот ваш режиссер, он что, пьет?..» «Нет, – отвечали им, – просто он работает без пауз».
Но словно черная печать проклятия лежала на фильме. То съемочную группу ограбили на русском клабище, то в парижском аэропорту директор картины забыл негативы с отснятым материалом. То потом стремительно стал таять утвержденный на картину бюджет.
Чтобы сэкономить недостающие на картину средства, Филатов официально отказался от полагающегося гонорара. Полагавшегося ему и как автору сценария, и как режиссеру-постановщику, и как исполнителю главной роли. «Идиот… думал, что себе-то можно не платить», – делился своей «гениальной» находкой Леонид Алексеевич. Только слабаком оказался художник в безумном море бухгалтерии. Оказалось, все эти гонорарные деньги – тьфу, пустяк, ничтожная капля в море.
Суть проблемы (хотя какой там проблемы? – настоящей беды) – заключалась, к превеликому сожалению, вовсе не в дефиците денежных знаков.
По окончании изнурительнейших каждодневных рабочих смен Леонид Алексеевич на всех парах мчался в парижскую гостиницу, в номере падал в кресло, включал телевизор и без устали, куря сигарету за сигаретой, поглощая кофе в невероятных количествах, с полуночи и до утра, до рези в глазах смотрел бесконечные репортажи о начале того самого октябрьского ужаса – расстреле московского Белого дома. Досматривать финал полетел уже домой, в Москву.
Прилетел, глянул и – готово дело, инсульт. Случайное совпадение? Кто знает. Приказ «Пли!» по Белому дому был отдан как раз из Дома кино. Из самого гнезда интеллигенции! Оказалось, это такая серая «передовая часть», на самом деле очень трусливая, но думающая, что она очень интеллектуальна. Очень поверхностная, очень неглубокая, очень мало умеющая чувствовать. То самое «говно», говоря опять-таки ленинскими словами. Но обобщать, конечно, нельзя, как бы предупреждал Филатов. Там тоже есть разные люди. Но в основном мешпуха, пена, как тот же Толик Парамонов. То поддерживающая, то негодующая.
Вообще, касаясь этой тошнотворной и малоприятной темы, Филатов обычно не сдерживал свой темперамент: «Интеллигенция и вшивота всякая все строит под себя, все заходится: свобода, свобода… Народу не нужна никакая свобода. Ему работа нужна, чтоб не помереть с голоду. Это в Доме кино приятно потрендеть о свободе, чтоб себя «прогреть», чтоб вызвать волну. Наши «вольнодумцы» и смутьяны вдруг поняли, что никому не нужны. Ни власти, ни людям… Проходит время не только дураков, но и мыльных пузырей… Постепенно проходит страх. И не надо в каждом частном случае – что-то прикрыли, кого-то сняли – видеть грозное знамение, что мы немедленно всей страной отправимся на Соловки. Говорить о свободе в нашей стране, когда каждое говно подает голос, и делать при этом благостное выражение лица – мол, пусть все цветы цветут своим цветом, – тоже, наверное, не совсем правильно…»
«Впрочем, я-то худо-бедно из него (инсульта) выкарабкался, – как бы винился за свое и наше с вами прошлое Леонид Алексеевич, и безжалостно добавлял: – А вот страна до сих пор в коме…»
(Только хоронили Филатова… все-таки из столичного Дома кино).
«Что хочешь со мной делай, но не было тогда необходимости расстреливать парламент из танков. Дело не только в том, что там были жертвы! Дело в том, что это был расстрел посреди Москвы, сознательный, демонстративный. После этого стало можно все – в том числе и Чечня; государство не укрепило себя этим – оно себя уронило. Поддерживать его стало этически невозможно…»
«Неужели мы не видели, – искренне поражался вселенской слепоте Леонид Алексеевич, – что к власти пришли те же самые ребята, только не успевшие навороваться!»
В общем, фильм о свободе и смерти так и остался незавершенным. Свобода, по всей вероятности, на радостях подгуляла, заплутала и встретила у входа кого-то другого… Ну, а смерть все перевесила, просто взяла да и поставила черную точку в короткой жизни большого художника.
* * *
Он всегда считал свою Нину подарком судьбы. А она, в свою очередь, в долгу не оставалась, признаваясь: «Я до сих пор благодарю Бога, что он подарил мне Леню».
Александр Наумович Митта рассказывал, как неожиданно открыл для себя роман Филатова и Шацкой. «Однажды после работы мы решили собраться. В чисто мужской компании. И тут, немного смущаясь, Леня говорит: «Ребята, должен перед вами извиниться. Я позвал с собой даму сердца. Только вы не удивляйтесь, если я поведу себя как-то странно». Надо сказать, что Филатову не везло с женщинами – все время попадал в какие-то неудачные истории. Я не знал, кто придет, но дверь открылась, и вошла Нина Шацкая – ослепительная красавица. Ну, думаю, опять Леня влип. Она ведь была женой Валерия Золотухина. Филатов встал перед Ниной на колени и поцеловал ей руку. Леня вообще ухаживал за дамами довольно старомодно. Для него это было так органично – поцеловать женщине руку. На следующий день он признался: «Я такой счастливый. Все мои чувства сконцентрировались на Нине»… Всякий раз, когда потом встречались, он меня предупреждал: «Я приду к тебе с подарком». И приезжал с Ниной. Леня считал, что общество с этой женщиной – подарок для всех…»
Филатов был глубоко убежден: «Женщина сама по себе совершенное создание, дар природы, укор второй половине человечества. Ей можно простить все. Требовать от нее дополнительных талантов бессмысленно и глупо. Она уже Женщина». Он говорил, что, кроме общеизвестных параметров, как то: красавица, не полная дура – для меня еще в женщине важно, умеет ли она быть товарищем. И тихо добавлял: «Особенно когда тебе худо. Может, это у меня чисто наши, советские, иждивенческие настроения – но для меня это актуально…»
Леонид Алексеевич не скрывал: «Вообще-то нам с Ниной можно позавидовать – мы друг друга любим. А за что? Если муж может точно объяснить, за что любит жену, значит, он ее не любит. О Нине я могу говорить бесконечно, все будет правдой, но все неточно. Ну скажу я: за смех, за взгляд, за понимание… Нет, это невозможно выразить словами…»
Нина не была с этим согласна и в дни разлук писала Леониду нежнейшие письма: «Любимый мой! Не дышится без тебя. Не удаляйся ни на секунду, а то каждую секунду страшно. Не разлюбливай меня, заклинаю! Люби, пока любится…»
Один из близких друзей, прекрасно знавших историю любви Нины и Леонида, как-то пошутил, что у них одна кровеносная система на двоих. Она говорила о своем муже: «Он необыкновенный. Один такой». А он в ответ с шутливым одобрением кивал: «Жена-а… Ну хочет иметь такую легенду».
Даже свой последний, так и не оконченный киносценарий «Бесаме», который сочинял Филатов, был именно о любви. О любви сумасшедшей, какой не бывает. А рабочее название было и вовсе предельно откровенным – «Последний свихнувшийся на почве любви»…
* * *
Но ведь была еще и проза жизни.
«Основные заботы ложатся на мою бедную жену, – не скрывал Филатов, – она и хозяйка дома, и диспетчер, отвечающий в день на двести звонков, и администратор, который всегда знает, где и в какое время я должен находиться. Но, помимо всего, она еще и актриса. Так что ей очень трудно…»
«Дома по хозяйству я ничего не делаю, – сокрушенно каялся он. – Даже если бы выздоровел, я симулировал бы болезнь, чтобы ничего не делать. В жизни ничего дома не делал! Даже мусор не вынес ни разу…»
А «бедная жена» не отступала от избранных собой нерушимых принципов «домостроительства»: «В жене главное, чтоб она была замечательной любовницей, замечательной хозяйкой и талантливым другом… Дом. Дом. Дом. Это моя крепость, где я отдыхаю, где мне хорошо, даже если плохо там, за стенами. Я прихожу домой, все дурное оставляю за порогом, а здесь Кисанька (кошка Анфиса) и Лёсенька…»
Гордилась тем, что ему, жуткому привереде в еде, нравится все, что она готовила, особенно ее борщи. Еще знала, что ее Лёсенька обожает китайскую кухню, но и то, что после всех операций ему ни в коем случае нельзя было перченого, слишком острого, что ему всегда нужны были бананы, и по утрам – непременно – кашу в постель. Однако раз в месяц все-таки позволяла ему отвести душу.
Нина Сергеевна утверждала, что в жизни Филатов был наищедрейшим принцем на белом коне, волшебником из сказки: «Леня привозил мне из-за границы тряпки чемоданами. Боже ты мой, чего только не привозил! И играл в это. Достанет одно, другое, вроде все, а потом говорит: да, еще забыл! И таких «еще» опять семь штук. Я плакала…»
Однажды, 16 марта, в день рождения жены, Леонид спешно улетел на съемки, а Нина должна была возвращаться с гастролей. Он купил ей в подарок шторы (о которых она так давно мечтала), а пол устлал розами удивительной красоты. Их было ровно столько, сколько ей в тот день исполнялось лет. В складки штор задрапировал всякие милые безделушки. На столе лежала Лёнина нежная и трогательная записка. Нина читала-перечитывала ее и плакала.
«Я не старался ее чем-то поразить, – говорил Леонид, – я хотел сделать ей приятное, и нет в этом ничего сверхъестественного. А вот Нина меня поражала абсолютно всем. Самим своим появлением поразила…»
«Остепенившись», то есть став в конце концов законными мужем и женой, они долго друг к другу «притирались». Как считала Нина, «это неудивительно, ведь мы с Леней люди из совершенно разных семей, по-разному воспитанные…»
Он с этим соглашался: «Моя семья была нищая, у меня и до сих пор на излишества охоты нет: не приучен по своей провинциальной жизни. Я сам с Поволжья, из Казани. Родители все время переезжали, я и родился-то транзитом, на корабле. Чуть переждали, пока стал транспортабелен, и опять: Пенза, родной Ашхабад… Отец был радистом, все время на ключе, классным специалистом, мастером спорта по охоте на лис, – изредка погружался Леонид в свои детские воспоминания, – все время в экспедициях, и мы кочевали то в казахстанских степях, то в горах Киргизии…»
Семью Филатовых изначально преследовали странные совпадения. Первое: родители были… однофамильцами. Во время войны девушкам, работавшим на заводе, выдали списки фамилий бойцов, номера частей и велели: «Пишите письма». Клава Филатова, недолго думая, выбрала в долгом перечне родную фамилию и написала письмецо неизвестному солдатику Леше Филатову. Он ответил «заочнице». После войны демобилизованный Алексей приехал в Пензу, отыскал свою ненаглядную избранницу. «Надо сказать, – добродушно посмеивался над своим батюшкой Леонид Алексеевич, – он ловелас был еще тот, и в Пензе у него оказалось еще с десяток девушек, которые с ним переписывались». Может быть, «ловелас» таким образом рассчитывался за свою не слишком ладно сложившуюся жизнь, за все тяжкие испытания, которые выпали на его долю, – войну, два лагерных срока?
Но я, открещивался Леонид Филатов, совсем не такой, как он… Я, конечно, не без глаз и не без ушей – отмечаю женщин, проходящих по жизни. Но нельзя сказать, что у меня щенячье желание уцепиться за подол и говорить: «остановись, посмотри на меня…»
Хотя и не отрицал: «В трудные минуты мне помогали только женщины, особенно в юности. Именно они меня всегда и вытаскивали из сложных ситуаций. К ним можно было приползти в последнюю секунду. Они чуткие, более сентиментальные и человечнее, чем мужики. Причем эти женщины необязательно были любимыми, а просто подругами или даже случайными знакомыми».
Филатов был убежден, что он был так неудобно рожден – в конце года, ни то ни се. В первый класс сразу не взяли, сказали: какой-то он слабенький, чахлый, не потянет, давайте годик подождем. Леня помнил себя маленьким, с четырех лет. Тогда жива была еще прабабушка Ксения Климентьевна, мамина бабушка. Удивительным она была человеком – все ходили к ней лечить душу: она знала какие-то особенные слова и всегда помогала людям превозмочь напасти, отвести беду.
Еремеич (так звала Филатова-старшего вся округа – от мала до велика) был мужиком невероятно веселым, жизнелюбом, обожавшим застолья, в общем, без комплексов. Когда навещал знаменитого сына в столице, разгуливал по улицам попросту – по старой ашхабадской привычке – в одной майке, в босоножках на босу ногу. Со спины нипочем было не сказать, что старик: сплошные бугры мышц.
Писаным красавцем не был. «Маленького роста, с большой головой, шевелюрой, – описывал отца Леонид. – Рано поседел и красился басмой, но так как никогда не мог соблюсти пропорции, цвет волос получался волнами – от огненно-рыжего до иссиня-черного. А мама была красавицей. Много работала, постоянно подрабатывала, заочно закончила Московский экономический институт…»
Еще о странных стечениях обстоятельств в семье Филатовых. У Леонида был старший сводный брат от первого отцовского брака, которого тоже звали Леня. «Почему он и меня назвал Леней – неизвестно. До сих пор не пойму, что им руководило. Так отцу, наверное, нравилось…» Брат был малый добрый и веселый, все время что-то сочинял про себя: то он заместитель министра, то еще кто-то. Так что выносить его долго было невозможно.
Когда Леонид Филатов, которого мы все знаем, получил письмо, где крупными буквами было написано: «Скончался Леонид Алексеевич Филатов…» то испытал просто мистический, панический ужас. Это была как повестка-извещение о своей собственной смерти…
Родители развелись, когда Лене было около семи. Мама, взяв сына в охапку, укатила тогда из родной Казани к дальней-дальней родне в Ашхабад. «Когда уехали, я был ниже собственного колена», – рассказывал будущий поэт. Хотя родни на месте и не оказалось, все равно решили: остаемся. Отец их потом каким-то образом вычислил, приехал, весь благоухающий одеколоном, уговаривал сойтись вновь, вернуться в Пензу. «Но тут заартачился я, – признавался Леонид. – Мне в Ашхабаде нравилось. У меня было много друзей, мне не хотелось это все бросать…»
И настоял ведь на своем. Остался. Учился в школе, писал стихи. Дрался, cмолил дрянные папироски, допускал прочие шалости и проказы. Граница с Ираном была более чем прозрачной, одна из центральных улиц Ахшабада и вовсе была прямой дорогой в Персию. На рынке совершенно спокойно можно было купить легкую «наркоту» – анашу, гашиш. Особой борьбы с этим в то время не было, курили и мальчишки, и взрослые. Наш герой тоже пробовал парочку раз, но не понравилось, мама об этом даже не догадывалась.
Ну, а дальше-то как жить? «Не очень знал, чего хочу, – признавался Филатов. – Никак не учился по точным наукам, и педагоги меня «тащили», понимая, что этим я заниматься дальше не буду».
Так, получив аттестат в зубы и отгуляв-отплясав свое на выпускном балу, Леонид отправился в далекую и загадочную Москву, еще не догадываясь, что ему, бедолаге, придется ее натужно покорять…
Повзрослев, Филатов, естественно, спокойнее стал оценивать себя, свои возможности: «Жизнь устроена разумно: кому – что. У каждого есть свой выбор… Был он, наверное, и у меня… Однако сложилось так, как сложилось… В молодости совершаешь поступки, которые не совершить не в силах, просто потому что не можешь иначе».
Он был благодарен своим родителям: «Мы воспитаны людьми войны. Какую-то долю истины, святости, стойкости у них почерпнуть успели или, по крайней мере, успели к этому прикоснуться. Война в жизни наших родителей была тем, что вызывало уважение, почитание. Мы были внутренне ориентированы на военные годы, тут была глубинная связь… То, что проповедовали наши родители в свой час, подвергалось страшной проверке и испытание выдержало. То, что пытаемся проповедовать вслед за ними мы, терпит фиаско ежедневно и ежечасно в наших собственных поступках-непоступках, в нашем собственном: поеду за границу – не поеду за границу, получу премию – не получу премию. У того поколения был счет другой: убьют – не убьют. Вот вам и девальвация ценностей. Честь, Совесть, Порядочность, Верность – сегодня смысловое наполнение этих категорий иное…»
Филатов постоянно мучился вопросом: почему человеку бывает неинтересно, откуда он родом. «Вот руки, ноги, морда такая именно, а не другая. От кого? Почему? – недоумевал он. И задавал себе и нам с вами жесткие вопросы. – Характер даже твой, он чей – деда, прадеда, солдата или генерала какого-нибудь, сражавшегося под Бородино? Если ты человек, не знающий, не помнящий своего родства, какое будущее можешь ты построить? Пес ты беспородный – и все. И дело вовсе тут не в том, из дворян ты или из крестьян. Ты даже этого не знаешь. Ты – ниоткуда».
Хотя, конечно, установить свою родословную, особенно если она не «голубых» кровей, у нас весьма затруднительно. Моя бедная мать, рассказывал Леонид Алексеевич, много лет пыталась выяснить судьбу своего отца, революционного матроса, которого когда-то похоронили в центре Алатыря как героя. На месте срытой могилы там давно уже стадион. Совсем другая жизнь на могилах.
– Всегда есть высота, которая не дает забыться, заставляет помнить, что надо сделать, что еще не сделал! – разрывался на части Филатов. – Бежим наперегонки с людьми, с которыми тебе и стыдно и не нужно соревноваться. Не то, не мое, не удовлетворяет… а на другую дорожку не сойти, и не то что сил нет, а зависим…
Все куда-то я бегу, —
На душе темно и тошно,
У кого-то я в долгу,
У кого – не помню точно.
* * *
В отношениях Нины и Леонида неизменно и закономерно присутствовал Денис, сын Шацкой от Золотухина. Когда мама сказала: «Денис, я, наверное, скоро выйду замуж». – «За кого?» – «За дядю Леню Филатова», он закричал: «Ура!» «Я был в восторге, – уверял Денис. – Потому что мы давным-давно относились друг к другу с большой симпатией».
Дети вообще к нему неравнодушны, вспоминала Нина. Однажды, когда мы с Леней только «притирались» друг к другу, он сильно вспылил и ушел. Тогда сын, еще совсем маленький и, несмотря на то что было уже темно, собрался его искать и защищать.
Для Дениса отчим сразу стал отцом. «Слово «отчим» мне в принципе не нравится, – объяснял он, – и Лене тоже. Но он и вел себя как отец. Он появился как раз в тот момент, когда мне очень необходимо было ежедневно на кого-то опираться. Я ж по жизни-то пентюхом был. А он – парень из Ашхабада – научил меня, как себя вести, научил не бояться человеку врезать по морде. Пардон, по лицу… А вдруг покалечу? Это не страх перед тюрьмой, а внутренние угрызения. Леня мне говорил: ничего, по морде бей. Морда – такая штука: сначала опухнет, а потом пройдет…»
К вопросам воспитания детей Леонид Алексеевич подходил основательно, можно сказать – системно. Главный постулат – не лгать. «Не на уровне произносимых всуе слов (поговорить мы умеем все), но в поступке, в конкретном мышечном усилии. Скажем, если сегодня трое били одного, а ты струсил и это видел твой сын, потом ты можешь месяц изощряться в воспитательных экзерсисах – все будет мимо. Наши дети – такие, какие они есть, – не результат нашего воспитания, а результат нашего вранья… Не лги. Не участвуй в общем хоре, если знаешь, что хор фальшивит. А если взялся «подтягивать» – хоть лица благородного не делай. Не ищи рикошетных решений – в искусстве. Соответствуй себе самому, тому, что исповедуешь, прежде всего в человеческой, а не только в творческой своей биографии».
«Он мне посвящал много времени, – рассказывал Денис. – Мы подолгу разговаривали. Он даже, бывало, гостей своих оставлял в комнате и приходил ко мне. О чем мы только не говорили!.. Я на 100 процентов находился под его влиянием. У него не было своих детей – только я. Так что на мне он реализовывал свои нерастраченные отцовские чувства… Но это не главная причина его теплого ко мне отношения… Дело в том, что Леня любил маму, причем беззаветно, – и часть его любви перешла на меня, как на плод любимой женщины».







