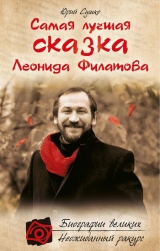
Текст книги "Самая лучшая сказка Леонида Филатова"
Автор книги: Юрий Сушко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
А как изящно писал о спектакле и о Маргарите, в частности, известный театральный критик Александр Гершкович! «Она принимает гостей, отважно восседая у самой кромки сцены на деревянной плахе меж двух живописно вонзенных топоров…
Известно, что в советском театре к стриптизу относятся отрицательно, как к продукту упаднической культуры. Театр на Таганке позволил себе усомниться в этой заповеди социалистической морали. Демонстративно долго театр показывает советскую женщину обнаженной, правда, со спины. Как ни странно, ничего страшного не происходит, государство от этого не рушится, никто в обморок не падает… Правит бал Красота. Она, а не «классовое сознание» и не потусторонние силы выходят победителем из поединка зла и добра… И тогда в театре происходит последнее и главное чудо. После первого ослепления женской красотой, когда глаз чуть-чуть привыкает, начинает воспринимать это зрелище с чисто эстетической стороны как произведение искусства, подобное тому, как смотришь в музее на торс Венеры…»
Только газета «Правда» лихо окрестила любимовское театральное действо «Сеансом черной магии на Таганке». И то, слава Богу, что правдисты хоть так заметили. Горше было бы полное умолчание.
Шацкую совершенно не страшили актерские поверья, согласно которым, соприкасаясь с Булгаковым, накликаешь на свою голову всяческие беды. Хотя однажды несчастья Нине едва-едва удалось избежать. Одной из самых острых в спектакле была сцена с отчаянной Маргаритой, летающей на огромном маятнике. Его сначала раскачивали от портала до портала за привязанный снизу канат, а потом отпускали в вольный полет. И вдруг на одном спектакле каким-то совершенно непонятным образом трос за что-то зацепился, и маятник застыл наверху. От неожиданности актриса рухнула с огромной высоты, на какие-то секунды потеряла сознание, но тут же встала и доиграла сцену до конца. Это было счастье, что ей удалось так быстро прийти в себя: если бы маятник пошел в обратную сторону, он бы ее просто надвое распорол…
«Когда я летала над сценой, – рассказывала Нина, – то чувствовала, что имею власть над каждым сидящим в зале и даже за его пределами. И уже не понимала, где Маргарита, а где актриса Нина Шацкая… Я была так счастлива выходить на сцену и быть, жить жизнью Маргариты. Потрясающее время. Кончался спектакль, приходила домой и еще два-три часа не могла заснуть. Так у многих актеров бывает, потому что продолжаешь проживать то, что только что пережил на сцене».
Это действительно было удивительное, идеальное совпадение, слитый воедино, неразрывный монолит – актрисы и ее героини. Маргарита взлетала на маятнике часов, как бы предчувствуя свое скорое превращение в ведьму, очаровательно гримасничала, и вдруг, обретая дерзкую смелость, бросала в полете в зал: «Как вы все мне надоели! Если бы вы только знали!»
Недостойными красоты были те, кто остался где-то там, внизу, в суете, в погоне за благами, сверкая жадными глазами и сладострастно облизывая губы.
Первый замминистра МВД (но главным у него был, конечно, иной чин и иные звезды на погонах – зять Брежнева), посмотрев спектакль, дотошно допытывался у Любимова: «Кто же это разрешил?» На что Юрий Петрович наивно испрашивал: «А что вас смущает: голая дама спиной сидит?» – «Нет, ну почему же!» Галина Леонидовна Брежнева тоже подпрягалась, пытаясь подсобить неуклюжему мужу, «вставить свои пять копеек»: «Ну и это тоже, зачем, ни к чему это так уж…» Битый сановниками не такого даже ранга, Любимов послушно склонял перед милицейским генералом свою седую голову: «Да, может, вы и правы, потому что многие чиновники, когда принимали, они все спрашивали: «А что, спереди она тоже открыта?» – я им предлагал зайти посмотреть с той стороны…»
Нина никогда не показывала вида, но мужа и партнера по сцене безумно злила ее невостребованность. Он считал настоящей трагедией то, «что ей никогда не удавалось нормально отрепетировать спектакль: на все лучшие роли ее вводили в последний момент, приходилось осваивать текст за неделю…»
Примерно так же, как она волей случая появилась в «Мастере», прошло и ее неожиданное назначение на роль Дуни в спектакле по Достоевскому «Преступление и наказание». Нина Сергеевна не скрывала, что «очень хотела, чтобы Юрий Петрович работал со мной, разбирал роль, как полагается. Но никогда так не получалось… Назначался первый состав. Второй. Начинались читки. Все читают, я – нет… Любимов уже полгода репетировал с другой актрисой. Как-то случайно мы встретились в дирекции. Он вдруг спрашивает: «Нина, а почему вы не репетируете?» Я говорю: «Юрий Петрович, я же застольный период не проходила, а через две недели сдача». – «А вы можете прямо сейчас выйти на сцену?» Я уже перестала ходить на репетиции, смотреть. Говорю: «Могу сейчас посмотреть из зала, какие там мизансцены». А уже на следующий день мы показали с Володей Высоцким сцену – Свидригайлов и Дуня. Любимову понравилось, и я сыграла премьеру…»
Какую сцену показывали тогда Шацкая и Высоцкий? Низкий поклон журналисту Григорию Цитриняку, который со стенографической точностью зафиксировал эту репетицию, а потом все опубликовал в статье «И Свидригайлов, и Раскольников».
Итак, Дунечка приходит к Свидригайлову, который пытается ее изнасиловать. Любимов дает установку:
– Володя, расстегни ей платье – должно быть открыто полгруди… Так… Спокойно переходи в линию бедра… Спокойно обнимай ей ноги… Вот-вот… И задирай ей юбку. Лезь под юбку…
Высоцкий никак не может расстегнуть платье, и Шацкая, хотя она по мизансцене находится в глубоком обмороке, начинает помогать расстегивать платье (в зале хохот).
– Подождите. Тут нужно технику отработать. (Идет на сцену.) Володя, смотри, как надо…
Голос:
– Ну, вдвоем-то вы справитесь! (В зале хохот.)
– Опомнившись, Дуня должна ногами сильно оттолкнуть Свидригайлова, но это требует известной техники, чтобы не ушибить актера. (Вернулся в зал.) Важно, Володя, чтобы потом был большой проход. Надо отлететь к стулу, а потом самому перейти к коричневой двери. И уже оттуда ползти к ней – на весь монолог. Нина, застегивай, застегивай платье, грудь убирай. Поджимай ноги под себя и толкай.
Шацкая поджимает ноги под себя и толкнула. Высоцкий отлетел не к стулу, а сразу к двери.
В. Высоцкий (потирая ушибленные места):
– Она меня так шарахнула…
– Володя, распределись. Когда она тебя оттолкнула, ты лежишь в жалком состоянии. Поднялся, отошел от двери, пошел к ней, а от стула встанешь на колени и там метр проползешь на коленях: тебе надо искупить животное твое безобразие… Ну, еще раз: расстегни ей платье, обнимай ноги… И с азартом лезь под юбку.
Высоцкий расстегнул лежащей «в обмороке» Шацкой платье, обнял ноги и с азартом полез под юбку…» Конец цитаты.
Все получилось! И сцена, и весь спектакль. И Свидригайлов, и Дуня.
Потом Нина буквально выпросила для себя у Любимова роль Марины Мнишек в «Борисе Годунове». «На нее пробовалась вся женская половина театра и даже со стороны приходили актрисы. Я показалась один раз, меня оставили, – не скрывала своей законной гордости Нина. И тут же следовал обязательный протокольный реверанс в сторону «шефа». – У Любимова есть одна замечательная черта: даже когда актер ему по-человечески не нравится, но при этом он лучше всех справляется с ролью, он будет играть».
На репетициях Юрий Петрович требовал от исполнительницы роли Мнишек: «Марина должна быть овеществленным высказыванием Пушкина: «Змея!» И играть эту стерву… Марина холодная женщина, фригидная. Ей надо точно договориться с Лжедимитрием и доложить отцу и всем участникам заговора, что и как… Ей мешает страсть Димитрия, чтоб по делу поговорить… Марина Самозванцем, как щенком, играет. И в этом есть польское высокомерие, полный холодный расчет. Это как фиктивные браки сейчас заключают… Надо, чтоб чувствовалось у нее: «С какой мразью, сволочью я себя связала. А уж ничего не поделаешь. Уже замуж вышла, прописала»… Он же – шпана. И она тоже – оторва… Тут надо научиться лаяться, как польки… Тут у них о чем разговор? Он: «С любимым рай в шалаше». А она: «Какой шалаш? Мне вилла нужна! И вся Московская область. Огородим забором всю область, и будет наша дача». Это ж не любовные забавы для Марины…»
Маргарита, Марина Мнишек были звездными ролями Шацкой. Но, конечно, и кроме них у Нины случались удачи, пусть не такие громкие, но все же. Например, отчаянная Женька Комелькова в спектакле «А зори здесь тихие…» или царственно красивая Наталия Николаевна Гончарова в пушкинском «Товарищ, верь».
Однако, положа руку на сердце, признаем: чаще Шацкой доставались-таки безымянные героини второго плана – певичка в ресторане («Час пик»), дама в «Жизни Галилея», молодая проститутка в «Добром человеке из Сезуана»…
«Я просто от природы невезучая, – объясняла Нина Сергеевна – … Меня Бог не наградил одним качеством, которым должны обладать все артисты, – честолюбием… Я – человек очень ленивый, и могу добиться только того, чего очень захочу…»
* * *
Первые годы на Таганке и самому Филатову особой радости не доставляли – стоящих работ было маловато, раз-два и обчелся. Поначалу молодому актеру доверяли главным образом эпизодические роли. То Янека Боженецкого в «Часе пик», то помощника Галилея Федерцони, то Егора Ивановича («Мать» по Горькому), то Мотовилова («Пристегните ремни!»). Но все-таки он верил: «ковер покажет», и упрямо ждал, чувствуя, что способен на большее.
Никому не жаловался на не слишком ладно складывающуюся карьеру. И другим не позволял. Сокурсница Таня Сидоренко, тоже попавшая на Таганку, вспоминала, что тех, кто начинал скулить, Филатов обычно обрывал резким тоном: «В первую очередь в этом виноват ты сам. Либо добивайся чего-то, либо уходи из профессии». Но если вдруг с этим человеком случалось несчастье – всегда вставал на его сторону. Понимая, что сильнее, что талантливее…
«Большой работы не было, оставалась масса незаполненного времени, – вспоминал он, – и я продолжал писать по-прежнему. Видимо, я заполнял этим какой-то вакуум, пытался компенсировать какую-то актерскую зависимость чем-то своим, своевольным. Мне было интересно, но я мог бы без этого обойтись, чего не могут про себя сказать многие пишущие люди…»
Он прекрасно понимал, что на Таганке его ждет бесславие. Проработав на подхвате года полтора, собрался бежать. Тут-то, в часы сомнений и раздумий, подметило перспективного актера зоркое и плотоядное око другого великого мастера – Аркадия Исааковича Райкина. Плюс еще сын Костя, который тоже учился в «Щуке», подлил масла в огонь, все уши прожужжал отцу, что классный актер Филатов, пропадающий на вторых ролях у Любимова, пишет, ко всему прочему, очень интересные тексты – и поэтические, и драматические. Словом, у него есть все то, что тебе нужно. Бери с потрохами!
Будучи в Москве, мастер через сына передал великодушное приглашение Леониду заглянуть вечерком в гости. Трепещущий Филатов оделся в лучшее, пришел. У Райкина за столом сидели его старинные приятели – Леонид Лиходеев, Лев Кассиль, корифеи отечественной словесности. «Меня усадили, дали чего-то выпить, – вспоминал Филатов. – Я рта раскрыть не могу. Мальчишка из Ашхабада – а напротив три классика. Райкин милостиво улыбался, потом взял меня за руку и повел в кабинет…»
Стали беседовать. Цепко держа своего юного гостя почему-то за пульс, Аркадий Исаакович предложил ему перейти в свой театр. Обещал квартиру, освобождение от воинской повинности, скорые зарубежные гастроли – в Англию, Германию, Японию, весной в Польшу. «Будешь и играть, и писать, и делать, что хочешь», – как хитрый змей, как коварный Мефистофель, искушал Райкин. Однако Филатов все же набрался наглости и, пока его не оставили окончательно силы, пролепетал: «Я должен подумать, взять тайм-аут». «Возьмите, – как-то разочарованно произнес Аркадий Райкин. – Два дня, но больше думать нельзя».
Но «хорошенько поразмыслив, я понял: двух солнц не бывает. Райкин был чистопородным гением. Он на сцене – рядом никого нет, все остальные на подхвате. У него работали прелестные артисты, но… гений есть гений…» – через два дня сделал безутешительный для себя вывод Филатов. А тут еще подлил масла в огонь однокурсник по «Щуке» Иван Дыховичный, который в то время как раз подвизался в подмастерьях у Райкина. Выслушав лихорадочный рассказ Филатова о фантастическом предложении Райкина стать заведующим литературной частью театра миниатюр, сказал как отрезал: «Ни в коем случае, я сам мажу лыжи… Ты знаешь, кто от него уходит?!. Миша Жванецкий, Рома Карцев и Витя Ильченко. Ты хочешь заменить всех троих?..»
Слава те Господи, хоть не самому Райкину в глаза пришлось отказывать. «К счастью, – крестился Филатов, – в театр позвонила его жена. Я, мямля, стал говорить, что на Таганке много работы, что я привык к Москве. Она засмеялась: «Вы так же привыкнете и к Ленинграду… Ладно, оставайтесь. Но я вас хочу предостеречь – бросайте курить. На вас же невозможно смотреть!»
Курить он, разумеется, не бросил. Но в своем театре навсегда остался, не стал искушать судьбу. А на Таганке, словно по мановению волшебной палочки, посыпались работы, одна за другой. И какие – ведущие! Автор в «Что делать?» по Чернышевскому, Пушкин (в ипостаси философа, историка, мыслителя, артиста) в «Товарищ, верь!», Сотников в «Перекрестке» (инсценировке по повестям Василя Быкова), Горацио в «Гамлете». Словом, роли обрушились, как из прохудившегося рога изобилия…
Настало время, когда Филатов даже стал увиливать от каких-то незначительных ролей, сбегая на киносъемки. «Однажды Юрий Петрович все-таки поймал меня за хвост, – сожалел актер, – и настоял, чтобы я играл крохотную рольку в спектакле «Дом на набережной». Пришлось подчиниться…»
Потом Любимов увидел в нем булгаковского Мастера. «Играть ведь его невозможно, – поначалу маялся Филатов, – это же облако духовности. Почему на сцену должен выходить актер с моими усами, носом и скулами и говорить: «Я – Мастер»? Нескромно и неловко. Вот если бы эту роль сыграл сам Юрий Петрович… А он считал, что я просто ленюсь…» Любимов же позже высказывал свою версию: «Я хотел, чтоб Филатов играл Мастера, а он как-то выжидал, потому что он считал, что это все равно не пойдет. Была какая-то внутренняя оппозиция у некоторых актеров, что это блажь и что это никто не разрешит… И некоторые актеры выжидали: принять участие или подождать, посмотреть…»
Сперва роль Мастера, молодого, мягкого и интеллигентного человека, растерявшегося под натиском грубого мира, исполнял в первых спектаклях хороший актер Дальвин Щербаков. Филатов же привнес в этот образ иную, свою индивидуальность. Его Мастер был смирившимся, безропотно принявшим свою судьбу человеком, прекрасно знавшим цену короткому земному счастью. Он воистину заслуживал покоя, который дарует и разделит с ним неистовая Маргарита. «Тот, кто любит, должен разделять судьбу того, кого любит…» – завещал Булгаков. Зрители, критики, коллеги, все без исключения отмечали, что Филатов был акварельно прозрачен в красках в новой для него страдательной позиции, тонкий, мягкий, с тревожной нотой принятия своей необратимой и роковой доли.
Герой Филатова был поэтом. По градусу, по страстному желанию говорить правду. Поэт всегда причастен к Вечности. В финале они покидали нас, осиротевших зрителей, Мастер и его Маргарита, уходя в глубину сцены, крепко держа друг друга за руки – в распростертое перед ними и нами небо, прямо к сияющим звездам, которые всегда были и всегда будут…
(Забегу чуть-чуть вперед. В самом начале нового, ХХI века группа таганских актеров (в числе которых был и Филатов) рискнула прикоснуться к «рукописям, которые не горят». Их усилиями была создана практически полная аудиоверсия бессмертного романа Михаила Булгакова – 17 часов звучания «Мастера и Маргариты»! Как сказал классик: чтобы в России при жизни стать знаменитым, надо прожить очень долго, а чтобы быть понятым, добавим, нужно жить вечно. Это удается немногим.)
Конечно, Филатов был страшно раздосадован, когда у него сорвалась роль Раскольникова в «Преступлении и наказании». Он просто не смог репетировать из-за неотложной операции на голосовых связках. «А потом показалось неловко расталкивать всех локтями, не такой я человек…» – говорил он.
От Самозванца в «Борисе Годунове» сам отказался – в самом разгаре были сказочно-заманчивые съемки «Избранных» Соловьева в далекой Колумбии. «К тому же понял, что с моим слухом роль… не спеть».
Потом, несколько позже, неожиданно прозвенел очередной тревожный звоночек. И опять-таки от медиков. На репетиции чеховской «Чайки» Филатов, выходя из лодки, смог едва переставить ногу через борт… руками. Режиссер Сергей Соловьев, увлекшийся театром, простодушно изумился: «Леня, это перебор! Тригорин не такой уж старый – сорок четыре всего». «Да при чем здесь Тригорин! – разозлился актер. – У меня самого нога не вылезает… Затекает, не пойму, что такое…» И все равно еще как минимум полгода продолжал играть в «Чайке».
Конечно, в голову время от времени лезли самые нехорошие мысли. Разномастные болячки его буквально преследовали по пятам: то язва, то вдруг проблемы с горлом, то еще какая-то зловредная ерунда привяжется. Филатов благодарил Бога и Высоцкого, который в свое время буквально вытащил его из липких, противных объятий страшной болезни – лимфоденита: «Он меня уложил в… больницу, к своим врачам и сам весь процесс курировал, и приезжал, и спрашивал: «Как?» А Филатов лежал расколотый совершенно, в мнимом параличе. Позже выяснилось, что это не паралич, но страшно было очень…
«Я сознавал, что нужно заняться своим здоровьем, – говорил Леонид, – но времени у меня на это никогда не было». Не-ког-да! – все чаще и чаще отмахивался оn приставаний друзей и врачей. Однако начал замечать, что стал легко уставать. Болезнь долго и потихоньку заигрывала с ним. Ходить долго не мог. На сцене еще кое-как, но держался, а за кулисами – уже все, как спущенный шарик. Сетовал на то, что стареет. Продолжал делать все, что делать было нельзя. Пошло все к черту!..
Старожилы помнят, как во время одного из спектаклей у Филатова неожиданно пропал голос. За кулисами на него накинулись с упреками: «Ну, Ленька, ну ты, старик, даешь. Поддал, что ли?..» Хотя все прекрасно знали, что ни на репетициях, ни тем более перед спектаклем он себе ничего подобного ни в коем случае не позволял. Категорически. «Бог с вами, – едва-едва, с громадным усилием просипел-прохрипел в ответ «сердобольным» коллегам Филатов, – сам ничего не могу понять, что со мной происходит…»
1980-й для Леонида Филатова (да и разве только для него одного) стал годом, заключенным в траурную рамку. О нем он написал:
А мы бежим, торопимся, снуем —
Причин спешить и впрямь довольно много —
И вдруг о смерти друга узнаем,
Наткнувшись на колонку некролога.
………………………………………..
Ужасный год!.. Кого теперь винить?
Погоду ли с ее дождем и градом?
…Жить можно врозь. И даже не звонить.
Но в високосный будь с друзьями рядом.
«Таганка» была раздавлена непоправимой бедой – смертью Владимира Высоцкого. Им с трудом, но удалось собраться с силами и духом, сообща создать мемориальный спектакль об ушедшем друге. Филатов настаивал: «Способ мышления в этом спектакле должен быть особым. Это должно быть про жизнь, а не как абстрактный коллаж про наших людей, лишенных конкретности. Форма должна состоять из живых людей, как в спектакле «Товарищ, верь…». Только там разница в 150 лет, а тут – в полгода… Тут нельзя ждать, пока все перемелется». Вениамин Смехов подключался и гнул свою линию: «К работе над спектаклем надо привлечь прекрасных поэтов, Филатова обязательно…»
Одного автора у этого спектакля, конечно же, быть не могло. Это был коллективный труд. Организовывал материал Юрий Петрович Любимов. «Мы тащили, как улитки, – вспоминал Филатов, – каждый по соломинке, как муравьи тащили, что-то вкладывали в эту общую кучу, кто что находил, кто что считал возможным, предлагали чего-то, что-то оставалось, что-то вымарывалось, и в итоге складывалась такая композиция… Иногда мы просто заваривали все это вживую…»
Филатову в этом спектакле выпали две темы: помимо Горацио он читал лирические стихи Высоцкого, прежде всего посвященные Марине Влади. Колдунья-златовласка (в ее роли была, разумеется, Нина Шацкая) слушала любимого, сидя на сцене, отгороженная, как барьером, рядами пустых кресел осиротевшего театрального партера, и нежно улыбалась своему поэту…
В первую годовщину смерти Высоцкого в июле 1981 года «Таганка» показала премьеру-реквием «Владимир Высоцкий». Леонид осознал самое главное: «Смерть всегда делает чудеса. Становится ясной цена… В нашем спектакле Владимира нет. Есть только мы, наше к нему отношение… Гениальность нельзя сыграть».
Но тогда, жарким летом 1980-го, никто из них еще не догадывался, что смерть Высоцкого становится зловещим предостережением для будущего всего театра. И лично для каждого из них.
Кто мог предугадать, что спустя четыре года после этой трагедии последует Указ Президиума Верховного Совета СССР № 542-Х1 от 11 июля 1984 года «О лишении гражданства СССР Любимова Ю.П.», в котором черным по белому будет обозначено: «Учитывая, что Любимов Ю. П. систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР…»
* * *
Филатов изначально был человеком сугубо театральным. «Театр – живое дело, там все как-то меняется, переделывается, а в кино режиссер единолично решил, рассчитал, снял… И не переделаешь. Нет, я театр люблю, – говорил он. – И причем не за роли, не в них дело. Для меня театр – прежде всего Дом. Дружеский, благородный, где мне сделали первые прививки нетерпимости к дряни. На уровне рефлекса…»
Придя на Таганку, вчерашний провинциал неожиданно для себя оказался в окружении такой могучей интеллектуальной «кучки», такой «команды», прямо как «дрим-тим». Желанными гостями, соавторами, полноправными членами художественного совета театра были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Петр Капица, Сергей Параджанов, Юрий Трифонов, Федор Абрамов, Белла Ахмадулина, Альфред Шнитке, Александр Бовин, Юрий Карякин, Эрнст Неизвестный, Борис Можаев, поэты, писатели, художники, музыканты, ученые, отъявленные диссиденты, композиторы, подпольные миллионеры-«цеховики», многомудрые политические обозреватели ТВ и функционеры-либералы со Старой площади, которые отвоевали себе право вслух говорить все (или почти все) то, что думаешь. Всезнающий Булат Окуджава признавался, что сердечно любил старую «Таганку» «как клуб порядочных людей».
Только, ради Бога, не стоит тешить себя иллюзиями, будто бы непорочная «Таганка», не щадя живота своего, отчаянно боролась с самой Системой.
С недостатками, отклонениями, негодяями – да. У театра была постоянная тема, раздражавшая вельмож: ужесточающееся противоречие между народом и властью. Но не противостояние. Даже сам творец «Таганки» Любимов считал, что «ярлык «политический театр» нам пришили. А на самом деле я отстаивал свои спектакли, и только. Просто старался быть свободным, вольным человеком, не более того. Ни с кем не воевал и никого не агитировал. Но от своих актеров требовал: «Играйте так, чтобы спектакль закрыли».
«Я потом понял, – впоследствии говорил Леонид Филатов, – что некая наглость общественного поведения проистекала из-за того, что у тебя был мощный тыл, позволявший говорить что-то такое, что при других условиях ты бы не сказал. В этом даже пижонства никакого не было».
Родной театр он почитал баррикадой, университетом. Только в зрелом возрасте с горечью прозрел: «Это была секта в чистом виде». Но тогда «Таганка» была всем: «Местом работы, семьей, идеей, жизнью… Вблизи я видел замечательные образцы человеческой отваги, хотя не менее близко сталкивался и с человеческой трусостью. Именно в этом доме я научился жалеть и прощать… Другое дело, что в пору юности я наивно думал, что и весь окружающий меня мир так же нормален и прекрасен, как «Таганка».
Когда Леонид жил, как он выражался «черт-те где, за пустыней Каракум», то «диссидентского уклона, по крайней мере такого ярко выраженного, как в Москве, в Ашхабаде не было. Так что сложности начались уже потом, в другой жизни…»
А потом потихоньку-потихоньку, конечно, сознавался в своих «крамольных» поступках Леонид Алексеевич, на моем письменном столе начали появляться голубенькие книжки журнала «Новый мир», машинописные копии «Доктора Живаго», Бродского. Уже появились Евтушенко, Вознесенский, «стихийные стихи» у памятника Маяковскому, вечера поэзии в Политехническом. «Какое-то движение, безусловно, происходило, – не отрицал он. – Но все на уровне игры».
Что касается каких-либо мировоззренческих, идейных «платформ», то Филатов неизменно подчеркивал, что был простым, обычным, нормальным человеком, ни в какие общественные движения не вливался и тем более не возглавлял. Но «всю ущербность большевизма понимал с юных лет. Я был воспитан на «шестидесятниках»… Не могу похвастаться тем, что мне что-то запретили или в чем-то меня ущемили большевики… Были какие-то ожоги. Но это ерунда. Они лишь давали мне понимание всего того, что стоит за моим личным ожогом. Так что я не бунтовал, но и не был, разумеется, поклонником той власти. И когда я ругаю нынешнюю власть, то основываюсь на своих сегодняшних скверных ощущениях, а не тоскую по прежним временам…»
(Слова о «нынешней власти» – это цитата из интервью Леонида Алексеевича, датированного февралем 1999 года.)
Он наивно полагал, что если у него есть симпатии, какие-то пристрастия – значит, он уже политичен. Но активной, публичной политикой заниматься не умел и не хотел.
А времена, увы, уже менялись. И «вот ведь парадокс и перегиб», «Таганка» из «островка свободомыслия» образца 70-х годов постепенно, шаг за шагом, неуклонно превращалась в сытый, изнеженный и самодовольный «полюс валютной недоступности», а билеты на любимовскую премьеру становились «твердой валютой».
Это стареющий романтик Андрей Вознесенский, свято веривший, что многие идеи гласности родились именно на Таганке, что «зритель там был особой пробы, особо талантлив… Великим зрителем была молодая, мыслящая революционно интеллигенция… Зал взрывался не только от политических острот, но и от художественных озарений…», в упор не хотел замечать, что большинство зрительного зала театра заполняли уже не студенты и не завлабы, а завмаги. Плюс партийно-чиновничьи бонзы. Театр постепенно трансформировался в некую «сферу развлечений».
О правительственной ложе, правда, здесь сроду никто даже не помышлял. На премьерах рядышком вынужденно сидели опальный академик Андрей Сахаров и член политбюро ЦК, сановный Дмитрий Полянский, неукротимый писатель-диссидент, неопохмелившийся после «вчерашнего» Владимир Максимов и всемогущий властелин «всея Москвы» Виктор Гришин, выдающийся японский кинорежиссер Акиро Куросава и лыка не вязавшие чемпионы, чопорные дипломаты, космонавты, как архангелы, спустившиеся с небес, и загадочные дамы полусвета.
«Театр на Таганке возник на волне социального презрения к тем людям, которые в конце концов заполонили наши фойе и щеголяли в антрактах мехами и бриллиантами, – с горечью замечал Леонид Филатов. – …Студенчество из нашего зала вытеснили ловчилы из автосервиса, торговли и т.д. Мы проклинаем их со сцены, а их приходит к нам все больше и больше, при случае можно щегольнуть в разговоре. Но самое забавное то, что наши метафоры, наши способы донесения идеи основной массе этих людей совершенно непонятны…»
Ни для кого сомнений не было, что театральная публика – очень своеобразный и выразительный срез жизни. В последние годы уходящей эпохи развитого социализма именно эти «доставалы», в конечном счете, определяли «лицо» театрального зрителя.
* * *
C кинематографом отношения как у Шацкой, так и у Филатова складывались далеко не безоблачно. Блеснув в начале 60-х в «Коллегах» по шлягерному роману начинающего свой стремительный путь на Парнас Василия Аксенова, Шацкая ушла в тень, быстро-быстро, как улитка, упряталась в свою изящную раковину и зажила отдельной от кино жизнью.
Время от времени случались не слишком выразительные, эпизодические, пустые, в общем-то, роли. То у Элема Климова в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», то в «Чрезвычайном поручении», то в безумно бездарном белорусском фильме «Саша-Сашенька» (впоследствии режиссеру-постановщику этого кинобреда было даже запрещено на пушечный выстрел приближаться к съемочной площадке). Но ей-то от этого легче не становилось.
Впрочем, в кругу друзей и коллег Нина держалась молодцом, никогда не унывала и твердила свое: не зовут, не берут – и не надо, подумаешь, не очень-то и хотелось. А многочисленные попытки друзей помочь ей выскользнуть из этого заколдованного круга, как правило, ничем хорошим не заканчивались.
Владимир Семенович Высоцкий, всегда исповедовавший чистоту традиций «артельного творчества» (вернее, сотворчества), при каждом удобном случае стремился как-то помочь своим товарищам по «Таганке» промелькнуть лишний раз на экране, подзаработать «лишнюю копейку», усердно сватал их к друзьям-приятелям в различные киноэкспедиции. Однажды в Одессе разыскал Нину, отдыхавшую на Черном море, за руку привел к знакомому режиссеру Леониду Аграновичу и сразу взял быка за рога: «Вам артистки нужны?..» – «Нужны, а что?» – вопросом на вопрос ответил Агранович, праздно снимавший под ласковым южным солнцем «Случай из следственной практики».
Слово за слово, но сделал он Высоцкому с Шацкой большую кинопробу. «Они очень ловко и быстро сыграли – буквально «с листа», – восхищался режиссер. – Сцена получилась очень хорошая, но Шацкая была, как бы это сказать, чересчур яркой для нашего фильма. Темпераментная, резкая, как дикая кошка. Играла, стараясь показать товар лицом… Экспрессивна… Красивая женщина, интересная, но – чересчур. Она бы вырывалась из картины…»
Потом нашел себе Агранович другую героиню, менее красивую и менее интересную. В общем, тусклую, отнюдь не «дикую кошку».
Более удачным для Нины стал эксперимент с еще одной картиной одесской киностудии – «Контрабанда», которую ставил близкий друг Высоцкого Станислав Говорухин. Там Высоцкий в одном из эпизодов даже спел с Ниной дуэтом две песни – «Жили-были на море…» и «Сначала было слово печали и тоски…»
Нина с удовольствием вспоминала эту легкомысленную свою работу: «Мы поехали к композитору, я где-то часик посидела, получила слова. И после этого уже была поездка в Дом звукозаписи на улице Качалова. Всего было записано три варианта. В первом пел один Володя. Во втором – одна я. И в третьем – вместе. А он (Высоцкий. – Ю.С. ) был очень деликатен. Он говорит: «Надо Нину поставить ближе к микрофону!» И получилось, что я прозвучала громче, а он ушел на второй план. Мы спели красивое танго о любви двух океанских лайнеров… А это было в дни, когда в Театре на Таганке случился один из юбилеев. Мы готовили, накрывали столы. Потом гуляли почти всю ночь. А утром надо было лететь на самолете на съемку в другой город, где мы с Володей по сценарию поем на палубе парохода это танго. Хорошо, мы молодыми были, здоровыми, утром я прилетела и только попросила режиссера дать мне поспать два часика. А у Володи в это время был роман с Мариной Влади, и он уехал на океанском лайнере с ней. И снялась только я. И в фильме я стою одна на эстраде и пою двумя голосами. А кое-где только его голос… Володе очень понравился наш дуэт… Он говорил, что у нас очень созвучны голоса, и предложил сделать совместную пластинку. Мне эта идея понравилась, но я в это время как раз уже познакомилась с Леней, была в «своей» жизни, и этого не случилось…»







