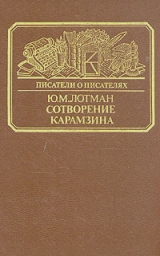
Текст книги "Сотворение Карамзина"
Автор книги: Юрий Лотман
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Попытка реконструкции разговора Карамзина с Кантом должна включать три вопроса:
– что Карамзин мог читать из сочинений Кенигсбергского философа к тому времени, когда переступил порог его дома?
– о чем Карамзин мог спрашивать Канта?
– с какой целью он наносил ему визит?
Для ответа на первый вопрос у нас есть следующие основания. В «Письмах» сказано: «Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал». Далее следует «Критика практического разума» и «Метафизика нравов». Последнее, – конечно, «Основы метафизики нравов», вышедшие в Риге в 1785 году: работа под заглавием «Метафизика нравов» была опубликована Кантом позже, лишь в 1797 году.
Указание на то, чт о Карамзин из произведений Канта в 1789 году еще не читал,можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что другие основные работы философа из числа опубликованных к этому времени были ему известны. По крайней мере, «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «Критику чистого разума» (1781) и «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» (1783) Кант не стал записывать на бумажке юному москвитянину. Вероятно, он убедился, что эти произведения ему в какой-то мере известны.
Считать, что Карамзин переступил порог Канта любопытным скифом, лишь понаслышке судящим о философии хозяина дома, видимо, нет оснований.
Однако к данным, свидетельствующим о знакомстве Карамзина с сочинениями Канта еще в Москве, следует сделать одну коррективу: общее отношение к философии Канта в московском окружении Карамзина было безусловно отрицательным. Конечно, Ленц был некогда учеником Канта, но в дальнейшем он сделался ярым его противником. В кругах же московских мистиков философия Канта встречала безусловное осуждение [90]90
Утверждение Г. Роте, что Шварц читал лекции о Канте, основано на недоразумении, неточном чтении источника.
[Закрыть]. Можно полагать, что идея обратиться за решением философских проблем к «южному магу» Лафатеру была подсказана Карамзину его наставниками отчасти с целью отвратить молодого адепта от скептической философии. По крайней мере, «Утренний свет» еще в 1780 году, используя цитаты из Бэкона, выступал против «сцептицизма»: «Из всех сцептиков несноснее были те, кои не соглашались полагаться на верность чувств. Ибо кого мы в свидетели примем на место оных?» [91]91
Утренний свет. 1780. Июнь. С. 148.
[Закрыть]Тем более нетерпимо было скептическое сомнение в таинствах потустороннего мира и в бессмертии души. Между тем накануне путешествия Карамзин был настроен в этих вопросах весьма скептически. Он ужаснул Плещееву, сказав ей: «Я вас вечно буду любить, ежели душа моя бессмертна». Настасья Ивановна в ужасе писала Кутузову: «Вообразите ж, каково, ежели он в том сомневается! Это «ежели» меня с ума сводит!» [92]92
Барсков. С. 2.
[Закрыть]
В полемике с Кантом Мендельсон и Лафатер пользовались безусловными симпатиями московских «братьев». И хотя ни тот, ни другой не были масонами, их философия играла важную роль в масонских теориях, которым скептицизм Канта наносил сильнейшие удары.
Лафатер и сам однажды побывал в России и через своих швейцарских корреспондентов (пастора Бруннера, многочисленных учителей-швейцарцев) поддерживал связи с культурными кругами Москвы. Вспомним, с каким пиететом И. П. Тургенев писал Лафатеру: «Мне чрезвычайно лестно быть поводом ваших выгодных суждений о всей русской нации, нации которая достойна во многих отношениях привлечь внимание столь чтимого мужа, как вы. Русские и вправду начинают чувствовать то высокое призвание, для которого создан человек. Они близятся к великой цели – быть людьми» [93]93
Dickenmann. Ein Brief Johann Turgenevs an Caspar Lavater. – Festschrift fur Dmytro Cyzevskyj. Zum 60 Geburtstag. Berlin, 1954. S. 100. Оригинал письма по-немецки.
[Закрыть]. Если к этому прибавить, что Лафатер был в тесной связи с вюртембергским двором, с родителями Марии Федоровны, что во время путешествия «графа Северного» вел. кн. Павел Петрович нанес ему визит и был потрясен физиогномическими откровениями швейцарского философа, то станет понятно направление его авторитета в России [94]94
См.: Heier, Edmund. Das Lavaterbild im Russland des 18. Jahrhunderts // Kirche im Osten. Studien zur osteuropaischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde, Gottingen, 1977. Bd. 20; Strahlmann, Berend. Johann Caspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften» // Oldenburger Jahrbuch. 1959. Bd. 58. Teil 1. Марии Федоровне Лафатер присылал целый трактат в письмах о состоянии души после смерти. См.: Johann Kaspar Lavater's Briefe an die Kaiserin Maria Feodorowna, Gemahlin Kaiser Pauls I von Russland, uber den Zustand der Seele nach dem Tode. St.-Ptb., 1858.
[Закрыть]. Таким образом, посещение Канта как первый пунктевропейского путешествия не было нейтральным жестом – данью туристическим страстям. Кант и Лафатер как бы замыкали две границы философского пространства эпохи. И одновременно, представляя две тенденции – критическую философию и мистический энтузиазм, допускающий творение чудес и общение с душами, – Кенигсбергский философ и цюрихский физиогномист принадлежали все же одной эпохе – великой эпохе немецкой культуры между Лессингом и Гегелем. Карамзин остро чувствовал не только противоположность, но и единство их как современников – людей эпохи брожения умов и философских поисков.
И тут проявилась характерная черта позиции Карамзина – результат необычной даже для блестящих умов зрелости в раннем возрасте. Карамзин хотел выслушать обоих и не подчинить себя ни одной из точек зрения. Он не торопился встать в ряды каких бы то ни было приверженцев. Он выше всего ценил независимость мысли.
В «Письма» он ввел эпизод, литературное происхождение которого не вызывает сомнений: в Мейсене, в почтовой карете, путешественник сделался участником философского спора. Собеседник его, «прагский студент», – сторонник Канта и оппонент Мендельсона и Лафатера. Сам путешественник отвечает ему цитатой из письма Лафатера, «случайно» оказавшегося у него с собою. Можно только изумляться, с какой точностью Карамзин, якобы понаслышке знавший Канта, смог выразить мысли обоих философов, построив своеобразный спор-диалог. А в том месте, где надо было какой-либо стороне отдать пальму первенства, он по-стерниански оборвал эпизод: «Прагской <студент>, который сидел подле меня, тотчас вступил со мною в разговор – о чем, думаете вы? Непосредственно о Мендельзоновом Федоне, о душе и теле. «Федон, сказал он, есть может быть самое остроумнейшеефилософическое сочинение; однакожь все доказательства бессмертия нашего основывает Автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых Философов!» – Надобно искать его в сердце, сказал я. – «О! государь мой! возразил Студент: сердечноеуверение не есть еще философическоеуверение; оно не надежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечныя, необходимыя истины. Сего-то уверения ищет Метафизик в уединенных сенях, во мраке ночи, при слабом свете лампады, забывая сон и отдохновение. – Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе,то нам все бы открылось; но» – – Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера, и прочитал Студенту следующее:
«Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах [95]95
В журнальной редакции Карамзин привел здесь немецкий текст: «Unser Ich siehet sich nur im Du» (415).
[Закрыть]. Чувство бытия, личность, душа – все сие существует единственно по тому, что вне нас существует, – по феноменам или явлениям, которые до нас касаются». – «Прекрасно! сказал Студент, – прекрасно! Но естьли думает он, что» – Тут коляска остановилась; Шафнер отворил дверцы и сказал: «Госпожи и господа! извольте обедать» (57).
Нельзя не отметить безукоризненность русских эквивалентов для основных понятий Канта: «понятия чистого разума», вещь «сама в себе». Что касается отрывка из письма Лафатера, то Карамзин, переживавший бурное увлечение Шекспиром, почувствовал здесь, вероятно, цитату:
Ведь даже красоту свою познать
Мы можем, лишь увидев отраженной
В глазах других. И даже самый глаз
Не может, несмотря на совершенство
Строенья, видеть самого себя…
…Ведь и познанье не в самом себе,
А в том, что познает, черпает силу [96]96
Шекспир У. Троил и Крессида / Пер. Т. Гнедич // Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 5. С. 401.
[Закрыть].
На стороне Канта – «чистый разум», на стороне Лафатера – поэзия и авторитет Шекспира. Конфликт не решается, а снимается выходкой в духе Стерна.
Теперь нам сделалось яснее, зачем явился Карамзин к Канту. Естественно предположить, что одной из первых тем их разговора был Лафатер. Это тем более вероятно, что если московский путешественник носил в кармане (или, что вероятнее, в своей памяти) письма Лафатера, то Кант в это время обдумывал трактат «Антропология с прагматической точки зрения», где, в связи с физиогномикой, Лафатеру уделялось немало внимания. Текст «Писем» позволяет полагать, что Карамзин прямо спросил Канта о его отношении к философии Лафатера. Ответ в «Письмах» выглядит так: «Он знает Лафатера, и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, говорит он: но имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит Магнетизму и пр.» (21). В «Антропологии» Кант выразился резко и определенно, назвав физиогномику Лафатера «бывшим долгое время очень популярным» «дешевым товаром». «От нее ничего не осталось». Нет оснований думать, что Кант не выразил своих взглядов с такой же определенностью в устной беседе. Это существенно для того, чтобы понимать, что, когда литературный путешественник сентиментально бросался в объятия Лафатеру, его автор уже нес в себе заряд критики. Так объясняются и иронические интонации, которые нет-нет да и проглянут в характеристике цюрихского «мага».
Но тут же выступает еще одна сторона дела: убеждение скептика Карамзина в относительности теорий дополняется верой в безусловность человеческой доброты. Это качество подчеркнуто и в Канте, и в Лафатере.
Разговор о Лафатере должен был связаться с верой в сверхъестественное: эта проблема интересовала и Карамзина, и Канта. Карамзину важно было получить поддержку в своих сомнениях, которые он, видимо, собирался изложить в Берлине Кутузову. Кант же был раздражен цензурой и препонами для критической мысли, насаждавшимися тем самым Вёльнером, которого философ знал как прусского министра, а Карамзин – как друга и покровителя московских розенкрейцеров. Кант, который еще в 1766 году в письме Мендельсону называл мистику «мнимой наукой с ее столь отвратительной плодовитостью» [97]97
Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 515.
[Закрыть], в «Антропологии» специально оговаривал, что чтение книг не может быть причиной безумия, оно не в силах «расстроить душу», «если только она уже до этого не была извращена и потому пристрастилась к мистическим книгам и к откровениям, которые выходят за пределы здравого человеческого рассудка. Сюда же относится и склонность заниматься чтением книг, содержащих благочестивые назидания» [98]98
Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 459.
[Закрыть].
У этого вопроса был еще один поворот, который не мог не волновать Карамзина: атмосфера, в которой Карамзин жил в Москве, была пронизана духом авторитета и подчинения авторитету. Власть нравственных требований и интеллектуального руководства наставника для ученика была безусловной. Поэзия подчинения своей воли – воле, разлитой в таинственной иерархии ордена, была выражена безымянным масоном, который после приостановки деятельности масонов горько жаловался в одном рукописном сборнике: «Скорбит сердце мое, видя, сколь тягостно без сей священной цепи, без сей подчиненности» [99]99
PO ИРЛИ АН СССР, Альбом Ланского, шифр 1880/XXV, О, с. 159.
[Закрыть]. Весь же пафос философии Канта был в праве человека на духовную и интеллектуальную самостоятельность. В 1784 году, отвечая на вопрос одного журнала: «Что такое просвещение?», он писал: «Имей мужество пользоваться собственнымумом! – таков < …>девиз Просвещения». «Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою <…> то мне нечего и утруждать себя» [100]100
Кант И. Соч. Т. 6. С. 27.
[Закрыть].
Мыслить собственным умом – это было именно то, ради чего Карамзин порвал с друзьями и наставниками и отправился в путешествие. И утверждение, что ни наставник, ни книга не заменят собственного опыта и размышления, также соответствовало его умонастроениям.
Наконец, судя по «Письмам», разговор перешел в область этики и коснулся того, что более всего интересовало Карамзина, – деятельности. Можно только удивляться умению Канта затронуть именно то, что наиболее волновало его русского собеседника, а Карамзина – ясно и кратко резюмировать мысли своего собеседника.
Карамзин вышел из дома Канта, видимо, полагая, что философская траектория его путешествия завершится в домике Лафатера в Цюрихе. История распорядилась иначе: диалог с критической философией был продолжен в зале заседаний Национальной ассамблеи в Париже.
ДОРОГА…
Путешествие по Германии, по крайней мере до Лейпцига и Веймара, видимо, протекало по плану, разработанному еще в Москве. Вернее, по планам, поскольку, вероятно, их было несколько, не полностью между собой совпадавших. Можно предположить, что встреча с Кутузовым была предметом разговоров как в кругу новиковских друзей и наставников Карамзина, так и в семье Плещеевых. Планы посещения Канта и Виланда должны были обсуждаться с Петровым, Веймар же не мог не стать предметом бесед с Ленцем. Насколько можно судить, на этом отрезке пути описание путешествия близко к реальному.
В Берлине путешественник посетил Николаи, Рамлера, Морица, т. е. деятелей умеренного бюргерского Просвещения. Сочинения их ему были хорошо известны, и он занял по отношению к ним довольно независимую позицию. Уже то, что он полностью обошел масонские круги Берлина (а в этом, располагая данными перлюстрации масонской переписки, не приходится сомневаться), было демонстративным шагом. Тем более значимы контакты с кругом, который в это время вел войну на два фронта: с одной стороны, против иезуитов, а с другой – против их противников масонов. Однако в кругу этих «просветителей» ему бросилась в глаза узость, нетерпимость к чужим мнениям и догматизм. На этом фоне еще резче оттенялась терпимость и широта взглядов Канта.
Из Берлина путешественник отправился в Саксонию: посещение ученых заведений – университета и книжных лавок – Лейпцига и художественных сокровищ Дрездена, конечно, входило в обдуманный в Москве план.
Следующим этапом, также продуманным, был Веймар. Карамзин заранее обдумал список лиц, которых он хотел повидать. Это Виланд, Гердер и Гёте. В Веймаре Карамзин не случайно сразу же вспомнил о Ленце: предромантическая культура Германии была ему хорошо знакома. Он тонко оценил зависимость «Вертера» от Руссо, знал драмы Шиллера. Однако показательно, что Гёте стоит у него на третьем месте и что никакой настойчивости в попытке встретиться с автором «Вертера» он не проявил. Он ограничился тем, что мельком увидел Гёте с улицы в окне. За время пребывания в Германии путешественник не сделал также никаких попыток встретиться с Шиллером. Зато к Виланду он почти вломился и, несмотря на более чем холодный прием, добился повторного свидания и откровенного разговора. Проявил он настойчивость и домогаясь встречи с Гердером. Это не было результатом неосведомленности или провинциальности вкусов: насколько тонко понимал Карамзин логику творческого развития Гёте, свидетельствует, что уже в 1789 году он чутко отметил едва обозначившийся поворот Гёте от штюрмерства к винкельмановскому классицизму. В авторе «Вертера» он разглядел «дух древних греков», а о мелькнувшем в окне профиле сказал: «Важное греческое лицо!»
И все же философская проблематика Гердера и скептицизм Виланда ему были ближе.
Веймар был поворотным пунктом маршрута. Здесь следовало окончательно решить, ехать ли в Вену, откуда открывались пути в Италию, Швейцарию и южную Францию, или во Франкфурт-на-Майне, куда звал Карамзина Кутузов и откуда открывались две дороги: в Швейцарию или в Париж. Решение было принято бесповоротно. Достаточно сопоставить месяцы, проведенные Карамзиным в Женеве или Париже, и всего два дня в Веймаре, чтобы понять, какое нетерпение им владело. Он был охвачен горячкой путешествия, его влекла дорога – это стало потом наследственной болезнью русских писателей: Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Толстого…
РАМЗЕЙ И ВЕЛОКС
Когда Шварц привез из Вильгельмсбадена розенкрейцерство, избранные члены московского кружка, допущенные в розенкрейцерскую степень, получили тайные масонские имена: Новиков стал Коловион, Лопухин – Филус, Тургенев – Вегетус. По иронии судьбы медлительный и меланхолический Кутузов получил имя Велокc – по латыни «быстрый».
Кутузову в жизни не везло. Человек большой и широкой эрудиции (даже тупой московский главнокомандующий Прозоровский был поражен его ученостью), он не оставил значительных сочинений; верный друг, человек единственной, трогательной и неразделенной любви, он всю жизнь грелся у чужих огней. Его господствующим настроением была грусть, а самопожертвование – естественным движением души. В истории русской культуры он занимает видное место в биографиях Радищева и Новикова, Карамзина и фельдмаршала Кутузова, но собственной биографии как бы не имеет.
Он прожил одинокую жизнь и умер бездомным и безвестным узником в долговой тюрьме, куда попал за чужие долги, отдав все, что имел, другому.
В июне 1789 года, когда Карамзин подъезжал к Берлину, Кутузов находился за границей. Уже несколько лет как он был послан московскими «братьями» в Берлин затем, чтобы выяснить, наконец, в чем состоят «тайные знания», которыми их манил Вёльнер, и в чем состоят гораздо более реальные тайные финансовые махинации Шрёдера. Трудно было найти менее подходящую кандидатуру. Можно предположить, что жребий пал на Кутузова не только из-за его прекрасного знания немецкого языка (он свободно владел несколькими новыми и древними языками), но и потому, что никто не хотел браться за это хлопотное и неприятное поручение: Новиков был связан издательскими делами, Лопухин служил, все были обременены семьями и житейскими заботами. Кутузов не был далек от истины, когда позже с горечью писал, что его принесли в жертву. К этому можно лишь добавить, что и сам он себя с готовностью всегда предлагал на роль жертвы. И, как часто с ним бывало, Кутузов оставлял свое подлинное дело – перо писателя и философа – ради деятельности, в которой никак не мог надеяться на успех. Когда-то он, не имея ни склонностей, ни природных данных для военной службы, поступил в пикинерский полк М. И. Кутузова, чтобы быть ближе к той, в которую был безнадежно влюблен. Теперь он считал долгом дружбы отправиться в Берлин. Между тем доверчивый, энтузиастический, жаждущий дружеских привязанностей и совершенно неспособный разбираться в хитросплетениях интриг и коварства Кутузов не был способен распутать ни политические сети Вёльнера, ни финансовые аферы Шрёдера. Он ехал, чтобы погибнуть.
Даже по тексту «Писем», несмотря на то, что, и как подозреваемый по делу Радищева, и как член новиковского кружка, Кутузов был вдвойне подозрителен для властей, и всякое упоминание о нем в печати было рискованным, видно, что свидание с ним составляло одну из важных целей «вояжа» Карамзина.
Подъезжая к Берлину, он видит его во сне: «Я так ясно представил себе любезного А*, идущего ко мне на встречу с трубкою и кричащего: кого вижу? брат Рамзей в Берлине?»(32), боится с ним разъехаться, цитирует его письма к себе. То, что перед нами не литературный вымысел, выясняется из сопоставления с документами. Плещеева писала Кутузову в марте 1791 года о Карамзине: «Сердце его так хорошо, что не может притворяться. Он ехал с горестию оттого, что расстается с нами. Лучшие разговоры при отъезде были те, как он вас увидит; одним словом, все составляло его удовольствие, – мы, а потом – вы. Совестно [101]101
Т. е. «по совести», «искренне».
[Закрыть]вам скажу, он более здесь ничего не оставлял; прочие его друзья так называемые, как скоро он им сказал, что он едет, то явным образом его возненавидели» [102]102
Барсков. С. 108.
[Закрыть]. Свидетельство очень важное. Из него вытекает, что Карамзину важно было встретиться с Кутузовым, но что встреча эта не была каким-либо конфиденциальным поручением от «братьев». С ними Карамзин уже порвал и доверие их утратил. Зато Петров был в курсе его планов и спрашивал в сентябре 1789 года: «Я весьма любопытен знать, виделся ли ты с А. М. <Кутузовым>?» (509).
Встретился ли Карамзин с Кутузовым во время своего путешествия? Текст «Писем» на этот вопрос отвечает категорически: нет! Карамзин подробно сообщает читателю, что в Берлине он с огорчением узнал, что Кутузов накануне покинул столицу Пруссии: «Я бросился на стул и готов был заплакать» (33). В Лейпциге, согласно «Письмам», путешественник окончательно узнал, что свидание с «любезным другом» не может состояться. И все же есть достаточные основания сомневаться в этом категорическом утверждении.
Если внимательно рассмотреть несколько дошедших до нас писем, которыми обменялись Кутузов и Карамзин и Кутузов и Плещеевы в ноябре – декабре 1790 года, то нельзя не изумиться странности их содержания. Прежде всего, еще до возвращения Карамзина из-за границы Кутузов, который якобы там с ним не встречался, каким-то образом знает о намерении своего молодого друга издавать журнал. Плещеева пишет Кутузову 10 ноября 1790 года: «Предвидели вы и то, что журнал он выдавать станет» [103]103
Там же. С. 29.
[Закрыть]. Обычно считается, что причиной разрыва, окончательно разрушившего связи Карамзина с масонами, было объявление в «Московских ведомостях» о выходе «Московского журнала», задевавшее масонские издания ироническим отзывом. Таким образом, получалось, что Карамзин первым бросил перчатку своим бывшим наставникам. Однако, хотя отзывы московских «братьев» на газетное объявление и первые номера журнала действительно были очень враждебными, нападки их на Карамзина начались раньше, – как только сделалось известным его намерение издавать журнал. Создается впечатление, что сама идея подобного предприятия их не на шутку испугала. В. В. Виноградов имел основание писать: «Больше всего масоны боялись появления «Писем русского путешественника», описания заграничной поездки Карамзина» [104]104
Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 285.
[Закрыть]. Что же их могло испугать?
Следует иметь в виду, что слово «журнал» имело в XVIII веке два значения: им обозначали периодическое издание, журнал в современном смысле этого слова, и дневник (от французского le jour – день). Таким образом, первые же слухи об издании журнала, видимо, были восприняты как свидетельство намерения опубликовать путевые записки. И вот тут начинаются странности. Кутузов пишет Карамзину 17/28 декабря 1790 года, опасаясь публикации «журнала»: «Впрочем, опасно связываться с вашею братиею, авторами, тотчас попадешь в лабет [105]105
Лабет – карточный проигрыш; «попасть в лабет» – «попасть в дураки».
[Закрыть]. Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью» [106]106
Барсков. С. 55.
[Закрыть].
Сразу же возникает вопрос: как мог Карамзин, описывая свое заграничное путешествие, «искусною кистью» изобразить недостатки Кутузова, если они не встречались?И второй вопрос: все, что мы знаем о Кутузове, говорит, что он менее всего опасался обличения своих личных недостатков: покаянная исповедь – обычное содержание его писем и главный тон его переводов и сочинений. Видимо, он боялся чего-то другого, на что многозначительно намекнул в английской приписке к этому же письму: «There are four good Mothers, of whom are often born four unhappy Daughters, Truth begets Hatred, Happiness Pride, Security Danger, and Familiarity Contempt. Прости, любезный друг, ожидаю с нетерпением, что ты мне скажешь».
Поскольку почт-директор И. Пестель – организатор перлюстрации писем в России – не владел английским языком, для него в «черном кабинете» был сделан перевод: «Четыре хорошие матери производят на свет часто четырех несчастных дочерей; истина нарождает ненависть, счастье – спесь, беспечность – опасность и вольность обхождения – презрение».
Со своей стороны, Карамзин письмом Кутузову также задал нам загадку. Текст его письма более чем странен. Он пишет: «О себе могу сказать только то, что мне скоро минет уже двадцать пять лет, и что в то время, как мы с вами расстались, не было мне и двадцати двух» [107]107
Там же. С. 30.
[Закрыть]. Кутузов не понял смысла этого письма: «Признаюсь, что восемь начертанных тобою строк суть для меня истинная загадка. Сколько ни ломаю мою голову, не могу добраться до истинного смысла» [108]108
Там же. С. 30, 55.
[Закрыть]. Смысл же карамзинских строк мог быть только один – предупреждение не забывать, что за границей они не встречалисьи что их последнее свидание произошло доотъезда Кутузова в Берлин. Напоминать об этом в момент, когда над кружком Новикова начали сгущаться тучи и Прозоровский повторял, по словам И. В. Лопухина, «ложные заключения», «что Карамзин ученик Новикова и на его иждивении послан был в чужие краи, мартинист и проч.» [109]109
Там же. С. 89.
[Закрыть], надо было бы лишь в том случае, если бы на самом деле встреча имела место.И Карамзин должен был намекнуть Кутузову, что в условиях очевидной перлюстрации он не может сказать яснее: «В речах моих, любезнейший брат, не умышленная неясность» [110]110
Там же. С. 110.
[Закрыть]. Намеки на заграничную встречу содержатся и в других письмах. Так, И. В. Лопухину 3/14 декабря Кутузов пишет: «Скажи, где Багрянский и Карамзин. Сии путешественники, по возвращении их, совсем умолкли» [111]111
Там же. С. 48.
[Закрыть]. Значит, довозвращения они «не умолкали», и Кутузов имел о них сведения. Из контекста может создаться впечатление, что это были эпистолярные известия, однако перед нами – сознательная маскировка факта: о Багрянском Кутузов знал не из писем – они вместе ездили в Париж (а до этого проделали совместный путь через всю Европу). Случайно ли Багрянский и Карамзин поставлены рядом? Постараемся дальше подкрепить предположение, что здесь Кутузов именует двух своих парижских спутников.Наконец, в письме Плещеевой, обсуждая причины «вояжа» Карамзина, Кутузов пишет: «Хотя сказанное в прежнем вашем письме и было несколько темно, однако ж соображая со словами, вырвавшимися, так сказать, у общего нашего приятеля, догадывался я о предполагаемой вами причине его поездки» [112]112
Там же. С. 58.
[Закрыть]. Но все письма Карамзина из Москвы Кутузову перлюстрировались, и с них снимались копии, которые до нас полностью дошли. Следовательно, содержание московских писем 1790–1791 годов Карамзина Кутузову нам известно. Никаких «вырвавшихся слов» в них не содержится. Видимо, и здесь Кутузов имеет в виду что-то сказанное Карамзиным в устной беседе.
Итак, анализ писем Кутузова и к Кутузову позволяет предположить, что встреча его с Карамзиным за границей состоялась. Но чтобы это предположение сделалось более вероятным, необходимо проанализировать, во-первых, где и при каких обстоятельствах они могли встретиться, и, во-вторых, почему и Кутузов, и Карамзин так тщательно это скрывали.
Как мы уже отмечали, Карамзин буквально горел желанием разыскать Кутузова. Зачем? Вспомним, что он совсем недавно разочаровался в масонстве и масонах и порвал с ними. Кутузова он любил искренне и не мог не видеть его жертвенной роли и уже явной к 1789 году опасности его положения. Вероятно, он мог надеяться увлечь Кутузова своим примером, оторвать от берлинских «братьев» и ближе ознакомить его с опасной ситуацией, сложившейся в России за время его отсутствия. В эти планы, бесспорно, была посвящена и им сочувствовала Плещеева, стремившаяся в письмах воздействовать на Кутузова в том же духе. Интересно, что, видимо, до самого ареста, со своих позиций, стремился воздействовать на Кутузова и Радищев, у которого шла длительная философская переписка со старым другом.
Однако Карамзин Кутузова в Берлине не застал. Из Берлина Карамзин направился в Дрезден и Лейпциг. Это могло означать, что дальнейшее движение мыслилось на Вену, откуда открывался путь в южную Европу: Италию и средиземноморское побережье Франции. Есть основания полагать, что первоначальный план включал именно такой путь: Швейцария, Италия, южная Франция – и лишь потом Париж, в котором Карамзин, видимо, не собирался задерживаться, и – одна из главных целей – Лондон. То, что, уезжая из Петербурга, Карамзин запасся векселями на имя голландских банкиров, заставляет полагать, что в какой-то из вариантов плана путешествия входила и Голландия. Такой план гипотетически реконструируется по ряду мелких деталей. И если намерение посетить Италию проблематично, то часть маршрута: Вена – Швейцария – южная Франция (Карамзина, видимо, особенно привлекал Воклюз, связанный с именем Петрарки) и затем уж Париж – подтверждается рядом намеков в тексте «Писем».
Но в Лейпциге планы путешествия неожиданно переменились: Карамзин получил письма от Кутузова. В «Письмах» по этому поводу читаем: «Ныне получил я вдруг два письма от А*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель, и хочет, чтобы я дождался его в Мангейме или в Стразбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания» (69). Отрывок этот явно вставлен, чтобы скрыть подлинное положение дел. Но, как это часто бывает в таких случаях, своими неувязками этот текст позволяет выяснить многое именно о том, что он призван скрыть. Прежде всего возникает вопрос: если Карамзин собирался из Берлина во Франкфурт-на-Майне, где он якобы рассчитывал встретиться с Кутузовым, то нельзя не признать, что он избрал не самый прямой путь, отправившись в Саксонию. «Письма» выходят из этого затруднения, представив поездку в Лейпциг как экспромтом принятое и для самого путешественника неожиданное решение, результат берлинской тоски: «Что же делать? спросил я сам у себя. <…> Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его – сказал: поедем далее!»(49). Однако если принять эту версию, то делается непонятным, каким образом Кутузов узнал, что писать Карамзину надо именно в Лейпциг? Приходится предположить, что маршрут Карамзина был Кутузову хорошо известен и что посещение Лейпцига было заранее предусмотрено. А то, что Кутузов не оставил Карамзину письма перед отъездом в Берлине, а прислал его из Франкфурта, позволяет полагать, что предварительно он получил от Карамзина письма из Берлина. Далее: Кутузов якобы просит Карамзина отправиться в Страсбург или Мангейм и там его ждать, чего «никак нельзя исполнить». Однако тут же Карамзин отправляется именно в эти города. Почему встреча все же оказывается невозможной при многократно заявляемом страстном желании свидания и отсутствии у путешественника каких-либо не зависящих от его воли ограничивающих обстоятельств?
Для того, чтобы попытаться рассеять мрак вокруг этого эпизода, необходимо попробовать решить вопрос: чем же была вызвана неожиданная поездка Кутузова во Франкфурт – Страсбург – Париж?
Домосед, мечтатель и философ, Кутузов не был любителем путешествий и не искал новых дорожных впечатлений. В свое время Н. И. Плещеева, осуждая его поездку в Берлин (как и вообще его масонские связи), писала ему, героически преодолевая трудность выразить свою мысль по-русски, – Кутузов был настроен патриотически, не выносил тона светской переписки и даже дамам писал по-русски, вероятно, и их вынуждая к отказу от французского языка: «Как вы спрашиваете, то я жадна отвечать. Вот, что я думаю, цель вашего вояжу была, есть и будет – пустые ваши воображения, которые только могут мысленно существовать, а реализоваться никогда не могут. Я не умела по-русски сказать» [113]113
Там же. С. 28.
[Закрыть]. Кутузов отвечал, что к отъезду его вынудили важные причины: «Горы, реки, озёра, моря и наипрекраснейшие ландшафты в мире не были и, надеюсь, не будут никогда предметом моего путешествия» [114]114
Там же. С. 58.
[Закрыть]. Еще меньше могли соблазнить Кутузова парижские веселости, привлекавшие в столицу Франции легкомысленных путешественников со всей Европы. Видимо, у него были более серьезные основания, чтобы отправиться в путь. Следует заметить, что путешествие это держалось в величайшей тайне, о нем старались не упоминать вообще, ни сам Кутузов, ни его друзья. Поэтому сведения наши об этом эпизоде ничтожны.








