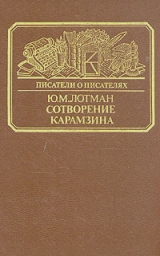
Текст книги "Сотворение Карамзина"
Автор книги: Юрий Лотман
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Так, уже в 1797 году («Письма» еще не были полностью опубликованы!) оставшийся безымянным молодой человек записывал в своем дорожном дневнике [348]348
Автор дневника принадлежал к «европеизированному» кругу русского дворянства: он кузен кн. Гагарина, следовательно, в родстве с Куракиными, Паниными и др. Однако, видимо, беден – служит младшим офицером в захудалом Муромском полку. Это типичный «средний» человек.
[Закрыть].
Моя дорожная записка
Увы! Сердце мое томится; слезы льются обильно из глаз моих; и я стеню с отчаяния, не видя впереди себя ничего, кроме мрака.
Вертер, письмо тридцать второе.
Предисловие
Моя дорожная записка мне нравится, может быть, для того, что моя,и что я могу смотреться в нее, как будто бы в зеркало.
<…> Может статься есть люди, которым минута уединения несносна! Что принадлежит до меня, мне приятно быть с самим собою. Я даю волю моему воображению; оно переносит меня от сцены к сцене, изображает живо в моей памяти прошедшие годы моей жизни, представляет мне отсутствующих любезных, и в то время, как нахожусь я с ними в разлуке, его обольщение дает мне вкушать приятность свидания!
Милая [349]349
Типичный «карамзинизм». Слово это сделалось как бы паролем карамзинистов (ср. «Журнал для милых») и предметом насмешек над ними.
[Закрыть]! Сколь часто воображение, льстя сильнейшей привязанности души моей, являет мне тебя! <…> Вертер! Я не удивляюсь, что конторщик отца твоей Шарлоты (так! – Ю. Л.) мог говорить с восторгом об времени, которое провел он на цепи в безумном доме. Он не чувствовал, что он лишен свободы: пружины его воображения были натянуты, страсть занимала всю его способность мыслить, дни, недели, месяцы протекали для него в мечтаниях.
Далее наш автор застрял со своей коляской ночью в ледяной луже. В дневнике это отразилось так:
«Ночь была темная, ни одной звездочки не блистало на небе, ветер шумел уныло в сосновой роще; и в сию меланхолическую пору – между тем, как люди мои трудились около повозки – я сидел посреди рощи на льду… один… и думал.
Вы не угадаете, друзья мои, что занимало мои мысли. Я размышлял не о коловратностях судьбы <…> Нет, милые! Я думал, как живее и красноречивее представить вам мое похождение!» [350]350
Дорожные записки 1797 года // Щукинский сб. 1903. Вып. 2. С. 216, 224–226.
[Закрыть]
Еще привычнее чувствовал себя читатель, когда из-за плеча повествователя показывалось лицо модника и щеголя, дамского вздыхателя, любителя щегольнуть французским словцом или знанием светских обычаев. Охотно соединяя эти два типа поведения, читатель совсем уже чувствовал себя литературным героем. И одновременно он получал жест и язык. Жизнь его из безымянного существования превращалась в культурное бытие.
Но вдруг в тексте «Писем» следовал маленький, почти или совсем незаметный сдвиг – и повествователь оказывался на вершинах культуры своего века, равноправным собеседником величайших умов, зрителем важнейших событий. И неизменно он был на уровне своих собеседников и своей эпохи. В голове его вдруг обнаруживалась целая библиотека, история и философия уживались в ней с поэзией, романами и «дней минувших анекдотами». Но переход на эти вершины был столь пологим, путь – таким постепенным, что читатель, только что чувствовавший себя в привычном кругу, не замечал, как оказывался лицом к лицу с высочайшими собеседниками. И ему начинало казаться, что беседовать с Кантом или Гердером – просто и естественно, что и он может так запросто зайти в Национальную ассамблею и оценивать красноречие Мирабо или Мори, а потом зайти побеседовать с Лавуазье или Бартелеми, послушать, как заикается Кондорсе, восхититься Рейнским водопадом и подумать: не поехать ли в Италию? И главное, что он обладает для того, чтобы проделать этот путь вместе с «русским путешественником», необходимым культурным багажом и талантом. Именно в том, как тактично, незаметноподнимал Карамзин читателя до своего уровня, сказался его величайший такт культурного деятеля и талант популяризатора.
Петр I не только прорубил окно, но и открыл дверь в Европу: путешествие по миру европейской культуры было для дворянина XVIII века вполне доступно и ни у кого не вызывало удивления. И все же число людей, видевших Европу своими глазами, по отношению к общей дворянской массе, было невелико. Человеку же свойственно особое переживание пространства: как подлинно реальное воспринимается «свое», домашнее, лично знакомое и привычное пространство. По мере отдаления слабеет чувство реальности. То, о чем только слышал, воспринимается как ирреальное, хотя и существующее. Даже Петербург для большинства московских и провинциальных жителей XVIII века был чем-то не совсем реальным. Один философ сказал: «Мы знаем, что мы умрем, но мы в это не верим». Подобно этому мы знаем, что существуют чужие земли как некоторая географическая реальность. Но веритьв их существование мы начинаем, только повидав их и оставив там какие-либо дорогие или просто сильные воспоминания.
То, что Карамзин развернул перед читателем неофициальный облик европейской жизни и «неисторический» образ исторических событий, показав их глазами человека, который еще не разобрался, какие события исторические, а какие нет, заставляло читателя поверитьв развернутую перед ним жизнь, пережить чувство очевидца.
И наконец, в глубине текста лежал общий замысел его построения, его художественная идея. Европа развертывается перед читателем не только как географическое пространство, но как мир древней культуры; это – стараяЕвропа, каждый камень, каждая гора или башня которой отягчены историческими воспоминаниями. Обилие экскурсов, поминутное возвращение в прошлое пронизывают всю ткань «Писем». С одной стороны, это характеризует объем того культурного мира, который должен, как внушает Карамзин читателю, сделаться его миром, миром русского европейца. С другой стороны, это должно быть соотнесено с той антиисторической психологией, которая видела в истории лишь цепь роковых ошибок. Мерсье был истинный сын XVIII века, когда в книге о Руссо, рекомендованной Карамзиным русским читателям, восклицал: «L'histoire de France est a bruler et a recommencer» – «Историю Франции должно сжечь и начать заново» [351]351
Mercier. De J. J. Rousseau… P. 194.
[Закрыть]. Путешественник Карамзина не жег историю – он жил в ней.Но в развернутой Карамзиным картине есть еще один структурный принцип, требующий от читателя погружения в идеи XVIII столетия. Над письмами витают два великих духа столетия: Вольтер и Руссо. Влияние Вольтера на идеи Карамзина начала 1790-х годов очень велико, весьма значительно количество прямых цитат и еще больше скрытых реминисценций из самых разных сочинений Вольтера. Оценки Пруссии и Англии, Петра Великого и Людовика XIV, политические или философские высказывания путешественника часто ведут нас к мыслям и словам Вольтера. В данном случае для нас важно то, что веря в прогресс и помещая счастливое состояние людей (если оно возможно) в будущем, а не в прошлом, Вольтер с одобрением смотрел на развитие наук, художеств, промышленности и цивилизации. Даже роскошь и контраст между бедностью и богатством находили у него одобрение. Он считал, что роскошь в определенном отношении полезна, поощряя соревнование талантов. Возврат к первобытному равенству он считал химерой, и само это равенство вызывало у него скептическую усмешку. Ньютон, Бэкон, свобода слова и печати, парламентская конституция и свобода торговли сделали для Вольтера Англию лучшей страной старого континента.
Руссо полагал, что свобода несовместима с богатством. Только бедные народы могут быть свободными (в этом с ним соглашался Мабли). Прогресс цивилизации есть прогресс неравенства, деспотизма и разврата. Только в примитивных обществах, где жажда богатства не разжигает преступных страстей, возможно равенство и счастье. Цивилизация противоестественна, естественно же такое состояние общества, при котором каждый может все, что ему необходимо для жизни, сделать сам. Торговля и промышленность представляют собой такое же зло, как и роскошь, предрассудки и социальная несправедливость. Их надо обуздывать моральными законами и, если необходимо, государственным вмешательством. Симпатии Руссо вызывали кантоны Швейцарии с простым, близким к Природе бытом пастухов и сурово-республиканскими нравами горожан.
Карамзин, противопоставляя Англию и Швейцарию, не высказывается в пользу той или иной системы идей. В Швейцарии он одобряет ограничение роскоши, говорит о связи равенства и патриотизма, а в Англии пьет за вечный мир и свободную торговлю. Он не дает читателю решения, а вводит его в сущность идейной жизни эпохи.
В равной мере контрастируют Германия и Франция как царство умозрения и царство «искусства жить».
Карамзин вводил русского читателя в Европу не как любопытного варвара, а как европейца, полноправного владельца ее культурных сокровищ (не случайно его путешественник, глядя на различные достопримечательности, неизменно обнаруживает предварительное широкое знакомство с ними по книгам: он встречается с уже ему известным, а не с диковинными новинками). Но более того, раскрывая различные пути цивилизации и не вынося над ними окончательного суда, выделяя в каждом егоположительную сторону, он оставляет окончательный суд за русской культурой, которая еще свободна в выборе своего пути. А для этого нужно Просвещение. Этой цели и призваны служить «Письма русского путешественника».
Однако, как мы уже отметили, в «Московском журнале» есть и другой ряд публикаций, также предлагавших читателю некий образ повествователя [352]352
Виноградов В. В. Указ. соч. С. 296.
[Закрыть].
В мартовской книжке «Московского журнала» за 1792 год помещено начало повести «Лиодор». Это один из первых опытов лирического повествования в прозе Карамзина. Перебиваемое обращениями к Аглае, оно отчетливо ритмизировано и пронизано аллитерациями. Слияние внешнего пейзажа и внутреннего настроения повествователя придают тексту подчеркнуто субъективный характер. «Уже холодные ветры навевали бледность и мрак на печальную природу, когда Агатон, Исидор и я поехали в деревню – наслаждаться меланхолическою осенью.
Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной. Никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи – внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, – чувствовали трепет в сердцах своих, и с красноречивым молчанием друг друга обнимали» (МЖ, V, 3, 305).
Отношение повести к реальной биографии весьма сложно. С одной стороны, читатели тех лет уже умели прямо относить слова, обращенные к Аглае, в адрес Настасьи Плещеевой, что даже шокировало некоторых из них. В этом ключе отрывок «Невинность» читался как декларация возможности совершенно необычных, чистых и возвышенно-дружественных и одновременно чувствительно-близких отношений между поэтом и его вдохновительницей, между мужчиной и женщиной.
Так читал эти отрывки и Погодин, который, комментируя «Лиодора», уверенно заявлял: «Это было, следовательно, в сентябре 1791 года» [353]353
Погодин М. П. Указ. соч. С. 191.
[Закрыть], «Аглая есть Настасья Ивановна Плещеева» [354]354
Там же. С. 193.
[Закрыть]. А приводя посвящение Аглае первой книжки «Московского журнала» на 1792 год, где говорилось: «Наступающий год не возвратит тебе того, чего лишилась ты в прошедшем», – поясняет, что речь идет об «Исидоре, который умер, следовательно, в 1791 году, по возвращении из деревни, где был осенью с Карамзиным и Агатоном» [355]355
Там же. С. 200.
[Закрыть].
Однако такое конкретно-биографическое прочтение (безвкусицы перечисления в одном ряду таких имен, как Исидор или Агатон, и фамилии Карамзина Погодин, видимо не ощущал) наталкивается на трудности и скорее характерно для определенной категории читателей, чем для художественной манеры Карамзина. Так, Настасья Плещеева имеет в творчестве Карамзина и другие поэтические имена, например Нанина. Более того, сам Погодин, встретив в «Лиодоре» упоминание могил Исидора и Агатона, должен был с недоумением признаться: «Я не понимаю этого места. Петров умер года через полтора: он читал еще «Лиодора», напечатанного в марте 1792 года, и вызывал Карамзина к окончанию повести: следовательно Карамзин говорит здесь не об его могиле? Следовательно под Агатоном в этой повести разумелся не Петров. Но как же Карамзин мог назвать одним именем два лица, и в таком кратком расстоянии времени! Или это – предчувствие?» [356]356
Там же. С. 192.
[Закрыть]Последняя фраза звучит комически.
Дело, конечно, в ином: «поэтические» варианты автобиографии следовали совсем другой логике и еще более свободно варьировали факты. Мы не знаем, каким должен был быть сюжет «Лиодора» (повесть не была окончена, но поэтика отрывка еще не оформилась, и Карамзин собирался ее дописать [357]357
См.: Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 31.
[Закрыть]). Видимо, речь должна была пойти о группе молодых людей, спаянных взаимной дружбой и любовью к поэзии. В № 11 «Московского журнала» за 1791 год Карамзин писал: «Еслибы у нас могло составиться общество из молодых,деятельных людей, одаренных истиннымиспособностями; еслибы сии люди – с чувством своего достоинства, но без всякой надменности,свойственной только низким душам – совершенно посвятили себя литературе, соединили свои таланты и при алтаре благодетельных муз обещались ревностно распространять всё изящное, не для собственной славы, но из благородной и бескорыстной любви к добру, если бы сия любезнейшая мечта моякогда-нибудь превратилась в существенность…»
Осуществить эту мечту не удалось, и Карамзин решил реализовать ее в «автобиографическом» повествовании. Итак, проза дополняла жизнь, а жизнь строилась по законам прозы. Литературный герой и автор сливались. И для читателя, и для самого Карамзина.
КРИЗИС
1792 год был для Карамзина трудным. Последовал разгром новиковского кружка. Сам Карамзин уцелел почти чудом. «Московский журнал» пришлось прервать, видимо, неожиданно для Самого издателя. «Лиодор» так и не был дописан. «Письма русского путешественника» перестали публиковаться на пороге Парижа. Однако 1793 год был еще труднее. В марте скончался Петров. Одновременно события в Париже принимали все более грозный характер: измена Дюмурье, восстание в Вандее, убийство Марата, процесс жирондистов, якобинская революция в мае– июне, – все свидетельствовало, что революция вступила в новую, кровавую, стадию. Закон о подозрительных от 17 сентября 1793 года положил начало «большому террору».
…Лето и осень 1793 года Карамзин провел в имении Плещеевых Знаменском. Здесь было написано историко-политическое размышление в двух письмах: «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору».
Произведение это, выражая душевное смятение его автора, имело, однако, глубокий теоретический смысл. Карамзин почувствовал, что великая эпоха, эпоха, которая открыла человечеству столько истин и возбудила столько надежд, – эпоха Просвещения, закончена. И тут же, не дожидаясь исторической дистанции, он попытался оценить происходящее.
Мелодор напоминает Филалету их общее увлечение идеями Просвещения, верой в прогресс и в добрую природу человека:
«Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в Истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам, и проливая сладкие слезы, восклицали: человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце! <…> Кто более нашего славил преимущества осьмагонадесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности». «Конец нашего века почитали мы концем главнейших бедствий человечества, и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью; что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их в точности, и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни» [358]358
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 438.
[Закрыть].
Слова эти – краткое, но исключительно выразительное резюме настроения людей эпохи Просвещения. Карамзин не излагает чьи-либо теории, а выражает общеенастроение. Поэтому отголоски Руссо и Канта, да и многих других мыслителей здесь свободно соединяются. Берется общее: дух оптимизма, вера в преображение человечества не когда-либо, не в отдаленном будущем, а именно сейчас, на глазах живущего поколения. И это не только книжная идея – это живая вера поколения конца XVIII века, его религия, то, что давало цель и смысл жизни. И это настроение именно конца 1780-х – самого начала 1790-х годов. Философы XVIII века парадоксально соединяли теоретический оптимизм с практическим пессимизмом. Они верили в человека, но не верили в осуществимость тех самых идей, которые считали единственно справедливыми. Ни Вольтер, ни Руссо, ни Мабли не подозревали, что взрыв так близок. Но те, кого штурм Бастилии застал молодыми, не только умом, но и всем существом своим поверили, что великое «соединение теории с практикой» настало, что им посчастливилось стать свидетелями конца «главнейших бедствий человечества».
Напрасно видеть в письмах Филалета и Мелодора воспроизведение точной биографической реальности, но «биография души» здесь воссоздана точно. Когда Карамзин писал эти строки, он, может быть, думал о разговорах с друзьями-датчанами в Швейцарии, с Вольцогеном в Париже или с Петровым в Москве или же вспоминал свои восторженные мысли при ночном чтении книг или во время прогулок по Елисейским полям после посещения Национального собрания. Но важно одно: он самзасвидетельствовал свою веру, свой энтузиазм. Он самнаписал о том, что великие идеи века были для него не умственной забавой, не игрой пресыщенного воображения, не модой – как это было для очень многих, а воздухом, жизнью, религией.
Тем страшнее было разочарование.
«О Филалет! где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своем основании!
Осьмойнадесять век кончается: что же видишь ты на сцене мира? – Осьмойнадесять век кончается, и нещастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!»
«…Где люди, которых мы любили? Где плод Наук и мудрости? Где возвышение кротких нравственных существ, сотворенных для щастия? – Век просвещения! я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя!» [359]359
Там же. С. 438–439.
[Закрыть]
Мы процитировали эти строки по собранию сочинений Карамзина. Но можно было бы выписать их и из другого источника – из «Писем с того берега» Герцена. Герцен – живой свидетель июньских дней в Париже 1848 года, переживший духовную драму разочарования в святых для него идеалах, выразил свою боль огромной выпиской из письма Мелодора к Филалету. «Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были написаны в конце девяностых годов – H. M. Карамзиным» [360]360
Герцен А. И. Указ. соч. Т. 6. С. 11–12.
[Закрыть] [361]361
Герцен ошибся: Карамзин написал эти слова в начале 1790 годов (точнее, осенью 1793). Но ошибка знаменательна: сам Герцен написал бы их в конце.
[Закрыть]. Курсивом Герцен как бы выразил свое удивление (интонационный адекват выражения «кем бы вы думали?»), настолько эти «огненные и полные слез» строки противоречили распространенным представлениям о Карамзине. Но мы видим, что они на самом деле не имели в себе ничего неожиданного. Обращают на себя внимание слова: «Где люди, которых мы любили?» Мы не можем ответить на вопрос, кого он вспоминал из тех, кого в Париже успел полюбить. К этому моменту уже всеего знакомцы – от Лавуазье и Шамфора до Робеспьера – погибли. По крайней мере, можно утверждать, что в роялистском лагере у Карамзина не было ни одной личнойпривязанности.
Конечно, легко себе представить дело так: Карамзин, умеренный либерал, испугался, увидав реализацию своих кабинетных мечтаний, и «из республиканца становится убежденным монархистом» [362]362
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М., 1945. С. 388.
[Закрыть]. Выражение «испугался» слишком часто употребляется для характеристики взглядов Карамзина в этот действительно критический момент. Карамзин не был столь «пуглив»; в 1798 году он набросал план похвального слова Петру I, где, в частности, писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместимо с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout [363]363
Великие люди видят только общее (фр.).
[Закрыть]. Но иногда и чувствительность торжествовала» [364]364
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862. С. 202.
[Закрыть]. Вряд ли, когда Карамзин набрасывал эти пункты, он мог не думать о другом, более близком, примере «некоторых жестокостей», тем более, что и здесь иногда «чувствительность торжествовала».
Чем же «испугала» якобинская диктатура [365]365
Мы употребляем здесь общепринятую формулу, хотя в таком виде она явно неточна. Идея диктатуры обсуждалась в парижской публицистике с первых дней революции и никого не пугала, так как с ней связывали отработанное в римском праве понятие временной военной власти в кризисных условиях. Такое понятие диктатуры только усиливало римский гражданственный колорит («Hannibal ante portas!»), так импонировавший деятелям революции всех направлений и, безусловно, не чуждый Карамзину. «Испугали» Карамзина, «оттолкнули» Радищева – «большой террор», события 4–5 сентября 1793 г., движение санкюлотов и восстание, руководимое Парижской коммуной, испугавшие и якобинцев.
[Закрыть]Карамзина, почему она оттолкнула Радищева? Дело, видимо, в том, что предшествующий этап революции воспринимался как реализация просветительских идей. Он был предсказан, ощущался как закономерный, к нему были психологически готовы. Более того, именно заним ожидалось наступление царства Разума и Справедливости. Он усилил и довел до предела просветительский оптимизм. Новый этап представлял собой критику, которой действительность подвергала идеи Просвещения. Приняв его, надо было признать вчерашнюю веру иллюзией. Надо было пережить то, что чувствует путник, который, проделав долгий и утомительный путь по снежной пустыне, видел уже огонь гостеприимного убежища и знал, что еще шаг – два, и все горести будут позади. И вдруг, подойдя к огню, увидал лишь догорающие бревна и понял, что он один в ледяной ночи, что путь только начинается, а куда идти – неизвестно.
Это было то чувство растерянности, которое охватывает путешественника, когда карты кончились.Такое чувство испытал Герцен, когда в Париже 1848 года сделался свидетелем подавления буржуазией народного восстания. Но история человеческой мысли – не география, и у нее совсем другие карты. Идеалы Просвещения, его лозунги, его требования свободы и равенства, идея прав человека, его гуманность и вера в высокое назначение Природы человека сохраняли свою ценность, особенно в России и в странах, не переживших революции, даже тогда, когда оптимистические иллюзии просветителей подверглись разоблачению, а вечность и безусловность этих лозунгов сделались сомнительными. От того, что русский путешественник заглянул в будущее, настоящее не перестало для него существовать. Оно не стало прошедшим, как в Париже.
Показательно: Карамзин, как позже Герцен в «С того берега», для того, чтобы выразить свои чувства и мысли, должен был прибегнуть к форме диалога. Мысль ищущая монологически не выражалась. Чтобы «найти себя», определить своеотношение к разрушающимся на его глазах ценностям, ему следовало разделить себя на два «я» и дать им в споре искать дорогу в ночи. И вновь, строя свою личность, он создавал модель для современников, строил личность своего читателя. Художественной структурой этого диалога Карамзин – и тут вновь приходит на память «С того берега» – утверждал, что в некоторые моменты духовной истории раздвоение личности необходимо – только оно делает эту личность в какой-то мере адекватной окружающему ее миру.
Второе «я» – Филалет [366]366
Филалет – с греч. «любитель истины», Мелодор – «имеющий дар песен» – поэт. Таким образом, диалог идет между философской и поэтической сторонами личности человека.
[Закрыть]. Филалет – путешественник, недавно вернувшийся в свое отечество. Это – автобиографично. Но путешествие его фантастично: он странствовал от Северного полюса до знойной Африки. Впрочем, мечты о далеких путешествиях не покидали Карамзина. Таким образом, и здесь автобиография, но «внутренняя», а не реальная.
Филалет утешает Мелодора. Утешение его – в создании другой, противоположной, концепции истории. Он продолжает верить в добрую сущность человека и в просвещение и прогресс как основные законы истории: «В одном просвещении найдем мы спасительный антидот (противоядие. – Ю. Л.) для всех бедствий человечества! – Кто скажет мне: науки вредны, ибо осьмойнадесять век, ими гордившийся, ознаменуется в книге бытия кровию и слезами;тому скажу я: «Осьмойнадесять век не мог именовать себя просвещенным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и слезами» [367]367
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 454.
[Закрыть].
Подобно тому, как эксцессы фанатизма и религиозные преследования не пятнают самой веры, а свидетельствуют лишь о незрелости человеческого ее восприятия, события французской революции не могут бросить тени на способность людей к прогрессу, на ценность идей Просвещения и на веру в человека. Революция – эксцесс, прогресс – закон. Эта идея Филалета сделается на многие годы линией разделения между реакционной и либеральной мыслью в России. Первая будет утверждать, что революция есть плод «разрушительной философии», и требовать перенесения на Вольтера и Энциклопедию (а после 1812 года и на всю французскую культуру) того отлучения, которому подверглись в официальной печати имена Мирабо, Робеспьера и Марата. Шишков в 1813 году призывал своего клеврета Я. И. Бардовского, которого он прочил в историки 1812 года: «Не худо кратким и нечувствительным образом войти в историческое рассмотрение нравственности галльского народа, где откроется широкое поле говорить о ядовитых книгах их, о развратных правилах, о неистовых делах, породивших чудовищную революцию» [368]368
Шишков А. С. Двенадцать собственноручных писем… Спб., 1841. С. 16.
[Закрыть]. Что же касается до тех, кого Шишков считал «зараженными» французским влиянием (а к ним он, имея в виду Карамзина, относил тех, кто «твердит о словах эстетика, образование, просвещениеи тому подобных»), то о них он писал: «Я бы ткнул их носом в пепел Москвы и громко им сказал: вот чего вы хотели!» [369]369
Там же. С. 13 и 17.
[Закрыть]
Либеральная же концепция, которой потом, после 1812 года, станут придерживаться арзамасцы и будущие деятели декабризма, исходила из утверждений Филалета о том, что век Просвещения, Вольтер, Руссо, философы-энциклопедисты не несут ответственности за кровавые события конца века. Их мысль принадлежит человечеству, а не одной Франции, и недопустимо смешивать в одну кучу защиту семейства Каласа и Сервена и пожар Москвы. Все плохое в истории человечества происходит не от просвещения, а от его недостаточности. Филалет видит в прогрессе волю божества и космический закон вселенной. Знакомство Филалета с «Опытом исторического исследования прогресса человеческого разума» Кондорсе, этой итоговой книгой Просвещения XVIII века, сомнительно (книга вышла в 1797 году). Тем более знаменательно совпадение хода мысли.
Итак – два голоса. То, что последнее слово остается за Филалетом, – не решение спора. Он не завершен. Показательно, что Герцен оспорил Филалета и присоединился к Мелодору. Филалет не принимает теории Вико об исторических циклах и восклицает: «Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества» [370]370
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 455.
[Закрыть]. А Герцен в «Эпилоге» «С того берега» цитирует Вико и пишет: «К концу XVIII века европейский Сизиф докатил тяжелый камень свой, составленный из развалин и осколков трех разнородных миров, до вершины». Но камень вновь сорвался, «а бедный Сизиф смотрит и не верит своим глазам, лицо его осунулось, пот устали смешался с потом ужаса, слезы отчаяния, стыда, бессилия, досады остановились в глазах; он так верил в совершенствование, в человечество, он так философски, так умно и учено уповал на современного человека. – И все-таки обманулся» [371]371
Герцен А. И. Указ. соч. Т. 6. С. 110–111.
[Закрыть].
Внутренняя жизнь требовала: обдумать, постараться понять.
Внешние обстоятельства говорили, что оставаться в Москве, на виду у властей, – небезопасно.
Карамзин уехал в орловское поместье Плещеевых Знаменское. Он выехал 22 июня 1793 года и пробыл там до конца ноября. В апреле 1794 он уже снова в Знаменском, проводит там лето. В начале мая 1795 года он снова там – до зимнего пути, декабря 1795 года. Этот период его жизни может быть назван «знаменским».








